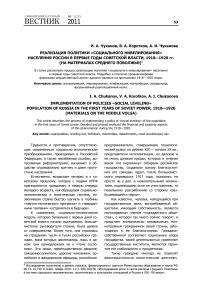Реализация политики «социального нивелирования» населения России в первые годы советской власти, 1918-1920 гг. (на материалах Среднего Поволжья)
Автор: Чуканов Иван Альбертович, Коротков Владимир Алексеевич, Чуканова Александра Ивановна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен процесс реализации политики «социального нивелирования» населения в первые годы советской власти. Подробно и поэтапно проанализирован финансово-имущественный аспект данного явления на протяжении 1918-1920 годов.
Экспроприация, нивелирование, конфискация, контрибуция, заградотряд, чрезвычайный революционный налог
Короткий адрес: https://sciup.org/14113585
IDR: 14113585
Текст научной статьи Реализация политики «социального нивелирования» населения России в первые годы советской власти, 1918-1920 гг. (на материалах Среднего Поволжья)
Трудности и противоречия, сопутствующие современным социально-экономическим преобразованиям, проводимым в Российской Федерации, а также неизбежные ошибки, допускаемые реформаторами, вызывают в обществе справедливую критику и даже протестные настроения.
Естественно, возрастает интерес и к советскому прошлому, которое с подачи КПРФ преподносится гражданам, в первую очередь молодого возраста, как образцовая социальноэкономическая и политическая система, позволившая стране быстро шагнуть в глубины «научно-технического прогресса» и «невиданными темпами» «устремиться в будущее».
К сожалению, социально-политическая модель, которую буквально с первых дней советской власти начали выстраивать большевистские руководители страны, была далека от совершенства. Более того, она строилась на страданиях тысяч и тысяч российских граждан, вина которых заключалась лишь в одном: они принадлежали не к «тому сословию». Эти люди, преимущественно дворяне, священнослужители, царские чиновники, армейские и жандармские офицеры, российские предприниматели, совершившие технологический рывок на рубеже XIX — начала XX вв., представители интеллигенции, их далекие и не очень далекие предки, которые в течение веков «по кирпичику» собирали российское государство, создавали основу благосостояния его граждан, вдруг, после большевистского переворота 1917 года, оказались не просто не у дел, а нежелательными элементами, подлежащими если не уничтожению, то повальному разграблению со стороны «разбушевавшейся черни».
Как известно, человек, находящийся при государственном деле, востребованный обществом, имеющий собственность, является полноправным членом «гражданского общества», о котором так много сейчас говорят, и предстает экономически независимым, полноправным гражданином своей страны, заботящимся о ее благосостоянии. Граждане-собственники составляют социальную опору государства, своей деятельностью укрепляют государственные институты, являются гарантом его стабильности и процветания.
Такие граждане никогда не позволят авантюристичным политическим деятелям, какими предстают большевики после Октябрьской революции, отнять у граждан их гражданские права на счастливую жизнь, собственность, право создавать семейное благополучие для себя и своих детей. Они никогда не позволят создать человеконенавистническую «диктатуру пролетариата», к которой стремилась случайно пришедшая к власти РКП (б). К несчастью нашей страны и ее многострадального народа, вектор развития страны в правильном направлении внезапно изменился. Лишенная всякой социальной и исторической содержательности, Октябрьская революция 1917 года, столетний юбилей которой ожидается через какие-нибудь 6 лет, все больше и больше предстает перед нашим взором несчастным случаем, перечеркнувшим естественный ход развития предреволюционной России, страны богатой, трудолюбивой, стоявшей на верном пути к укреплению недавно зародившихся демократических институтов.
Лидеры большевиков прекрасно понимали, что для того чтобы «обаранить» коммунистической идеологией многомиллионные массы людей, им необходимо было «избавиться» не только от оппозиции, но и от состоятельных сословий граждан, которые потенциально могли быть опорой оппозиционеров. Вот что заявлял в сентябре 1918 года один из руководителей большевиков, Григорий Зиновьев, на страницах газеты «Северная коммуна»: «Чтобы успешно бороться с нашими врагами, мы должны иметь собственный, социалистический гуманизм. Мы должны завоевать на нашу сторону девяносто из ста миллионов жителей России под советской властью. Что же касается остальных, нам нечего им сказать. Они должны быть уничтожены» [1].
Коммунистическая печать быстро подхватила эти человеконенавистнические «идеи». «Трудящиеся, — писала «Правда» 31 августа 1918 года, — настал час, когда мы должны уничтожить буржуазию, если мы не хотим, чтобы буржуазия уничтожила нас. Наши города должны быть беспощадно очищены от буржуазной гнили. Все эти господа будут поставлены на учет, и те из них, кто представляет опасность для революционного класса, уничтожены. <...> Гимном рабочего класса отныне будет песнь ненависти и мести!» [2].
О том, как большевики в ходе организованного ими «красного террора» физически уничтожали инакомыслящих, написано много книг, монографий, научных публикаций, и эта проблема историками раскрыта достаточно полно. По данным С. П. Мельгунова, «молох красного террора» только в годы Гражданской войны уничтожил 28 епископов, 1 219 священников, 6 тыс. профессоров и учителей, 9 тыс. врачей, 54 тыс. офицеров, 260 тыс. солдат, 70 тыс. полицейских, 19 950 помещиков, 35 525 интеллигентов, 193 290 рабочих и 815 тыс. крестьян (то есть всего около 1 777 тыс. человек). Деникинская комиссия по расследованию злодеяний большевизма также насчитала 1,7 млн жертв [3].
Предметом нашего рассмотрения будет не физическое, а финансовое и имущественное «уничтожение» состоятельных сословий России. Большевикам, для того чтобы затащить в свое «светлое коммунистическое царство» лояльное к их политике население России, необходимо было лишить собственности городское и сельское население. В городах проживали крупные, средние и мелкие чиновники, приказчики и сотрудники частных фирм, товариществ, сотрудники правоохранительных органов (полицейские, судьи, прокурорские работники), военнослужащие, интеллигенция, а также крупные, средние и мелкие предприниматели. Кроме того, в городах проживала достаточно многочисленная прослойка промышленных рабочих, работников небольших мастерских и производственных цехов, кооперативных тружеников, ремесленников, которых чисто условно можно было отнести к рабочим.
Если исключить высококвалифицированных рабочих, которые имели достаточно высокое жалованье, то число тех категорий, которым, говоря словами К. Маркса, нечего было терять, «…кроме своих собственных цепей», было не так много. Это промышленные рабочие и кооперативные мастеровые, прислуга, мелкое чиновничество, извозчики, а также значительное количество деклассированных элементов, перебивающихся случайными заработками. В процентном отношении «городские низы» не превышали 30—35 %. Городские низы в своей основной массе Октябрьский вооруженный переворот встретили восторженно, с ликованием.
Остальные горожане относились к числу состоятельных и достаточно богатых граждан. Октябрьские события они встретили на- стороженно, значительная часть из них сразу же перешла в оппозицию политики большевиков, остальные заняли выжидательную позицию, надеясь, в большинстве своем, на скорое падение ненавистного режима.
Вначале коммунистические власти обрушились на состоятельных горожан , настроив против них бесчинствующую толпу своих сторонников. Следует сказать, что наиболее дальновидные из их числа, предчувствую надвигающуюся вакханалию, еще в 1917 году распродали практически за бесценок свое имущество и ушли либо с белыми, либо эмигрировали за рубеж, тем самым спасли свои жизни, имущество и жизни близких. Тех, кто не пожелал убегать либо уезжать (а таких было подавляющее большинство), большевики сразу же стали подстраивать под свои «жизненные стандарты».
Ограбление и имущественное нивелирование «под нищенские стандарты» горожан большевиками было организовано и проведено в четыре этапа . Сразу же после установления советской власти в Среднем Поволжье в ноябре-декабре 1917 года большевистские власти начали ограбление горожан. Начался первый этап экономического ограбления граждан. Первоначально объектом их внимания стали крупные капиталы: банковские и промышленные. Эта политика четко вписалась в практическую реализацию грабительских мер во время «красногвардейской атаки на капитал». На частных предпринимателей власти обрушили так называемые «контрибуции». К концу 1918 года политика сбора «контрибуций» значительно ужесточилась. В конце ноября 1918 года вышел знаменитый циркуляр отдела управления губернией № 2991, в котором было предписано брать заложников из «числа кулаков», буржуазии, содержать их до тех пор, пока родственники задержанных не выплатят требуемую сумму [4]. Иногда контрибуции производились в виде так называемого «единовременного налога на буржуазию», принимавшего немыслимые размеры, и окончательно «добили» частное предпринимательство [5]. В результате частное предпринимательство было коренным образом подорвано, а власти ликвидировали значительную часть налогооблагаемой базы.
В Средневолжских губерниях удар был нанесен не только по промышленному, но и по торговому предпринимательству. Так, в
Самарской губернии вся частная торговля была полностью запрещена с 29 января 1918 года. С этого периода времени местные власти начинают в массовом количестве преследовать частных торговцев и спекулянтов [6]. Одновременно с этим в губернии начался процесс конфискации частных магазинов и лавок. Подобные меры приняли и власти Казанской губернии. Однако, в отличие от соседних губерний, этот процесс был растянут по времени. Так, к концу 1918 года в г. Казани было конфисковано 66 частных магазинов и 11 торговых лавок. Некоторое время продолжали находиться в частных руках магазины игрушек, мебели, а также часовые, музыкальные и ювелирные лавки [7]. В Симбирской губернии также прошли массовые реквизиции продовольствия и промышленных товаров у частных лиц [8].
Узаконенные реквизиции у владельцев частных лавок представляли собой не что иное, как узаконенное «ограбление богатых». Зачастую основанием для национализации частного магазина служило повышение ими розничных цен на товары из-за объективных условий, диктуемых рынком. Например, в Симбирской губернии из-за «высоких цен на лекарства» в апреле 1918 года были безвозмездно конфискованы все аптеки. После этого все лекарства из продажи исчезли вообще [9]. Скоро все торговые точки и склады были разграблены и конфискованы.
В ходе этой кампании разграблению подверглись и банковские вклады горожан, однако власти «пока» сделали исключение, конфисковали драгоценности граждан, хранящиеся в банках, и вклады, размеры которых превышали 10 000 рублей. Для начала 1918 года это были довольно большие деньги. «Пока» они остались еще в «распоряжении» граждан. Затем власти взяли курс на финансовое ограбление вкладчиков банков в «интересах пролетарского государства». Эти положения нашли своё отражение и в основном законе страны. В принятой в 1918 году Конституции РСФСР в статье 24 было записано: «...финансовая политика РСФСР имеет форму... диктатуры трудящихся, способной выполнить основную задачу... сломить эксплуататорскую буржуазию и подготовить условия для всеобщего равенства граждан России... в области производства и распределения богатств. В этих целях она ставит себе задачу представить в распоряжение органов Советской власти необходимые средства... для удовлетворения... общественных нужд Советской республики, не останавливаясь перед правом вторжения в право частной собственности».
Власти начали с насильственного изъятия сбережений граждан, хранящихся в банках. Это были огромные средства. В бывшем Симбирском городском банке было отнято ценностей, предоставленных на хранение клиентами на сумму 245 тысяч 600 рублей, и ценностей, вложенных в банковские вклады частных лиц, на сумму 521 тысяча 761 рубль (в ценах 1913 года). В Симбирском обществе взаимного кредита были отняты деньги вкладчиков на сумму 1 миллион 599 тысяч 363 рубля [10].
Было разграблено и имущество граждан, хранящееся в казанских банках. Всего во всех казанских коммерческих частных банках хранилось 1 052 сейфа с имуществом, принадлежащим гражданам. С ними поступали так: сейфы начали вскрывать, извлечённые из них деньги и драгоценности или передавали отделениям Народного банка (крайне незначительно), или отправляли в Москву (абсолютное большинство), или в виде исключения отдавали владельцам (с некоторыми оговорками). Всего было создано несколько комиссий по разбирательству с имуществом, находящимся внутри сейфов граждан. По оценкам финансовых руководителей губернии, комиссия работала плохо, практически никакого учета изъятого не велось, акты не составлялись. Однако даже те ценности, что были учтены, позволяют судить о наличии огромного количества экспроприированных богатств граждан. Было изъято 5,7 фунтов золота в слитках, платиновая монета, золотая монета на 19 тысяч довоенных рублей, серебро на 7 тысяч рублей, иностранная валюта, 2 фунта золотых украшений и драгоценных камней, кредитные билеты на сумму 1 миллион 353 тысячи рублей. 28 апреля 1919 года большая часть изъятых у населения ценностей была отправлена в Москву [11].
Вторая волна экспроприации личного имущества, сданного на хранение в банки, проходила в Казани с 26 февраля по 24 июня 1919 года. В ее состав вошли представители Народного банка, губернского финансового отдела, Госконтроля, отдела юстиции и экс- перты. Эта комиссия работала более эффективно. Учёт вёлся подробный, кое-что из имущества отдали владельцам, преимущественно из числа тех, кто изъявил желание сотрудничать с новыми властями. Однако основная часть драгоценностей была конфискована в счёт уплаты «чрезвычайного революционного налога». В июне 1919 года большая часть изъятого несколькими рейсами была также отправлена в Москву. Вот перечень изъятого при владельцах: золотых монет — на 15 рублей, серебром — 14 рублей, золотых изделий — 3 фунта, серебряных изделий — 48 фунтов, бриллиантов — на 26 карат, процентных бумаг — на сумму 203 тысячи рублей, бумажных денег — 2 460 рублей.
Гораздо больше было изъято имущества у отсутствующих арендаторов: золотых изделий — 1 пуд 6 фунтов, драгоценностей из золота с драгоценными камнями — 71 шт., серебряных изделий — 15 пудов 38 фунтов. Кроме того, было изъято 282 золотых, 21 платиновая монета, 1 002 серебряные монеты, бриллиантовых украшений на 247 карат, 1 фунт жемчуга, 2 фунта серебра, акции французских компаний на 30 250 франков, кредитных билетов и дензнаков на 29 тысяч 635 довоенных рублей.
Оставалось сделать один шаг — объявить о безоговорочной экспроприации в доход государства денег и ценностей, принадлежащих гражданам и находящихся в бывших банках. В Казанской губернии это произошло 13 марта 1919 года. Решение было оформлено постановлением губисполкома. По оценке самих должностных лиц Казанской губернии, «одним махом... были списаны... в пользу Республики» вклады с текущих счетов тех лиц, которые на 1 января 1918 года превышали 10 тысяч рублей. Было официально также заявлено, что «...Российская республика сняла с себя обязательства по отношению к «казанским буржуям» на 5 857 000 рублей в ценах 1913 года...» [12]. В Самаре это произошло 1 марта 1918 года, вскоре аналогичное решение было принято и в Симбирской губернии. Подобное происходило и в целом по стране. Эти незаконные по своей сути мероприятия проводились по прямому указанию Центра. Так, в Казанской губернии конфискация личных вкладов была осуществлена согласно телеграмме НКВД № 3844 от 25 декабря 1918 года [13].
Экспроприации подверглись даже вкладчики государственных сберегательных касс. Здесь после прихода к власти большевиков также были введены большие ограничения на снятие денег с текущих счетов. Сначала все счета были переведены в отделение текущих счетов Наркомфина ТАССР (который временно принял на себя функции сберегательного банка). На 1 января 1921 года осталось 62 629 вкладов на сумму 18 миллионов 253 тысячи рублей. Так как деньги снимать не давали, в результате гиперинфляции они обесценились. Люди на них просто «махнули рукой». Забегая вперед, нужно отметить, что впоследствии, в 1921 году, были открыты 586 новых вкладов на сумму 5 343 000 рублей. Это в масштабе цен 1921 года было очень мало, по объему не превышало 0,1 % дореволюционных вкладов. Татарский СНК отмечал «безразличное отношение вкладчиков» к своим вкладам. Население стремилось свои средства переводить в продукты, товары, внести в виде пая в сохранившиеся кооперативы. Поэтому в апреле 1921 года было принято решение: предложить вкладчикам забрать свои деньги. Всего было выдано 120 вкладов (!!!) на сумму 258 тысяч рублей, остальные деньги были зачислены в «доход казны» [14]. Так что в 1918—1921 гг. государственные органы Татарстана самочинно сняли с себя обязательства ещё на 18 миллионов 253 тысячи довоенных рублей теперь уже по отношению к «небуржуям».
Однако главным способом ограбления состоятельных горожан стали так называемые «контрибуции». Кто разрешил их взимать? Вопрос этот до сих пор остаётся загадочным. Когда мировое сообщество, узнав о тех безобразиях, которые творятся в Советской России после 1917 года, потребовало разъяснений у советского правительства, там поспешили отмежеваться от фактов насильственного сбора «контрибуций», назвав представленные факты «проявлением инициативы местных властей», которая с некоторыми «оговорками» была поддержана ВЦИК [15, с. 34]. Однако авторам данного исследования удалось разыскать в архивах документы, которые неопровержимо доказывают, что «контрибуции» на местах взимались по указанию Центра. Достаточно привести телеграмму НКВД о необходимости и порядке взимания «контрибуций» и об обложении «контрибуцией» бур- жуазии [16]. Главными принципами, по которым осуществлялся сбор «контрибуций», являлись полная бесконтрольность со стороны Центра и огромные полномочия, выданные в решении этих вопросов местным органам власти. Сбор «контрибуций» можно с полной ответственностью назвать актом экономического террора, организованным центральными и местными органами большевистской власти.
После реставрации большевистской власти в губерниях Среднего Поволжья начался второй этап «ограбления» состоятельных граждан. От первого этапа он отличался тем, что в это время были ограблены наиболее состоятельные граждане — крупные дворяне-землевладельцы, переехавшие после разграбления их имений в города, крупные и средние предприниматели, крупные чиновники, а также оппозиционеры, чиновники КОМУЧа. После восстановления советской власти в Среднем Поволжье в сентябре-октябре 1918 года губернские и уездные чрезвычайные комиссии быстро вычислили и арестовали этих людей, многие из которых были казнены, а их имущество конфисковали.
После того как все крупные капиталы были разграблены, большевики взялись за средние и мелкие капиталы, на которые ими накладывались так называемые «контрибуции». Практиковалось насильственное снятие со счетов граждан в банках в пользу собираемой «контрибуции» денежных сумм. Отделения, например, Симбирского Народного банка, были заполнены требованиями с других губерний типа ходатайства отдела Народно-сельского хозяйства Спасского уезда Казанской губернии местного уездного совета за № 1965 от 31 мая 1918 года с просьбой снять и перечислить с личного счета гражданина М. Д. Кузмичёва в Симбирском отделении Народного банка 25 000 рублей [17]. В 1919 году «контрибуции» были уже разрешены в «официальном законодательном» порядке. Они организовывались в соответствии с требованиями директивы Наркомфина и Правления Народного банка № 672 от 31 мая 1919 года за № 972. Эта директива вышла как дополнение к декрету ВЦИК от 25 апреля 1919 года № 23065. Согласно требованиям этих документов местным органам власти и финансовым отделам было разрешено накладывать арест и производить конфискацию всех известных капиталов, принадлежащих частным лицам, снимать деньги со счетов в сберкассах и сохранившихся кредитных учреждениях. Ответственными за проведение «контрибуций» были назначены уполномоченные лица филиалов Народного банка и казначейства [18].
В обстановке полной безнаказанности и произвола осуществлялось взимание «контрибуций» и в Самарской губернии. Здесь также брали с кого только возможно и сколько возможно, повсеместно накладывали «контрибуции» на бедняков и членов семей красноармейцев [19]. В Симбирской губернии в ходе «контрибуций» удалось «выкачать» из «капиталистов», «кулаков», простых крестьян и горожан 211 миллионов 711 тысяч рублей, дошло дело до того, что «контрибуцией» в конце 1918 года было обложено и отделение Народного банка, откуда «революционным путём» было «взято» 8 050 000 рублей, правда, после вмешательства Центра было возвращено 4 млн рублей [20].
Во время второго этапа пришла очередь всех остальных граждан, считавшихся до революции состоятельными. Началу массовых социальных чисток послужило обращение Симбирского губкома РКП (б) к коммунистам и советским работникам от 3 декабря 1918 года: «В город Симбирск возвратилось, особенно в последнее время, много буржуазного офицерства, попов, чиновников, барынек и прихлебателей, которые распространяют разными способами ложь и нелепые провокационные слухи, мутят население города... поэтому следовало бы принять суровые меры тому, кому надлежит обуздать всю эту сволочь, дабы не было проведено контрреволюционной работы этими гадами» [21].
Никто из них не остался «в стороне», кроме лиц, сумевших «втереться в доверие» новым властям. Преследованиям и расправам, которым сопутствовала конфискация имущества, подверглись крупные государственные чиновники, бывшие жандармы, полицейские, сотрудники прокуратуры и судебные чиновники, часть бывших офицеров, которые не пожелали вступать в РККА и на которых практически на всех был приклеен ярлык «врагов народа». Их имущество подверглось повальному разграблению, а сами они были выселены вместе с семьями из своих квартир. Многие из них были заключены в концлагеря или расстреляны.
После этого власти приступили к «социальным» экспроприациям и чисткам по отношению ко всем «подозрительным гражданам». «Победившие» большевики откровенно издевались над «побежденными». Одна большевистская газета писала в номере от 26 апреля 1919 года: «Карась любит, чтобы его жарили в сметане. Буржуазия любит власть, которая свирепствует и убивает. Если мы расстреляем несколько десятков этих негодяев и глупцов, если мы заставим их чистить улицы, а их жен мыть красноармейские казармы (честь немалая для них), то они поймут тогда, что власть у нас твердая, а на англичан и готтентотов надеяться нечего» [22].
Другие граждане, которые до революции считались состоятельными, были просто ограблены. В их числе оказались мелкие предприниматели, лавочники и торговцы, владельцы магазинов, средние и мелкие чиновники, священники, интеллигенция, дворяне, которые остались в городах. Были отняты не только личные вещи, найденные золото и драгоценности, предметы антиквариата, но и все накопленные запасы продовольствия, обнаруженные в квартирах. Теперь «контрибуции» распространились уже на имущество отдельных граждан. Вооруженные лица, непонятно какой принадлежности, предъявляли непонятно кем подписанные «мандаты», ходили по квартирам и отнимали все, что нравилось. В Средневолжских губерниях, как и в целом по стране, развернулась кампания по массовому насильственному изъятию у населения драгоценностей, золотых и серебряных вещей, ранее в коммерческих банках были изъяты все хранящиеся там драгоценности граждан. Несколько раз власти требовали у населения под страхом расстрела сдать все имеющиеся у них драгоценности в отделения Народного банка [23].
По всем городам развернулись обыски и облавы, неприкосновенность личности, жилища, а порой и самой жизни в связи с этим потеряла всякий смысл. Одновременно кампании по массовому изъятию золотых вещей были проведены в лагерях военнопленных, оставшихся на территории губерний со времён Первой мировой войны [24]. С декабря 1918 года было категорически запрещено проведение всевозможных лотерей. У населения Самарской губернии в ходе массовых реквизиций и обысков было изъято драгоценностей на 250 тысяч рублей, подобные меро- приятия были осуществлены и в Казанской губернии [25]. В Пензенской губернии специальным решением местные власти конфисковали «в пользу казны» не только все ценности, найденные у граждан, но и имеющиеся в ювелирных магазинах [26]. В Казанской, Самарской, Симбирской губерниях частным лицам — держателям крупных сумм денег было предложено под страхом ареста сдать всю наличность в отделения банка, на руках разрешалось иметь не более 2 000 рублей, по всей губернии проводились массовые обыски и аресты лиц, у которых были обнаружены крупные суммы денег [27].
Практически не было ни одной неограбленной семьи, ни одной квартиры, жильцы которой считались до революции состоятельными. «В соответствии с решениями Совета трудящихся, сегодняшний день 13 октября 1918 года объявлен Днем экспроприации буржуазии, — можно было прочесть в «Известиях Симбирского Совета рабочих депутатов» от 13 октября 1918 года. — Принадлежащие к имущим классам должны заполнить подробную анкету, перечислить имеющиеся у них продукты питания, обувь, одежду, драгоценности, велосипеды, одеяла, простыни, столовое серебро, посуду и другие необходимые для трудового народа предметы. <...> Каждый должен оказывать содействие комиссии по экспроприации в ее святом деле. <...> Тот, кто не подчинится распоряжениям комиссии, будет немедленно арестован. Сопротивляющиеся будут расстреляны на месте». Как признавали сами «чекисты» в циркуляре местным филиалам своей службы, все эти «экспроприированные» предметы шли в карманы чекистов и других командирчиков из реквизиционных отрядов, из отрядов «Красной Гвардии», которые в этих обстоятельствах плодились беспрестанно.
В Самарской, Казанской, Симбирской и Пензенской губерниях в ходе сбора ЧРН были конфискованы все частные художественные коллекции, имеющие ценность [28]. В массовом порядке конфисковывалось церковное имущество и личные вещи священников [29]. Эти мероприятия проводились под контролем НКВД, которое прислало телеграмму за № 10151 от 13 ноября 1918 года, в которой подробно расписало, как проводить поборы и на какие категории населения обратить «повышенное внимание» [30].
Но и за пределами жилищ, на улице, гражданин мог в любое время быть подвергнут обыску и полному разграблению, включая верхнюю одежду. В массовом количестве всевозможными постами и заградительными отрядами отнималось продовольствие и другое имущество у горожан, которые пытались его, чтобы не умереть с голоду, вывезти из деревни. В ноябре 1918 года только в Алатыр-ском уезде Симбирской губернии у населения было изъято заградотрядовцами и местными властями товаров на 2,5 млн рублей [31]. Подобное положение дел было и в других губерниях. После того как было разграблено имущество граждан, пришла очередь их жилья и недвижимого имущества. Вторым «актом» экспроприации была конфискация квартир и загородных домов «буржуазии». Многие были просто выброшены из квартир, некоторым «счастливчикам» были отведены каморки в их бывших квартирах и домах. А в их квартиры быстро переехали семьи рабочих и советских чиновников [32].
В 1919 году и в г. Самаре была проведена кампания массового выселения с занимаемых квартир и отправления в сельскую местность с конфискацией всего личного имущества бывших представителей состоятельных до революции сословий и социальных групп [33]. Подобное положение было и в других губерниях. В г. Симбирске в 1919—1920 гг. люди были выселены из 333 домов и отправлены в сельскую местность [34]. Массовые реквизиции личного имущества граждан имели место и в Казанской губернии в с. Арск, Васильево, Ометьево [35]. В Самарской губернии у бывших купцов, промышленников было конфисковано всё загородное жильё [36].
Третий этап разграбления имущества горожан начался в январе 1919 года. Он был связан с взиманием так называемого «чрезвычайного революционного налога». Это варварское разграбление все еще остающегося имущества граждан было организовано в масштабе всей страны. По этому поводу были приняты специальные декреты ВЦИК и СНК [37]. Для Симбирской губернии была «спущена» разнарядка на 150 миллионов рублей [38], для Самарской — 445 миллионов [39]. Главным субъектом налога в очередной раз была определена «буржуазия» и богатые горожане. Вновь, как и с «контрибуциями», были установлены «сжатые сроки». Это было нереально, так как к осени 1918 года население городов было ограблено предыдущими поборами [40, с. 285]. Поэтому власти при обкладывании различных слоёв населения ЧРН в Казанской и других губерниях руководствовались дореволюционным статусом граждан [41]. Очень скоро ЧРН распространился на все слои населения [42]. В Симбирской губернии очень большие надежды возлагались на суммы, остающиеся на счетах граждан в Народном банке. Оказалось, что там осталось только 2,5 миллионов рублей, которые сразу же были конфискованы в доход государства [43].
В Казанской губернии местные власти запретили снимать деньги со счетов в банках, и люди вынуждены были расплачиваться за ЧРН только продавая личное имущество [44]. Здесь также применяли к неплательщикам «суровые революционные» меры, в числе которых было отдание под суд «революционного трибунала», осуждение с формулировкой «неподчинение Советской власти». Максимальный срок, который устанавливался здесь для сдачи ЧРН, составлял 2 недели, зачастую за такие «проступки» применялись расстрелы [45].
Советская власть занималась и открытым публичным грабежом, например, на рынках. Местные власти часто проводили внезапные облавы и реквизиции на рынках. При этом они сразу решали 2 задачи: создавали обстановку страха и неуверенности у торговцев и обывателей и затыкали прорехи в государственном обеспечении отдельных категорий населения. Этими мероприятиями в регионе руководили контрольно-реквизиционные отделы горпродкомов и губпродкомов [46]. По свидетельству многочисленных очевидцев, эти мероприятия проводились примерно по следующей схеме: внезапно рынки оцеплялись отрядами вооружённых людей, как, например, в Симбирске 7 июля 1920 года. Начиналась повальная конфискация продовольствия с погрузкой реквизированного на специально подошедшие подводы. Взятое у торговцев не записывалось, не учитывалось, многое исчезало в мешках и карманах людей, производящих реквизицию, квитанций о конфискации товаров и продуктов не выдавалось, с запертых лавок срывались замки, их содержимое также изымалось [47]. К концу 1920 года в городах к числу наиболее «состоятельных граждан» относились советские чиновники и партийные функционеры, кото- рые неплохо обставили свои жилища награбленным добром.
Гораздо меньше, чем горожанам, повезло сельским жителям. У них в ходе вышеупомянутых волн государственно-грабительских кампаний, в отличие от горожан, было изъято не только личное имущество и банковские (кооперативные) вклады, но и продовольствие. Именно большевистская власть подвела их под страшный голод 1921—1922 гг., что является общеизвестным фактом. Однако вышеупомянутые этапы ограбления крестьян имеют несколько иные временные рамки и другое фактическое наполнение.
Первый этап ограбления сельских жителей большевистским государством начался в губерниях Среднего Поволжья в мае 1918 года, когда был принят декрет о создании комбедов и направлении в деревни продотрядов для организации продовольственной разверстки. Однако, в отличие от городских жителей, повальный грабеж деревни в это время практически провалился, так как сельские жители сумели отбить этот первый натиск со стороны большевистского государства и отстоять в большинстве населенных пунктов свое добро. Причем на их имущество, в особенности на продовольствие, зарились не только большевистские власти, но и чиновники правительства КОМУЧа. Однако и у тех и у других ничего не вышло.
Второй этап ограбления сельских жителей был самым страшным, самым массовым и тотальным, хотя и непродолжительным (октябрь 1918 — конец марта 1919 года). Правительство в ходе этого этапа снарядило и вооружило громадные воинские формирования — продотряды, заградительные отряды, войска Охраны Республики, части ЧОН, подразделения регулярной Красной армии для выполнения задач государственного ограбления крестьян. Одновременно, претворяя на практике политику «разделяй и властвуй», оно разделило сельских жителей на три категории: зажиточных (кулаков), средних крестьян и бедняков. Из числа бедняков были организованы так называемые комбеды, которые наряду с продотрядами превратились в главное средство тотального ограбления сельских жителей.
В ходе второго этапа прошло несколько волн тотального ограбления сельских жителей. В ходе первой волны (январь-сентябрь 1918 г.) большевистские власти конфискова- ли имущество зажиточных крестьян, поддержавших белых, разгромили крестьянскую кооперацию, ликвидировали крупные крестьянские банковские вклады в ходе разгрома российской банковской системы.
Вторая волна была более мощной, нежели первая. Советская власть была реставрирована, правительство КОМУЧа изгнано, поэтому большевики серьезно взялись за деревню. В октябре — середине декабря 1918 года создается основная масса комбедов, в деревне появляются многочисленные продотряды и воинские подразделения, занимающиеся мобилизацией лошадей. Крестьянские хозяйства лишились десятков тысяч лошадей, причем в счет продразверстки отобранных лошадей крестьянам не засчитали. Прошла повальная продразверстка, когда у крестьян были отобраны подчистую все товарные запасы зерна. Меры принимались самые жестокие. Если у крестьян находили припрятанные продукты, то конфисковывали не только их, но и все вещи, представляющие ценность [48]. Одновременно многие богатые крестьяне подверглись первому «раскулачиванию», когда отнятое имущество не считалось сданным ни в счет продразверстки, ни в счет так называемых «контрибуций».
Что касается так называемых «контрибуций», то им были подвергнуты в эту волну не только зажиточные крестьяне, пережившие первую волну «раскулачивания», но и средние и даже бедные крестьяне. Основными жертвами контрибуций стало сохранившееся имущество крестьянских кооперативов. Однако является полным заблуждением утверждение, что так называемые «контрибуции» были уделом одних лишь зажиточных крестьян. В Самарской, Симбирской губерниях местные власти облагали так называемой «контрибуцией» непокорные сёла, волости, жители которых выступали против насильственных массовых реквизиций продовольствия зимой 1918 — весной 1919 года [49]. В свете телеграммы НКВД губисполком принял резолюции от 4 и 9 октября 1918 года за №№ 18369 и 19247. Было предписано наложить «контрибуции» на всех «кулаков». Ответственными были назначены сельские, волостные, уездные Советы и комбеды. В документах, кроме всего прочего, было особо оговорено право накладывать контрибуции на всех тех, кто может их выполнить. В число обложенных
«контрибуциями» попали священники, врачи, учителя, агрономы и даже середняки и бедняки. Размер контрибуции местные власти устанавливали «по усмотрению местных органов власти», что создавало почву для злоупотреблений [50].
Наибольшее число злодеяний и бесчинств при сборе контрибуций совершали так называемые комитеты бедноты. Их деятельность в этом направлении отличалась такими принципами, как полная бесконтрольность со стороны вышестоящих органов власти, произвол, сведение личных счетов, репрессии. Примеров подобного чрезвычайно много. Вот типичный факт. В деревне Старые Мартли Буинского уезда Казанской губернии комбед наложил контрибуции на богатых крестьян, достигавшие 40 000 рублей. Этим поборам подверглись также середняки и даже бедняки из числа тех, кто открыто выступил против творимого произвола. Никаких расписок не выдавалось, учёта награбленного не велось. У крестьян отбиралось не только продовольствие, но и носильные вещи, скот, постройки, птица, домашняя утварь. Тех, кто отказывался или не мог выплатить требуемую сумму, запирали в амбар и держали там сутками. За выполнение просьбы арестованных справить естественную надобность с них брали по 200 рублей «контрибуционных». Всё это беззаконие сопровождалось повальным пьянством, бесчинствами и оргиями комбедовцев и членов сельсовета [51].
Не лучше дело обстояло со сбором «контрибуций» и в Казанской губернии. Если гражданин попал первоначально в категорию «богатей», то он должен был выплатить не менее 400 рублей. Если взять Чистопольский уезд Казанской губернии, то «контрибуции» взимались примерно по следующей схеме: собирались на сход жители какого-либо села, им назначали сроки и сумму для выплаты «контрибуции». Облагались не только богачи и так называемые «кулаки», но и бедняки. На некоторых накладывали «контрибуции» до 20 000 рублей. Если не укладывались в «отведённые» сроки, начинались повальные обыски и реквизиции [52].
И на этом напасти со стороны большевистских правителей не прекратились. Не успели крестьяне оправиться от «раскулачивания», плановой и внеплановой продразверстки, мобилизации лошадей и «контрибуций», как на них обрушился «чрезвычайный революционный налог», взимание которого в том виде, как он был организован, многие исследователи считают зловредным актом государственного вредительства. Его взимание можно отнести к категории «государственнобольшевистского рэкета». Так как главным богатством была признана земля, 90 % налога было переложено на плечи крестьян и только 10 % — на долю горожан [53].
Все государственные учреждения на местах буквально были завалены жалобами горожан и крестьян на творимый беспредел. В селе Пилна Курмышского уезда Симбирской губернии комбед арестовал 40 так называемых «кулаков» и в тридцатиградусный мороз посадил их в холодный амбар, чтобы принудить выплатить ЧРН, через трое суток шестеро из них замёрзли [54]. Огромное количество злоупотреблений было отмечено в Спасском, Цивиль-ском и Ядринском уездах Казанской губернии [55]. Местные власти в своих отчётах даже и не пытались скрывать, что основная тяжесть по выплате ЧРН в Казанской губернии легла на плечи «середняков» [56].
Обстановка в деревне была «гнетущей», о чем свидетельствуют воспоминания очевидцев. Так, А. Ивенин в начале 1919 года писал из Саранского уезда наркому внутренних дел Г. И. Петровскому: «При взимании чрезвычайного налога применяются пытки мрачного средневековья. Крик «Расстреляю!» раздается гораздо чаще, чем при крепостном праве раздавался крик «Запорю!». В некоторых деревнях так называемые «коммунистические ячейки» и комбеды облагают отдельные дома обедами, а потом берут с хозяев контрибуцию за недостаточно вкусно приготовленный обед. Никакие возражения со стороны граждан не допускаются, и в особенности не любят здесь ссылок на декреты… Производят же все это люди, до революции известные местному населению с самых дурных сторон, люди зачастую с уголовным прошлым» [57, с. 106—107]. Массовые изъятия продовольствия у крестьян производили и эвакуированные в Казань учреждения и части [58].
В Симбирский губисполком летом 1919 года обратился с жалобой крестьянин села Гаврилово Сызранского уезда Злобин, который писал: «…прошу Вас объяснить: справедливо ли со мной поступил местный волостной Совет? Вначале у меня в виде «чрезвычайно- го налога» забрали все накопленные до революции деньги — 6 000 рублей и при этом не выдали квитанцию. Затем, когда я спросил про квитанцию, избили меня плетьми и прикладом винтовки. Потом у меня отобрали весь хлеб. Вначале на часть суммы выдали квитанцию, а затем вернулись и отобрали ее. Потом отобрали двух быков и корову, также отказавшись выдать квитанции. Когда я пришел в свой сельский Совет и возмутился, меня обещали посадить в «дом ареста» или выслать с семьей за «антисоветскую пропаганду» [59].
Для того чтобы узаконить ограбление крестьян в ходе сбора контрибуций, чрезвычайного революционного налога и продразверстки, впервые в человеческой практике местные власти ввели минимальные нормы владения имуществом крестьянами. В Симбирской губернии крестьянин не мог иметь более 2—3 рабочих лошадей, 2—3 коров, 7—10 овец, 1 свиноматки. За этими установленными нормами зорко следили комбеды, которые при появлении «излишков» имущества сразу же проводили конфискацию. В Самарской губернии также существовали искусственно введённые ограничения на владения имуществом. Только принцип регулирования здесь был несколько иной. Этими вопросами здесь также занимались комбеды и Советы. Количество скота и инвентаря определялось исходя из количественного состава семьи, однако нормы владения и здесь были очень низкими. Если в ходе проверки у крестьянина обнаруживалось превышение установленных «норм», то имущество у крестьян изымалось по ценам 1917 года, то есть фактически отнималось бесплатно. При этом строго учитывалась категория, в которую был отнесён крестьянин. Если местный комбед признавал его «кулаком», то имущество у него изымалось без выкупа [60]. Третья волна государственного ограбления крестьянства была самой разрушительной. Она завершилась в марте 1919 года, когда крестьяне в массовом количестве восстали, защищая в ходе «Чапанного восстания» не только свою свободу и личное благополучие, но и право на саму жизнь.
Третий, завершающий этап ограбления крестьянства продлился начиная с апреля 1919 года и до перехода к НЭПу, хотя в 1921—1922 гг. взимание продналога из вконец разоренных крестьянских хозяйств мало чем отличалось от взимания продразверстки.
Во-первых, сохранилась разорительная продразверстка, когда у крестьян отобрали не только урожай 1919 года, но и так называемый неприкосновенный запас, который крестьяне испокон веков оставляли на «чёрный день», т. е. на случай засухи, неурожая и т. п. Это впоследствии скажется и в 1920, и особенно в 1921 году, когда страну поразит тотальный голод. Продразвёрстка проводилась как непрерывная [40, с. 178], так и путём массовых кампаний. Планы сдачи продовольствия часто менялись в сторону увеличения, и поэтому крестьянин не был уверен, что окончательно в какой-либо период времени рассчитался с государством.
Всё продовольствие подчистую отбирали и оставляли продукты в таком мизерном количестве, что уже через 3—3,5 месяца в этих населённых пунктах начинался настоящий голод. Власти, чтобы выполнить разнарядку, спущенную с Центра, не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. На членов сельских и волостных Советов в этих районах обрушивались ещё более жестокие, чем в 1919 году, кары. Их подвергали контрибуциям, поголовно экспроприировали имущество, а их самих и членов их семей в массовом количестве арестовывали и отправляли в концентрационные лагеря [61].
Архивные данные рисуют картину всеобщего разорения и народного горя. У крестьян Ждановской волости Курмышского уезда Симбирской губернии отобрали практически последний кусок хлеба, последние семена, всех коров и лошадей. Дополнительно к этому потребовали сдать по 5 фунтов коровьего масла и по 2 пуда свинины, которые пришлось закупать на рынке, продав последние крохи хлеба. Дошло дело до того, что местные коммунистические власти, куражась, потребовали у крестьян «добыть» и сдать 300 беличьих шкурок [62].
В докладе Сенгилеевского исполкома губернскому руководству говорится о том, что наложенная продразвёрстка оказалась для крестьян непосильной. Хлеб властями был отобран практически полностью. Проведённые в уезде обследования показали, что хлеба для питания крестьянских семей осталось на 1,5—2 месяца. Из-за отсутствия семян озябливание не было произведено, яровые не были засеяны вообще. И это в хлебной житнице губернии [63]! Своеобразным итогом политики продразвёрстки в Симбирской губернии является доклад комиссии по обследованию положения крестьян председателю губисполкома 12 марта 1921 года. Он рисует мрачную картину повсеместного продовольственного кризиса и всеобщего разорения, массовых грабежей в деревнях, когда голодные люди из-за куска хлеба с лёгкостью идут на убийство. Многие заканчивают жизнь самоубийством, чтобы избежать мук голодной смерти [64]. Голод 1921 года здесь, как и в целом в регионе, был следствием проводимой властями продовольственной политики, прямым её итогом.
Во-вторых, взимание контрибуций и «чрезвычайного революционного налога» продолжилось (фактически до конца 1919 года), однако теперь эти акции носили адресный характер . Малейшее недовольство жестоко пресекалось. В городе Козьмодемьянске в начале 1919 года за отказ продать членам комбеда по бросовым ценам мёд крестьянина Охотникова обложили контрибуцией в 100 000 рублей, весь мёд отобрали как у «антиобщественного элемента» задаром, в уплату «контрибуции» конфисковали большую часть имущества [65].
«Дубина» «чрезвычайного революционного налога» теперь чаще всего обрушивалась на голову непокорных. 10 декабря 1919 года непомерным ЧРН были обложены крестьяне села Малая Кандала Мелекесского уезда Самарской губернии Марьин и Матросов за то, что они открыто возмутились произволом, творимым местными властями. На них было наложено 200 тысяч ЧРН, всё их имущество в счёт его уплаты было конфисковано, а сами они были отправлены в концентрационный лагерь [66]. Массовые конфискации личных вещей в ходе сбора ЧРН проходили среди семей красноармейцев, середняков и даже бедняков [67]. В Казанской губернии сбор ЧРН принимал форму массовых обысков, конфискаций личного имущества граждан, повальных арестов [68].
В-третьих, в 1918—1920 гг. прошла волна изъятий сельскохозяйственного инвентаря, который, по мнению большевистских властей, крестьяне получили из разграбленных помещичьих имений. Во многих сёлах были проведены повальные обыски у окрестных крестьян. Большая часть инвентаря у крестьян, независимо от того, получили они его из раз- громленных помещичьих имений или нет, при этом была изъята. Последняя, наиболее массовая кампания по отъему сельскохозяйственного инвентаря у крестьян прошла в 1920 году. В 1920 году, спустя 2 года после массового разграбления частновладельческих имений, трудно было разобраться, что у крестьян на руках имеется из числа разграбленного имущества, поэтому ходили по дворам и отнимали всё, что нравилось и имело добротный вид [69].
В ходе обеспечения гужевой повинности местными властями в губерниях, в частности в Казанской, были приняты драконовские меры. Согласно постановлению губисполкома от 22 июля 1919 года весь гужевой транспорт у крестьян, который превышал по численности 1 телегу и 1 лошадь на семью, был конфискован, все лошади и брички в деревнях были пронумерованы, и если власти обнаруживали повозку без номера, немедленно конфисковывали без компенсации [70]. В деревнях людей могли выселить из принадлежащих им домов в любое время. Этих случаев было очень много. Показателен пример крестьянина Петра Курмаева из села Мидаево Ардатов-ского уезда Симбирской губернии. Местные коммунисты захотели создать свой сельский клуб. С этой целью они выселили его вместе с семьёй из принадлежащего ему дома [71].
Таким образом, главной целью проводимой политики являлось выбивание финансово-экономической почвы из-под ног бывших правящих классов, а также ликвидация финансово-экономической независимости широких социальных слоев населения и подчинение их коммунистическим государственным структурам. В результате многочисленные слои населения России стали «заложниками» проводимой властями социально-экономической и финансовой политики, что облегчило их дальнейшее тотальное закабаление коммунистическим государством. Всё это вместе взятое наряду с другими факторами привело к резкому, катастрофическому снижению уровня жизни в стране.
-
1. См., напр.: Красный террор в годы Гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков / под ред. Ю. Фельтишин-ского и Г. Чернявского. М., 2004.
-
2. Правда. 1918. № 56. 31 авг.
-
3. См.: Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918—1923. Изд. 5-е. М., 1990. С. 79. Ясно, что многие данные о красном терроре, введенные в научный оборот Мельгуновым, довольно приближенные, а некоторые весьма проблематичны.
-
4. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 113. Л. 10.
-
5. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л.219.
-
6. ГАСО. Ф. 52. Оп. 2. Д. 13. Л.18.
-
7. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 50. Л.197.
-
8. Центр документов новейшей истории Ульяновской области (далее — ЦДНИ УО). Ф. 57. Оп. 1. Д. 200. Л. 22.
-
9. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 122. Л. 117.
-
10. ГАУО. Ф. 183. Оп. 8. Д. 45. Л. 55.
-
11. Там же. Л. 6.
-
12. Там же. Л. 9.
-
13. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 23.
-
14. НАРТ. Ф. 3452. Оп. 1. Д. 50. Л. 9.
-
15. Труды Всероссийского съезда заведующих финансовыми отделами. М., 1919.
-
16. ЦДНИ УО. Ф. 57. Оп. 1. Д. 125. Л. 2—3.
-
17. ГАУО. Ф. 573. Оп. 1. Д. 21. Л. 39.
-
18. ГАУО. Ф. 573. Оп. 1. Д. 21. Л. 46.
-
19. ГАСО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 147. Л. 123.
-
20. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 112. Л. 11.
-
21. Цит. по: ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 120. Л. 44.
-
22. Известия Одесского Совета рабочих депутатов. № 36. С. 1.
-
23. ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 125. Л. 124.
-
24. ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 125. Л. 124.
-
25. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л. 33—55 об.
-
26. ГАПО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13. Л. 143.
-
27. ЦДНИ УО. Ф. 57. Оп. 1. Д. 200. Л. 22.
-
28. ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 10. Л. 42.
-
29. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 624. Л. 29. Д. 120. Л. 34; Д. 54. Л. 1.
-
30. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 129.
-
31. Там же. Л. 40.
-
32. Там же. Л. 89—91.
-
33. ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 60.
-
34. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 202. Л. 17.
-
35. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 35.
-
36. ГАСО. Ф. 56. Оп. 8. Д. 3. Л. 19.
-
37. Декреты Советской власти. Т. 3. С. 465.
-
38. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 2. Л. 36.
-
39. ГАСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 7. Л. 12.
-
40. Гражданская война в Поволжье. Казань: Татарское книжное изд-во, 1974.
-
41. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 39.
-
42. Там же.
-
43. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 2. Л. 213.
-
44. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 179. Л. 61.
-
45. НАРТ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 33. Л. 80.
-
46. ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 368. Л. 23.
-
47. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 124. Л. 101.
-
48. ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 72.
-
49. ГАРФ. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 660. Л. 120.
-
50. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 113. Л. 4.
-
51. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 392. Л. 4—5.
-
52. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 11.
-
53. Там же. Л. 213.
-
54. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 271. Л. 91.
-
55. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 39.
-
56. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 53 об, 56 об.
-
57. См.: Судьбы российского крестьянства. М.,
-
58. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 35.
-
59. ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 54. Л. 27.
-
60. ГАУО. Ф. 127. Оп. 4. Д. 8. Л. 7.
-
61. ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 22, 72.
-
62. ГАУО. Ф. 200. Д. 870. Оп. 2. Л. 235.
-
63. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 263. Л. 5.
-
64. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 404. Л. 108.
-
65. НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 13.
-
66. ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 39.
-
67. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 21. Л. 45.
-
68. НАРТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 203. Л. 47.
-
69. ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 52.
-
70. НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 168. Л. 18—18 об.
-
71. ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 599. Л. 32.
-
Список литературы Реализация политики «социального нивелирования» населения России в первые годы советской власти, 1918-1920 гг. (на материалах Среднего Поволжья)
- Красный террор в годы Гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков/под ред. Ю. Фельтишинского и Г. Чернявского. М., 2004.
- Правда. 1918. № 56. 31 авг.
- Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918-1923. Изд. 5-е. М., 1990. С. 79.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 113. Л. 10.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л. 219.
- ГАСО. Ф. 52. Оп. 2. Д. 13. Л. 18.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 50. Л. 197.
- Центр документов новейшей истории Ульяновской области (далее -ЦДНИ УО). Ф. Оп. 1. Д. 200. Л. 22.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 122. Л. 117.
- ГАУО. Ф. 183. Оп. 8. Д. 45. Л. 55.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 23.
- НАРТ. Ф. 3452. Оп. 1. Д. 50. Л. 9.
- Труды Всероссийского съезда заведующих финансовыми отделами. М., 1919.
- ЦДНИ УО. Ф. 57. Оп. 1. Д. 125. Л. 2-3.
- ГАУО. Ф. 573. Оп. 1. Д. 21. Л. 39.
- ГАУО. Ф. 573. Оп. 1. Д. 21. Л. 46.
- ГАСО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 147. Л. 123.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 112. Л. 11.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 120. Л. 44.
- Известия Одесского Совета рабочих депутатов. № 36. С. 1.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 125. Л. 124.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 125. Л. 124.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л. 33-55 об.
- ГАПО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13. Л. 143.
- ЦДНИ УО. Ф. 57. Оп. 1. Д. 200. Л. 22.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 10. Л. 42
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 624. Л. 29. Д. 120. Л. 34; Д. 54. Л. 1.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 129.
- ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 60.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 202. Л. 17.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 35.
- ГАСО. Ф. 56. Оп. 8. Д. 3. Л. 19.
- Декреты Советской власти. Т. 3. С. 465.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 2. Л. 36.
- ГАСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 7. Л. 12.
- Гражданская война в Поволжье. Казань: Татарское книжное изд-во, 1974.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 39.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 2. Л. 213.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 179. Л. 61.
- НАРТ. Ф. 152. Оп. 1. Д. 33. Л. 80.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 368. Л. 23.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 124. Л. 101.
- ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 72.
- ГАРФ. Ф. 2700. Оп. 1. Д. 660. Л. 120.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 113. Л. 4.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 392. Л. 4-5.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 11.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 271. Л. 91.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 39.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 53 об, 56 об.
- Судьбы российского крестьянства. М., 1995.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 35.
- ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 54. Л. 27.
- ГАУО. Ф. 127. Оп. 4. Д. 8. Л. 7.
- ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 22, 72.
- ГАУО. Ф. 200. Д. 870. Оп. 2. Л. 235.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 263. Л. 5.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 404. Л. 108.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 61. Л. 13.
- ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 39.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 21. Л. 45.
- НАРТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 203. Л. 47.
- ГАУО. Ф. 2720. Оп. 1. Д. 11. Л. 52.
- НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 168. Л. 18-18 об.
- ГАУО. Ф. 200. Оп. 2. Д. 599. Л. 32.