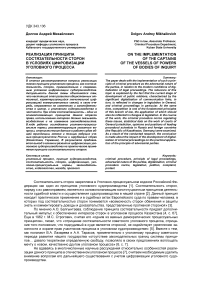Реализация принципа состязательности сторон в условиях цифровизации уголовного процесса
Автор: Долгов Андрей Михайлович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы реализации такого принципа уголовного процесса, как состязательность сторон, применительно к современным условиям цифровизации судопроизводства. Актуальность данной темы объясняется тем, что настоящий этап развития общественных отношений, характеризующийся значительной цифровизацией коммуникативных связей, в свою очередь, отражается на изменениях и законодательства в целом, и уголовного судопроизводства в частности. При этом состязательность - один из основополагающих принципов данной отрасли права, использование которого должно оказывать воздействие и на изменение законодательства. В ходе работы исследованы уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие указанные вопросы, статистические данные о работе судов общей юрисдикции, мнения и позиции ведущих ученых-процессуалистов России и зарубежных стран (Казахстана, Германии). В результате предлагается вывод о влиянии развития цифровизации уголовного судопроизводства на практическое применение принципа состязательности сторон.
Уголовный процесс, принцип судопроизводства, состязательность сторон, цифровизация, уголовно-процессуальные нормы, законодательство, ходатайство, жалоба, протест
Короткий адрес: https://sciup.org/149134375
IDR: 149134375 | УДК: 343.136 | DOI: 10.24158/tipor.2020.11.15
Текст научной статьи Реализация принципа состязательности сторон в условиях цифровизации уголовного процесса
Состязательность сторон закреплена в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации как один из принципов уголовного судопроизводства [1]. Состязательность сторон, наряду с их равноправием, является и основополагающим конституционным принципом деятельности судебной власти и осуществления судопроизводства в нашей стране [2]. Данный принцип находит практическое применение и в судебных актах Европейского суда по правам человека, в которых под состязательностью сторон понимается «возможность сторон обвинения и защиты знать и комментировать доводы и доказательства, представленные противной стороной» [3].
По мнению А.О. Балгынтаева, соблюдение принципа состязательности придает дополнительный импульс к обеспечению интересов сторон в уголовном процессе Казахстана [4, с. 67]. Еще в 1962 г. М.С. Строгович, считая его «одним из важных демократических процессуальных принципов», писал, что «отрицание состязательности советского уголовного процесса, отрицание того положения, что подсудимый в суде является стороной, не содействует укреплению законности и охране прав участников процесса в уголовном судопроизводстве» [5]. Вместе с тем, как полагают В.А. Лазарева и А.А. Тарасов, применительно к уголовному процессу советского периода развития нашего государства «отсутствие законодательных границ системы принципов… давало теоретикам определенную свободу, позволяло в своих предложениях воплощать мечту о новом, качественно другом уголовном процессе» [6, с. 7].
Не вдаваясь в многочисленные научные рассуждения относительно особенностей реализации данного принципа в отечественном уголовном процессе [7], считаем необходимым уделить внимание вопросам его дальнейшего существования с учетом цифровизации уголовного судопроизводства.
Как отмечал профессор В.А. Семенцов, «современная цифровая реальность обуславливает необходимость существенной модернизации различных сфер социальной жизни, включая правоохранительную деятельность» [8, с. 52]. Трудно не согласиться в этой части и с категорическим мнением видных ученых-процессуалистов о том, что цифровизацию, под которой понимается переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств, необходимо рассматривать в качестве наиболее оптимального регулятора большинства современных общественно-правовых отношений [9].
По мнению германского ученого И. Рихтера, именно Интернет занимает центральное положение в качестве нового носителя информации, и с этой точки зрения цифровизация судопроизводства может быть воспринята как распространение Интернета и доступа к судопроизводству посредством Мировой сети [10].
Дальнейшая цифровизация современного отечественного уголовного судопроизводства неизбежна. Однако возникает закономерный вопрос, заключающийся в том, как развитие цифровизации данной отрасли может повилять на соблюдение принципа состязательности сторон?
Федеральным законом № 220-ФЗ от 23 июня 2016 г. внесены изменения в УПК РФ, дополненный новой статьей 474.1 «Порядок использования электронных документов в уголовном судопроизводстве» [11], согласно которой ходатайство, заявление, жалоба, представление могут быть поданы в суд в порядке и сроки, установленные УПК РФ, в форме электронного документа. Указанные процессуальные документы различаются не только наименованием, но и источниками.
В частности, представление является актом прокурорского реагирования, т. е. его автором всегда выступает прокурор, представляющий сторону обвинения. Автором ходатайства может быть представитель как стороны обвинения (прокурор, следователь, потерпевший и др.), так и стороны защиты (обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и др.), что позволяет говорить о равноправии сторон в реализации права на направление в суд исходящих от них документов.
За 2019 г. судами общей юрисдикции всего рассмотрено 2 758 тыс. (по числу лиц) различного рода ходатайств, представлений и жалоб, из которых 106 тыс. – ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 217 тыс. – о продлении срока содержания под стражей [12]. Указанные цифры значительны, и направление в суд ходатайств, заявлений, жалоб и представлений в электронном виде, несомненно, служит средством достижения процессуальной экономии, хотя как принцип уголовного процесса процессуальная экономия М.С. Строгови-чем оценивалась с критической точки зрения [13, с. 51]. Однако, по нашему мнению, процессуальная экономия имеет право на существование в уголовном процессе в том случае, когда она не возводится в норму-принцип и не имеет приоритета над необходимостью соблюдения прав и интересов участников судопроизводства.
В предыдущих работах мы уже обращали внимание на то, что законодательная регламентация электронной формы документооборота между участниками уголовного процесса, несомненно, отвечает целям уголовного судопроизводства и служит гарантией соблюдения прав его участников [14], а также на то, что цифровизация судопроизводства должна иметь целью оптимизацию такой деятельности путем применения достижений научно-технического прогресса [15, с. 98]. Полагаем, что использование цифровых технологий в уголовном судопроизводстве является следующим витком эволюционного развития уголовного процесса и уголовно-процессуальная политика должна строиться с учетом необходимости увеличения доли цифровизации и внедрения подобных технологий в уголовный процесс.
В итоге отметим, что, по нашему мнению, цифровизация уголовного процесса за счет таких элементов, как упрощение процедуры заявления и принесения ходатайств, жалоб и представлений, цифровая фиксация времени их заявления, вынесение решения по результатам их рассмотрения, повлечет за собой качественно новый уровень реализации принципа состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, поскольку лишит возможности суд отдавать предпочтение точке зрения какой-либо из сторон в ходе процессуальной процедуры рассмотрения поступивших документов и вынесения по ним решения.
Ссылки:
-
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ : утв. Федер. законом от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : в ред. от 2 авг. 2019 г. // Российская газета. 2001. 22 дек.
-
2. Конституция РФ : принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. : с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
-
3. См., например: Постановление ЕСПЧ от 20 февр. 1996 г. по делу «Вермюлен (Vermeulen) против Швеции». § 33 // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. В 2 т. М., 2000. Т. 2. С. 176–177.
-
4. Балгынтаев А.О. Некоторые вопросы реализации принципа осуществления уголовного судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон в Республике Казахстан // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2018. № 1 (50). С. 60–68.
-
5. Строгович М.С. О состязательности и процессуальных функциях в советском уголовном судопроизводстве // Правоведение. 1962. № 2. С. 106–114.
-
6. Памятники российского права. В 35 т. Т. 29. Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР : учебно-научное пособие / под общ. ред. В.А. Лазаревой, Р.Л. Хачатурова. М., 2016. 605 с.
-
7. См., например: Воскобитова Л.А. Состязательность и истина: взаимоисключение или взаимодополнение // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10 (47). С. 2119–2129 ; Леонова Т.В., Костенко Р.В. Роль и полномочия суда в доказывании на стадии судебного разбирательства в условиях состязательности // Общество и право. 2009. № 2 (24). С. 188–191 ; Лукожев Х.М. Процессуальные проблемы отказа государственного обвинителя от обвинения в суде // Современные проблемы развития уголовного процесса, криминалистики, оперативно-разыскной деятельности : сборник материалов конференции. М., 2013. С. 67–74 ; Семенцов В.А., Диденко Е.С. Реализация принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе России: история и современность // Очерки новейшей камералистики. 2017. № 1. С. 42–45 ; Ульянов В.Г., Герасимова Т.Ю. Реализация принципа состязательности при рассмотрении судом ходатайств органов предварительного следствия и дознания о временном отстранении подозреваемого (обвиняемого) от должности // Евразийский юридический журнал. 2017. № 8 (111). С. 263–265 ; Шахкел-дов Ф.Г. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве // Общество и право. 2006. № 1 (11). С. 110–112 ; Яновский А.С. Иные документы как инструмент обеспечения состязательности сторон в российском уголовном процессе // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2016. № 4 (29). С. 38–39.
-
8. Семенцов В.А. Цифровизация правоохранительной деятельности и роботизация юридической профессии // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2019. № 1. С. 52–56.
-
9. Gladysheva O.V., Kostenko R.V., Sementsov V.A. Digitization: Problems of Use and Protection of Information in Criminal Proceedings // Studies in Computational Intelligence. 2019. Vol. 826. P. 395–401.
-
10. Richter I. Die Digitalisierung des Alltags // Staat, Verwaltung, Information. Festschrift für Hans Peter Bull zum 75. Geburtstag / Herausgeber: V. Mehde, U. Ramsauer, M. Seckelmann. Berlin, 2011. Bd 1195. S. 1041–1042.
-
11. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти : Федер. закон от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ // Российская газета. 2016. 29 июня.
-
12. Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном суде РФ : официальный сайт. 2019. URL: (дата обращения: 29.10.2020).
-
13. Строгович М.С. О единой форме уголовного судопроизводства и пределах ее дифференциации // Социалистическая законность. 1974. № 9. С. 50–53.
-
14. Долгов А.М.: 1) Адвокат в электронном уголовном деле // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2019. № 1. С. 59–62 ; 2) Достижение назначения уголовного судопроизводства в условиях цифровизации уголовного процесса // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 1 (23). С. 56– 59.
-
15. Долгов А.М. Цифровизация судопроизводства как составляющее современной судебной реформы в России // Судебная реформа в современной России: результаты, проблемы и перспективы : материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной 100-летию Кубанского государственного университета / отв. ред. В.А. Се-менцов. Краснодар, 2020. С. 93–100.
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Герасимова Валентина Евгеньевна
Список литературы Реализация принципа состязательности сторон в условиях цифровизации уголовного процесса
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ: утв. Федер. законом от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ: в ред. от 2 авг. 2019 г. // Российская газета. 2001. 22 дек
- Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: с учетом поправок, внесенных законами РФопоправках к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398
- См., например: Постановление ЕСПЧ от 20 февр. 1996 г. по делу "Вермюлен (Vermeulen) против Швеции". § 33 // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. В 2 т. М., 2000. Т. 2. С. 176-177
- Балгынтаев А.О. Некоторые вопросы реализации принципа осуществления уголовного судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон в Республике Казахстан // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2018. № 1 (50). С. 60-68
- Строгович М.С. О состязательности и процессуальных функциях в советском уголовном судопроизводстве // Правоведение. 1962. № 2. С. 106-114