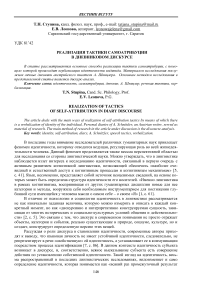Реализация тактики самоатрибуции в дневниковом дискурсе
Автор: Ступина Т.Н., Леонова Е.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 1 (46), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные способы реализации тактики самоатрибуции, с помощью которой происходит вербализация идентичности индивида. Материалом исследования послужили личные дневники австрийского писателя А. Шницлера. Основным методом исследования в представленной статье является дискурс-анализ.
Идентичность, самоатрибуция, дневник, а. шницлер, речевая тактика, вербализация
Короткий адрес: https://sciup.org/142142816
IDR: 142142816 | УДК: 81’42
Текст научной статьи Реализация тактики самоатрибуции в дневниковом дискурсе
В последние годы внимание исследователей различных гуманитарных наук привлекает феномен идентичности, которому отводится ведущая, регулирующая роль во всей жизнедеятельности человека. Данный феномен представляется также весьма перспективной областью для исследования со стороны лингвистической науки. Можно утверждать, что в лингвистике наблюдается взлет интереса к исследованию идентичности, связанный в первую очередь с активным развитием когнитивной лингвистики, позволяющей обеспечить «наиболее очевидный и естественный доступ к когнитивным процессам и когнитивным механизмам» [5, с. 41]. Язык, несомненно, представляет собой источник неоценимых сведений, на основе которых может быть определена структура идентичности его носителей. «Именно лингвистика в рамках когнитивизма, воспринявшая от других гуманитарных дисциплин новые для нее категории и методы, вооружила себя необходимым инструментарием для постижения глубинной сути имеющейся у человека мысли о самом себе – о своем «Я» [1, с. 61].
В отличие от психологии и социологии идентичность в лингвистике рассматривается не как изначально заданная величина, которую можно измерить и описать в каждый конкретный момент, но как «дискурсивно и интерпретативно конструируемая сущность, зависящая от многих исторических и социально-культурных условий общения и действительности» [2, с. 5]. Это связано с тем, что дискурс в современном понимании не просто отражает объекты, категории и события, реально существующие в природе, социуме, культуре, но и создает, конструирует определенную версию этих вещей.
Рассуждая о роли дискурса в становлении идентичности, современные авторы приходят к выводу, что языковая личность не имеет устойчивой идентичности, следовательно, не репрезентирует в речи «свойственную» ей идентичность, а устанавливает ее в коммуникации посредством процесса идентификации [7, c. 86]. В данном контексте идентичность субъекта возникает в дискурсе, и, соответственно, всякое высказывание субъекта есть совершение действия по установлению собственной идентичности. Такой взгляд на идентичность, весьма распространенный в последних лингвистических исследованиях, видоизменяет и само определение идентичности, которая понимается как «всякий раз промежуточный результат непрерывного процесса идентификации посредством использования дискурсивных практик» [3, с. 160].
В качестве когнитивных механизмов, благодаря которым становится возможным формирование идентичности, психологами обычно называются процессы самоатрибуции, инте-риоризации и социального сравнения. Мы рассматриваем данные механизмы как речевые тактики, способствующие реализации глобальной стратегии вербализации своей идентичности. Рамки статьи не позволяют остановиться на каждой из этих тактик, поэтому внимание автора будет сосредоточено лишь на одной из них, а именно на тактике самоатрибуции и ее реализации в личном дневнике известного австрийского писателя А. Шницлера [9] (в дальнейшем TB). Основными методами исследования в представленной статье являются метод лингвистического моделирования и дискурсивный анализ.
Упомянутый тип текста выбран в качестве материала для анализа не случайно: так, по мнению многих исследователей дневникового жанра, именно личный дневник, не предназначенный изначально для печати, предстает как способ, попытка «поиска или создания собственного Я», «выработки собственной идентичности» [8, с. 3]. Следует также добавить, что для А. Шницлера стремление разобраться в себе, уяснить свою внутреннюю сущность являлось насущной потребностью, что нашло свое отражение на страницах дневника.
Единицей анализа идентичности принято считать самоидентифицирующее высказывание (СИВ), представляющее собой результат вербализации самоидентифицирующего суждения. Е.Н. Катанова дает следующее определение: «Под СИВ понимается высказывание, которым говорящий вербализует суждение о своей идентичности, включая себя в какой-либо класс, приписывая себе какое-либо свойство, качество, динамический или статический признак» [4, с. 4]. Стандартные СИВы строятся в своем большинстве по следующим моделям, подлежащее в которых представлено местоимением первого лица единственного числа ( ich ):
Pron 1s + cop 1s + Adj (Ich bin muthlos*.)
Pron 1s + cop 1s + N 1 (Ich bin ein Narr!)
В качестве варианта второй схемы можно рассматривать предложения с именем прилагательным в роли определения в составе именного сказуемого (Ich bin so ein elender Genussmensch.) или с отрицанием: (Ich bin kein Lebenskünstler.) Возможно также сочетание указанных компонентов (Ich bin kein blasirter Mensch.)
В связи со сложностью и неоднородностью феномена идентичности самоидентифицирующие высказывания также отличаются большим разнообразием. По этой причине указанные выше модели предложений не являются единственными в исследуемом диаристическом тексте. Так, можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся структурные схемы:
N 1 + Vf + N 3 ( Der Journalismus widerstrebt meiner angeborenen Art und Weise. )
N 1 + Vf + N 4 ( Ich habe zur Medizin keine hervorragende Begabung. )
N 1 + cop + N 3 + Adj ( Alles chirurgische ist mir zuwider.)
В большинстве случаев представленные модели оказываются включенными в более сложные конструкции, с трудом поддающиеся моделированию. Это связано в первую очередь с особенностями самого дневникового жанра, для которого характерна естественность устной речи, сопряженная с попыткой зафиксировать процесс развертывания мысли. Данная фиксация естественным образом не успевает за мыслями, что накладывает отпечаток на синтаксические особенности. В связи с этим в качестве СИВов нами также рассматриваются вводные конструкции, эллипсы и некоторые другие синтаксические конструкции:
Es sei denn, daß ich – ein echtes Kind des Jahrhunderts – schon mit gestutzen Flügeln zur Welt gekommen bin. [TB, 118].
Und meine enorme Oberflächlichkeit – meine Nachlässigkeit – [TB, 117].
Подробная фиксация автором дневника событий своей жизни и мыслей, с ними связанных, позволяет в некоторых случаях проследить процесс формирования мнения о себе. Ана-
Орфография и пунктуация здесь и далее даются по тексту оригинала. – Е.Л.
лиз материала показал, что А. Шницлер довольно часто делает вывод о своих характеристиках на основании анализа своего поведения. Данный процесс формирования у человека установок по отношению к себе на основе анализа внешних проявлений своей идентичности получил в психологии название самоатрибуция.
Первым психологом, обратившимся к данному явлению, стал Д. Бэм. Он исследовал, каким образом индивид интерпретирует и оценивает свое внутреннее состояние и какие внешние и внутренние признаки этому способствуют. Благодаря многочисленным экспериментам Д. Бэм доказал, что индивид, так же как и внешний наблюдатель, «узнает» о своем внутреннем состоянии, равно как и о своих качествах, анализируя собственное поведение и (или) обстоятельства, в которых имело место данное поведение [6, с. 5].
В целом это соответствует функциональной направленности большинства дневниковых записей, которые во многих случаях создаются для фиксации определенного прожитого периода жизни (чаще всего одного дня) и описания собственных поступков. Данная фиксация, обладающая по времени большей протяженностью, чем мысль об этом же явлении, заставляет человека задуматься о правильности своих действий, исходя из чего обычно делается определенный вывод о своих характеристиках. Проиллюстрируем данное явление на конкретных примерах.
Так, А. Шницлер после описания своей жизни в Берлине делает общий вывод о некоторых своих чертах:
Ueberhaupt hier wie meist verstimmt. Kein rechter Verkehr. Medizin regt mich eben nie wirklich an: was soll ich mich täuschen! Literarisch war auch nichts los. Von Theatern interessiert mich nur das deutsche. Ich beginne zu fühlen, dass nie und nimmer aus mir wird. Ich bin muthlos, energielos, ohne Initiative und wohl auch schließlich ohne das wahre Talent [TB, 231].
Данный фрагмент иллюстрирует крайнюю степень недовольства собой в связи с отсутствием успехов как в области медицины, так и на литературном поприще. На основании анализа своей деятельности (или в данном случае, скорее, бездеятельности) автор приписывает себе определенные характеристики, которые обладают разной степенью стабильности. Так, если такие черты, как уныние ( muthlos ), отсутствие энергии ( energielos ), инициативы ( ohne Initiative ), можно считать временными явлениями, связанными с общими депрессивными настроениями, то утверждение о возможном отсутствии истинного таланта ( wohl auch schließ-lich ohne das wahre Talent ) кажется на первый взгляд довольно стабильной, постоянной характеристикой. Отметим, что данный параметр, а именно наличие или отсутствие таланта, является крайне важным для А. Шницлера как при самоописании, так и при оценивании других людей. Автор также часто задается вопросами о природе таланта, о его признаках и о качествах талантливого человека.
В анализируемом фрагменте тактика самоатрибуции заставляет А. Шницлера сделать вывод об отсутствии у себя таланта, исходя из анализа внешних показателей (действий, мыслей, настроения), актуальных для данного момента. Однако использование модальной частицы wohl в значении вероятно, может быть показывает некоторые сомнения автора в истинности своего утверждения, а контекст, отражающий общий депрессивный настрой автора в момент фиксации событий, а также ряд последующих утверждений позволяют отнести данное высказывание А. Шницлера к разряду нестабильных, временных переживаний своего Я.
Данный пример наглядно демонстрирует, как разворачивается мысль диариста – от размышления о своих поступках к самооцениванию. Однако в дневниковом дискурсе эта последовательность иногда может нарушаться. Так, в следующем примере А. Шницлер лишь после констатации своих характеристик объясняет, по какой причине он оценивает себя подобным образом:
Ich bin noch sehr unselbstständig oder zum mindesten sehr beeinflussbar in der Auffassung meiner wichtigsten Lebensangelegenheiten. Ohne daß es mir deutlich zu Bewußtsein gekommen wäre, weiss ich heute noch, daß ich gestern, in jener platten Gesellschaft, an der Seite von Th.s
Gemahlin, Mz. Gegenüber das Gefühl hatte – als dem Mädel, mit dem man eben ein Verhältnis hat - [TB, 373].
Как видим, автор приписывает себе неспособность к самостоятельному мышлению ( unselbststandig ) в важных жизненных ситуациях и считает, что он легко поддается влиянию окружения ( beeinflussbar ). Диарист приходит к этому выводу после анализа своего вчерашнего поведения в обществе: на встрече с друзьями он находился вместе с девушкой, с которой не планировал связать свое будущее, и под влиянием общего настроя окружающих весь вечер ощущал серьезность их отношений. Следует заметить, что автор планирует в дальнейшем избавиться от данной черты своего характера и стать более самостоятельным, что репрезентируется при помощи наречия noch ( еще, еще пока ). Данное наречие указывает также на то, что А. Шницлер в тот период своей жизни не воспринимал себя как зрелого мужчину и был готов к саморазвитию, несмотря на то, что данная запись была сделана им в 30-летнем возрасте.
Следует признать, что во многих случаях автор фиксирует лишь результат самоатрибу-ции, о самих же событиях, которые привели его к определенному самоидентифицирующему суждению, остается лишь догадываться. Например, в следующем примере А. Шницлер делает категоричное утверждение, считая основной чертой своего характера переменчивость, непостоянство:
-
- Ein Grundzug meines Wesens ist Launenhaftigkeit [TB, 60].
В описании соответствующего дня автор не объясняет причины подобного самоотно-шения, однако его прежние записи позволяют нам согласится с данным утверждением: автор постоянно меняет свои симпатии по отношению к женщинам, начинает и бросает свои литературные произведения, не может определиться с выбором профессии.
Заметим, что, делая вывод о своих личных качествах на основе тактики самоатрибуции, автор почти всегда склоняется к генерализации: руководствуясь анализом нескольких поступков, он приписывает себе определенные характеристики и считает их составляющими структуры своей личности в целом. Свое однозначно категоричное отношение диарист выражает в первую очередь с помощью интенсификаторов (напр., sehr, absolut, enorm, ohne einen Funken и др.) и генерализаторов ( immer, ewig, immerwahrend, mein ganzes Wesen ). См., напр.:
-
-Ich habe doch wirklich absolut keine Arbeitskraft [TB, 132].
Und mein ganzes Wesen ist nun leider einmal ein Art Oberflächlichkeit und Leichtsinn [TB, 31].
Примечательно, что далеко не все подобные самоидентифицирующие высказывания получают подтверждение в дальнейших записях; иногда автор даже приписывает себе антонимичные характеристики. Так, в одном случае А. Шницлер утверждает, что он не является высокомерным человеком ( Ich bin kein blasirter Mensch. ), в другом признается в чувстве превосходства по отношению к окружающим ( Den meisten gegenuber habe ich ein so zwingendes Gefuhl der Superioritat^ ).
В целом анализ показал, что представления о себе, сформированные под влиянием анализа своих поступков, во многих случаях являются нестабильными и изменяются в зависимости от ситуации. В соответствии с этим единичная фиксация некоторого качества своей личности в микротексте (в данном случае - в дневниковой записи за один день) не является показателем того, что это качество входит в структуру идентичности индивида; подобный вывод можно сделать лишь после многократного упоминания некоторой характеристики в различных ситуациях в макротексте, т.е. во всем дневнике.
Руководствуясь данными критериями, мы обнаружили следующие составляющие идентичности А. Шницлера, репрезентированные при помощи тактики самоатрибуции: с одной стороны, чувствительность ( Sinnlichkeit, Empfindlichkeit, Sensibilitat, Hypersensibilitat ), умение наслаждаться жизнью, гедонизм ( Lebesucht, Lebelust, Lebensfreude, ein unterhaltungs-sUchtiger Mensch, Genussmensch ), с другой, - неуверенность в себе, зависимость от влияния окружающих ( unselbststandig, beeinflussbar, abhangig ), легкомыслие, непостоянство
( Leichtsinn, Oberflächlichkeit, Launenhaftigkeit ), патологическая лень ( angeborene Faulheit, keine Arbeitskraft, arbeitsunfähig, nachlässig ). Представляется, что использование синонимов при описании одного и того же качества в разных ситуациях служит дополнительным подтверждением того, что автор считает данное качество крайне важным для своей идентичности.
Суммируя сказанное, следует признать, что далеко не все зафиксированные в дневнике самоидентифицирующие высказывания можно считать истинными. Репрезентируя свою идентичность при помощи тактики самоатрибуции и приписывая себе определенную характеристику, индивид опирается на анализ своего недавнего поведения, которое может быть связано с целым рядом не зависящих от него факторов. В дальнейшем данная характеристика может быть опровергнута поведением в иной ситуации. По этой причине мы предлагаем считать включенными в структуру идентичности диариста лишь те характеристики, которые не раз подтверждаются как его поведением, так и другими источниками (мнением других, социальным сравнением). На поверхностном уровне это выражается в том, что важные для своей идентичности качества диарист упоминает неоднократно, также обозначая их с помощью синонимов.