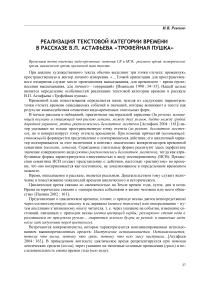Реализация текстовой категории времени в рассказе В. П. Астафьева "Трофейная пушка"
Автор: Ревенко Инна Владимировна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (10), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению особенностей реализации текстовой категории времени в рассказе В.П. Астафьева. Временной план повествования определяется, исходя из точки отсчета времени описываемых событий и значений, которые возникают в тексте при взаимодействии семантики видо-временных глагольных форм с другими элементами контекста (лексические конкретизаторы времени, показатели времени циклического и исторического).
Временная точка отсчета, видо-временные значения св и нсв, реальное время, историческое время, циклическое время, временной план текста, текстовая категория времени
Короткий адрес: https://sciup.org/144152964
IDR: 144152964
Текст научной статьи Реализация текстовой категории времени в рассказе В. П. Астафьева "Трофейная пушка"
При анализе художественного текста обычно выделяют три точки отсчета։ временную, пространственную и вектор личного измерения. «…Точкой ориентации для пространственного измерения служит место произнесения высказывания, для временного – время произнесения высказывания, для личного – говорящий» [Иоанесян 1990 ։ 34–35]. Нашей целью является определение особенностей реализации текстовой категории времени в рассказе В.П. Астафьева «Трофейная пушка».
Временной план повествования определяется нами, исходя из следующих параметров։ точки отсчета времени описываемых событий и значений, которые возникают в тексте как результат взаимодействия семантики видо-временных глагольных форм.
В начале рассказа в пейзажной, практически пасторальной зарисовке ( За речкою, вскипающей веснами и утихающей под ряскою летами, между двух холмов, будто между грудей дородной -украинки, уютно расположилось белохатное местечко [Астафьев 2004 : 161]) автор указывает не только пространственную точку отсчета ( за речкою, белохатное местечко ), но и конкретизирует точку отсчета временную. При помощи причастий ( вскипающей, утихающей ) формируется представление о повторяющемся действии, его цикличный характер подчеркивается за счет включения в контекст лексических конкретизаторов временной семантики ( веснами, летами ). Спрягаемые глагольные формы реализуют здесь перфектное значение совершенного вида (уютно расположилось белохатное местечко ), тогда как атрибутивные формы характеризуются отнесенностью к виду несовершенному (НСВ). Процессная семантика НСВ создает представление о действии, настолько «растянутом» во времени, что оно воспринимается как постоянное, не локализованное в определенном временном моменте.
Время, описываемое в рассказе, является реальным. Доказательством тому служит включение в повествование показателей времени циклического и исторического.
Циклическое время связано со сменяемостью на Земле времен года, суток, дня и ночи. Время историческое связано с «конкретными событиями в жизни человека или всего общества» [Папина 2002 ։ 161].
Представление о циклическом времени, точнее, о приходе весны дается непосредственно через соответствующую лексему и ее дериваты ( вешнее томление ) или опосредованно - путем апелляции к жизненному опыту читателя, т. е. через указание на события, изменение со‐ стояний, связанных с приходом весны ( ветка цветущей вербы; размеренно стоит вода в разлившихся по прилужью ручьях... озаряются зеленью бугры за речкой, и вишневые сады возле хат задумчивы перед цветеньем ).
Встречаются микроконтексты, которые характеризуются контаминированным использо‐ ванием вышеперечисленных средств: Наступление останавливается. Останавливается, потому что весна, потому что грязь, потому что всю зиму наступали. [Астафьев 2004 ։ 163]. В приведенном контексте циклическое время репрезентируется при помощи лексических средств ( весна ), через указание на типичные сезонные проявления ( грязь ) и последовательность смены времен года ( всю зиму ).
Для усиления эффекта реальности автор уточняет временную локализованность событий ( до первого мая еще двадцать дней ), а также использует конкретизаторы, связанные с реализацией времени исторического ( ...срок в нашей армии по смене обмундирования приурочен к великим дням: Первый май- летнее, Седьмое ноября- зимнее. ) [Астафьев 2004 ։ 165].
Временной план художественного текста связан также с указанием последовательности событий: Майор Проскуряков думал только о тех солдатах и командирах, которые погибли недавно. И жалости, той обычной жалости, со словами и слезами, тоже у майора не было. Майору Проскурякову просто хотелось, чтобы жили люди, дошли бы вот до этого местечка, полежали бы на ломкой стерне, помечтали о еде и победе. Но ничего этого им уже не доведется пережить. Еще где-то. жена или мать в последних мыслях перед сном думает о них и желает спокойной им ночи. Так будет еще какое-то время, потом все остановится для мертвых, даже память о них постепенно закатится за край жизни.
В приведенном контексте последовательность событий представлена при помощи разных по виду и временной характеристике глаголов. Исходя из последней, контекст можно разде‐ лить на три части, которые соответствуют естественной временной последовательности со‐ бытий. Первая часть включает глаголы прошедшего времени обоих видов. Форма прошед‐ шего времени НСВ думал в силу своей грамматической семантики (конкретно-процессное значение) выражает «расширенное» действие, которое не локализуется в плане прошлого, а захватывает частично и план настоящего. Форма прошедшего времени СВ погибли характеризует действие как свершившийся факт в прошлом с результатом, актуальным для насто‐ ящего (перфектное значение), но лексический временной конкретизатор недавно транспонирует это действие в зону преднастоящего. Гипотетический характер форм прошедшего вре‐ мени СВ глаголов полежали, помечтали связан с общей модальностью предложения, которая конкретизируется при помощи безличной формы глагола ( хотелось ) и сослагательного наклонения, а также подчеркивается их видовой семантикой։ они относятся к длительно‐ог‐ раничительному способу действия.
Вторая, значительно меньшая по объему часть включает глаголы настоящего времени НСВ ( думает, желает ), которые реализуют значение расширенного настоящего, т. е. действия, не полностью совпадающего с моментом речи, а частично транспонированного в план прошлого и будущего.
Третья часть представляет собой указание на последовательность событий в будущем: будет еще какое-то время; потом все остановится; постепенно закатится. Реализация временной семантики следования за моментом речи осуществляется при помощи форм бу‐ дущего времени СВ. Актуализация значения постепенного удаления от точки отсчета, т. е. момента речи, происходит за счет временных конкретизаторов ( потом, постепенно ).
Общим при описании временных и пространственных характеристик событий в рассказе является прием постепенного выдвижения первого плана. Описание места и времени до мо‐ мента стрельбы из трофейной пушки носит очень размеренный характер, даже возникает ощущение некоторой заторможенности։ война близится к концу, враг отступает, весна берет свое, разморенная от солнца природа медленно просыпается, у людей, уставших от войны, возникает ощущение покоя, умиротворения.
Возврат к реальности, к осознанию того, что война здесь, рядом, происходит после выс‐ трела пушки: Пушка у дарила звонко, резко. Снаряд разорвался далеко за бугром, взметнулся там метлою взрыв и тут же вместе с долетевшим звуком развалился в пухлый гриб. [Астафьев 2004 ։ 173]. Картина представлена панорамно посредством ряда глаголов про‐ шедшего времени СВ, которые объединяют семантика интенсивности действия и ярко выра‐ женное результативное значение. В относительном временном плане действия представле‐ ны как последовательно сменяющие друг друга, но интенсивность, входящая в семную структуру используемых глаголов и проявляющаяся в таких характеристиках, как резкость, 28
спонтанность, кратковременность действия, приводит к тому, что действия воспринимаются как происходящие почти одновременно.
При описании событий, происходящих после первого выстрела, автор использует глаголы прошедшего времени НСВ: Пушка тявкала злобно и недовольно, снаряды все ложились далеконько от цели. От колонны бежал солдат и что-то кричал, махая рукой, как будто затыкал ладонью трубу. Перестали стрелять. Глагольные формы НСВ в силу своей процессной видовой семантики изображают действия растянутыми, как бы замедленно протека‐ ющими на глазах читателя от начала и до конца. Для обозначения временной семантики та‐ ких форм М.Я. Гловинская предлагает термин «сказовое» время , исходя из того, что оно устойчиво реализуется в фольклорных жанрах (чаще всего в былинах). «Сказовое (время)… ха‐ рактеризует момент возникновения результата как определенный, а сам результат как сохра‐ нившийся до какого‐то момента в прошлом, в частном случае, до того момента в прошлом, когда он отменяется очередным действием в цепочке следующих друг за другом действий» [Гловинская 2001 ։ 188]. Результативная семантика видо‐временных форм НСВ подчеркива‐ ется включением в контекст формы СВ ( перестали ), для которой эта семантика является частью видового инварианта.
При описании ответной реакции немцев автором использованы формы СВ с яркой ре‐ зультативной семантикой: „.На колонну обрушился залп шестиствольных минометов. Разом все стихло... Один только залп. У немцев тоже было плохо с боеприпасами, но и этим залпом перебило колонну пополам, словноящерицу посередине, осела назад и чадно задымилась грузовая машина, закричали раненые, машины в колонне дернули которые вперед, которые назад от горящего «ЗИСа». Бойцы из-за борта его вытащили двоих убитых, да на обочинах поля затихло еще несколько человек. Но примечательным здесь является не факт использования результативных глаголов, а их соединение при реализации относительного времени. Первый в ряду глаголов ( обрушился ) обозначает интенсивное действие, завершившееся до момента речи, за ним следует глагол инхоативного способа действия ( стихло ), который обозначает переход из одного состояния в другое. Следующие два глагола выражают перфектное значение СВ ( перебило, осела ), т. е. указывают на актуальность в момент речи результата завершившегося действия. За ними следуют глаголы, относящиеся к начинатель‐ ному способу действия ( задымилась, закричали ), в результате чего действия, выражаемые глагольными формами прошедшего времени, перемещаются в преднастоящее. Замыкают ряд глагольные формы СВ с перфектным значением ( вытащили, затихло ). Таким образом, можно говорить о том, что в представленном контексте реализуется последовательная нап‐ равленность действий из прошлого через преднастоящее в настоящее.
Характеризуя исследованный материал в целом, следует отметить, что в качестве средств реализации текстовой категории времени в рассказе выступают видо‐временные формы гла‐ гола с различными семантическими вариациями абсолютного времени; ряды глагольных форм, имеющие, как правило, последовательное соединение при реализации относительно‐ го времени; лексемы временной семантики.
Реальность описываемых событий подчеркивается за счет включения в текст конкретиза‐ торов, связанных с представлением циклического и исторического времени.
Точка отсчета при характеристике временной локализованности событий не является фиксированной. Нами отмечено постепенное ее смещение от практически вневременного, репрезентируемого за счет форм со значением постоянного действия, до настоящего, час‐ тично транспонированного в зону будущего.