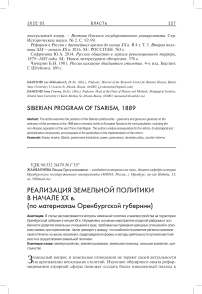Реализация земельной политики в начале XX в. (по материалам Оренбургской губернии)
Автор: Жайбалиева Л.Т.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы земельной политики и землеустройства на территории Оренбургской губернии в начале XX в. Определены основные мероприятия аграрной реформы и особенности развития земельных отношений в крае, проблемы выстраивания арендных отношений и освоения земель при переселении. Автор приходит к выводу, что особенности развития региона наложили свой отпечаток на жизнь населения, предопределили формы и методы деятельности органов местной власти в осуществлении земельной политики.
Землеустройство, землепользование, земельная политика, сельское хозяйство, крестьянство
Короткий адрес: https://sciup.org/170210379
IDR: 170210379 | УДК: 94:332.3(470.56)’’19’’ | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-327-334
Текст научной статьи Реализация земельной политики в начале XX в. (по материалам Оренбургской губернии)
Земельный вопрос и земельные отношения не теряют своей актуальности на протяжении нескольких столетий. Изучение обширного опыта реформирования аграрной сферы поможет создать более взвешенный подход к решению современных проблем. В начале XX в. назрел огромный комплекс проблем в сельском хозяйстве, нерешенность которых сдерживала экономическое развитие страны, обусловливала отставание и неизбежно вела к обострению социальных конфликтов.
События революции 1905–1907 гг. вынудили правительство пойти на определенные уступки населению. Одной из самых заметных стала столыпинская программа преобразований, направленная на ликвидацию противоречий в деревне и укрепление крестьянства. Реформе предшествовал манифест, изданный 3 ноября 1905 г. Согласно документу, с 1 января 1906 г. на 50% снижались выкупные платежи крестьян, освобожденных от крепостной зависимости, а с 1 января 1907 г. государство полностью отказывалось от их взимания. Наряду с этим активизирована деятельность Крестьянского поземельного банка по приобретению помещичьих угодий и последующей их продаже крестьянам.
По указанию министра сельского хозяйства П.П. Кутлера проект реформы землепользования создавался под руководством эксперта в области статистики и экономики А.А. Кауфмана при содействии А.А. Риттиха, в будущем – министра земледелия. Проект предполагал передачу части земель, принадлежавших дворянам, в распоряжение крестьян. Однако план не нашел поддержки у императора. Несмотря на это, работа над созданием законодательной основы для земельных преобразований продолжалась.
Вся деятельность по отчуждению земли возлагалась на землеустроительные комиссии, которые должны были оказывать содействие крестьянам, проводить землеустроительные работы [Казарезов 2000: 41-44]. В Оренбургской губернии их функции возлагались на уездные собрания. Однако когда в 1906 г. возникла идея создания специализированных землеустроительных комиссий на территории края, губернатор в своем ежегодном отчете отмечал, что такие структуры не потребуются1. Впоследствии взгляды губернатора на землеустроительную деятельность претерпели изменения, и он регулярно выступал с предложениями о создании землеустроительных комиссий в регионе, указывая на неэффективность действующих уездных советов в этой сфере.
Проводимые мероприятия представляли собой подготовительные шаги, необходимые для последующих реформ, которые не привели к значительным изменениям в сельском хозяйстве. Окончательный перелом в направлении земельной политики произошел с приходом в правительство П.А. Столыпина.
Петр Аркадьевич заявлял о необходимости пересмотра аграрной политики уже в период своего губернаторства в Саратове. В конфиденциальном докладе министру внутренних дел П.Н. Дурново о причинах аграрных волнений в регионе он отмечал, что не столько нехватка земли, сколько бедственное положение крестьян, которые живут на грани голода, не имеют сбережений и неграмотны, способствует их легкой восприимчивости к агитации и участию в протестах. Предлагалось повышение эффективности сельской хозяйства с опорой на экономические инициативы и укрепление государственной власти.
Ключевым решением П.А. Столыпин считал формирование класса мелких землевладельцев, что подразумевало не принудительное расформирование общины, а содействие индивидуальным сделкам через Крестьянский банк, разрешение продажи и залога земельных наделов, а также предоставление кредитов. Законодательный акт, принятый 9 ноября 1906 г., дополнял существу- ющие нормы владения и использования земли крестьянами. Этот документ составил основу аграрной реформы, инициированной П.А. Столыпиным. Указ предоставлял каждому крестьянину с участком земли на основании общинных норм право на выход из общины и получение в личное владение своей доли земли. Действия указа не распространялись на земли, которые находились в ведении казачьих формирований.
Документ определял процедуру оформления прав на общинную землю в личную собственность. С этой целью крестьяне через старосту обращались с заявлением к сельскому обществу. Решение принималось в течение месяца [Усманов 1958: 77]. В Оренбургской губернии в 1907 г. было подано 1 818 запросов на выход из общинного владения, в следующем году их число возросло до 6 373, а в 1909 г. – до 8 6311. К началу мая 1908 г. 4 422 десятины надельной земли были закреплены за личным владением 313 домовладельцев [Зырянов 1992: 99].
Основной задачей крестьян, покидавших общинное управление, было сохранение за собой той же земельной площади, что и ранее, а не конкретных участков. В связи с этим они были готовы участвовать в новом разделе земли при условии, что их надел не уменьшится в размерах. Иногда такие переделы проводились нелегально, чтобы избежать вмешательства власти [Зырянов 1990: 55].
С увеличением числа крестьян, покинувших общинное хозяйство, и ростом потребности в распределении земли претерпевали изменения методы землеустройства. 14 июня 1910 г. вступил в силу законодательный акт, который заменил ранее действовавший указ. Новый закон состоял из двух разделов: организации чересполосного укрепления земли и создания хуторов и отрубов. Земли, которые находились в постоянном владении общины без последующих переделов с момента их первоначального распределения, переходили в наследственное владение. Это означало, что участки земли, используемые отдельными хозяйствами, теперь считались их личной собственностью.
В 1910 г. в Оренбургской губернии подано 5 361 заявление о присвоении земельных участков в личное владение, что привело к закреплению за хозяйствами 71 756 десятин земли, в среднем 13,4 десятины на каждого владельца. Однако 667 этих заявлений были отклонены из-за отсутствия достаточных оснований. В 1911 г. было подано 1 367 заявлений, что привело к присвоению 8 485 десятин земли, в среднем 6,2 десятины на каждое хозяйство. С момента вступления в силу Указа от 9 ноября 1906 г. до 1 сентября 1912 г. в губернии подано 23 924 заявления о выходе из общины, но лишь 12 855 из них признаны законными, что привело к присвоению 197 667 десятин земли. В 1913–1914 гг. подано 2 088 заявлений, по которым в собственность крестьяне получили 47 817 десятин земли2.
Документом, завершившим столыпинскую земельную реформу, стал закон «О землеустройстве» от 29 мая 1911 г., который облегчил переход к отрубному землепользованию, поскольку теперь для этого не требовалось предварительного оформления прав на землю [Усманов 1958: 78]. Документ, подтверждавший отвод земли в рамках землеустройства, являлся подтверждением права собственности на нее. Однако закон вступал в силу только в тех районах, где были организованы землеустроительные комиссии, в остальных местах предлагалось его внедрение по мере создания необходимых учреждений.
В докладе оренбургского губернатора за 1912 г. включено дополнение, под- черкивающее необходимость создания в регионе комиссий по земельному устройству. Указывалось, что местные собрания не обладали необходимыми ресурсами и свободным временем для реализации задач землеустройства, а просьбы крестьян отправляли обратно в распоряжение уездных земских начальников. Так, на собрании Челябинского уезда, состоявшемся 2 декабря 1913 г., принято решение передать вопрос о перераспределении земельных участков крестьян из деревни Николаевки земскому начальству для подготовки соответствующих мер. Два года спустя, когда на сельском собрании земский начальник начал разрабатывать план перераспределения земель, выяснилось, что некоторые крестьяне, упомянутые в ходатайстве, уже распродали свои наделы, а другие участники первоначального обращения отказались от своих требований. В итоге земский начальник решил закрыть это дело1. Такой подход приводил к значительному замедлению процесса выделения земельных участков.
В Оренбургской губернии, где не было действующих землеустроительных комиссий, закон от 29 мая 1911 г. не нашел применения, и землеустройство фактически не проводилось. Под влиянием запросов губернатора 31 мая 1914 г. комитет по земельным вопросам вынес решение о формировании в Оренбургской губернии землеустроительных комиссий. Однако в связи с началом военных действий их деятельность была приостановлена2. В 1907– 1914 гг. крестьяне практически не выходили из общины для основания хуторов или отрубов [Хутора... 1914: 5]. К 1917 г. эти формы землепользования составляли в регионе менее 3% [Лабузов 2004: 182].
При этом земские организации активно способствовали продвижению аграрной реформы П.А. Столыпина. В Оренбургской губернии земские органы появились согласно установленным 2 января 1913 г. правилам. В отчетах губернской администрации 1914–1917 гг. указывалось, что экономическая поддержка земства предоставлена исключительно тем, кто покинул общину3.
В результате проведения столыпинской реформы в Оренбургской губернии 47 794 хозяйства (30,9% общего числа) перевели общинную землю в личное владение. Особенно высокий процент крестьян, получивших наделы в собственность, наблюдался в Оренбургском уезде – до 85,1%4. Это объяснялось тем, что из общины в основном выходили крестьяне, которым выдавались «удостоверительные акты», т.е. те, кто был вынужден закрепить землю по принуждению. В большинстве регионов уезда менее 10% крестьянских хозяйств покинули общинное устройство, в то время как в Орском и Верхнеуральском уездах подобные случаи почти не зафиксированы [Усманов 1958: 82-83].
В 1907–1915 гг. из 26 309 хозяйств Оренбургской губернии, стремившихся к укреплению своих земельных участков, разрешение получили лишь 9 508 дворов. Тем не менее если община отказывала в укреплении земли, оно осуществлялось принудительно. По распоряжению земских начальников за данный период укрепление прошли 10 642 хозяйства. Некоторые крестьяне покидали общину, чтобы воспользоваться укреплением с целью последующей продажи своих участков [Усманов 1958: 85-87].
На территории края законодательные акты не применялись к башкирским вотчинникам. Они имели возможность оформить в собственность участок земли, который им полагался по праву наследования, согласно Положению о башкирах от 1902 г. Этот закон позволял каждому члену общества заявить о выделении ему в частную собственность земли из общественной вотчины. Если выделение признавалось нецелесообразным или невозможным, общество обязывалось компенсировать ущерб денежным вознаграждением, устанавливаемым соглашением сторон [Зырянов 1992: 212-214].
Вместе с тем встречались примеры, когда по решению местных органов крестьяне получали отказ в передаче земли. Так, крестьяне М. Ишмухаметов и Б. Бускунов, проживавшие в 3-й Усерганской волости Орского уезда, стремились получить в частную собственность участок земли, который им полагался по праву наследования. Однако Ибрагимовский сельский совет отклонил их просьбу, указав на то, что они постоянно проживают в городе Орске и не могут заниматься хозяйством на указанной территории, а их настоящей целью является продажа земельного участка1.
Основанием для отказа в передаче земли в личное владение жителям деревень 2-й Усерганской волости послужил порядок, согласно которому в каждом из приговоров расчет размера участка, предназначенного для выделения, осуществлялся исходя из ревизских душ, а не фактического состава семьи, которой передавалась земля2. Такой подход не соответствовал требованиям законодательства и мог нанести вред интересам отдельных членов общества.
За период с 1906 по 1915 г. в Оренбургской губернии крестьянское землевладение увеличилось на 114 623 десятины благодаря продажам Крестьянского банка [Усманов 1958: 110]. С началом реформы функции банка претерпели изменения. До 1908 г. преобладала покупка земли крестьянскими кооперативами и сельскими общинами, затем большее внимание уделялось индивидуальным покупателям. С 1 января 1906 г. по 1 июля 1910 г. в Оренбургской губернии доля сделок с частными лицами достигла 56,5% [Павлова 2003: 75]. Наряду с этим сокращается приобретение земли кооперативами и сельскими общинами. Таким образом, Крестьянский банк начинает направлять свои усилия на обслуживание единоличников.
Согласно отчетам оренбургского губернатора, в 1908–1912 гг. Крестьянский поземельный банк занимался реализацией свободных башкирских земель. Общий объем продаж за указанный период составил 130 673 десятины земли3.
В рамках своей деятельности банк выполнял задачи, связанные с землеустройством. Согласно временной инструкции Комитета по землеустройству от 19 февраля 1908 г., при распродаже земельных участков предпочтение должно отдаваться разделу их на хуторские наделы. В случаях, когда это было невозможно из-за особенностей местности, предлагалось создание отрубов. Запросы покупателей не учитывались4.
В Оренбургской губернии размер участков для хуторов и отрубов, которые распродавались в рамках банковской и помещичьей инициативы, определен на уровне 15 десятин. Тем не менее практика землеустройства отклонялась от этого стандарта, предоставляя участки площадью в 20–40 десятин для основания хуторов и отрубов [Усманов 1958: 116]. Помимо передачи земли и управления земельными участками, Крестьянский банк также осуществлял арендную деятельность, предоставляя крестьянам землю в аренду и принимая на себя обязательство сбора арендных платежей.
Оренбургский край затрагивала проводимая переселенческая политика из центра страны на периферию, куда крестьяне направлялись из различных уголков страны, включая западные, центральные области, а также соседние губернии, такие как Самарская, Казанская и Пермская. Их выбор основывался на желании найти место недалеко от прежнего места проживания и с привычным климатом.
Согласно записям, сделанным в регистрационных центрах Сызрани и Челябинска, в 1904–1914 гг. по железной дороге прошли 109 459 чел., включая переселенцев и сезонных рабочих. Из них 65 574 чел. направились в Оренбургскую губернию [Усманов 1958: 125]. Поскольку не все переезды регистрировались, реальное число переселенцев в Южно-Уральский регион было значительно выше официальных данных.
В начале 1909 г. организовано переселение на территории Оренбургского и Челябинского уездов, где выделен 131 участок общей площадью 72 530 деся-тин1. В первой половине года на эти земли переехали 414 домовладельцев. Однако дальнейшее переселение временно остановлено, поскольку принято решение сначала тщательно изучить число нуждающихся в переселении и тех, кто действительно имеет на это право.
Переселенцам, которые прибыли в указанные для заселения районы и там обосновались, была предоставлена возможность получить помощь государства в виде кредитов на организацию хозяйства. Такие кредиты предполагалось выдавать тем, кто испытывал финансовые трудности, и только в течение первых трех лет после их поселения.
Правила выдачи кредитов для переселенцев были изменены после введения в действие закона, принятого 5 июля 1912 г. Согласно документу, первая часть кредита предоставлялась переселенцам при их регистрации на закрепленном участке, а вторая выдавалась после подтверждения официального лица, что предыдущий кредит использован для нужд хозяйственного обустройства. В Оренбургской губернии для переселенцев одобрено предложение Главного управления о назначении кредитов на 1913–1915 гг. в размере до 165 руб. на семью2.
Несмотря на утвержденное положение о процедуре переселения за Урал и перечне необходимых документов, многие крестьяне их не имели и лишались всех льгот. Власти объясняли это незнанием крестьянами своих прав. Уездным съездам и земским начальникам поручалось провести информационную кампанию среди населения о правилах переселения3.
Проблема заключалась не только в отсутствии информации у крестьян. Часто оформление документов происходило невнимательно и безответственно, их наличие не только не облегчало жизнь переселенцев, но и приводило к ухудшению положения. Не всегда точно указывались пункты назначения и другие важные данные, что создавало для переселенцев дополнительные трудности и финансовые потери. Более того, процедура получения разрешений на переселение была связана с различными формальностями, из-за которых многие крестьяне либо не могли получить необходимые документы, либо воздерживались от их оформления, отказываясь от государственной поддержки .
Сложность и хаотичность процесса переселения приводили к тому, что крестьяне теряли все свои сбережения. Их положение усугублялось регулярными неурожаями. Несмотря на принятые законы, многие крестьяне вынуждены были заниматься наемной работой или вернуться на прежнее место жительства. Обезземеленные крестьяне в поисках земли массово отправлялись в Сибирь.
Результаты земельной политики на территории Оренбургской губернии в начале XX в. весьма противоречивы. Расширение частного землевладения среди крестьян положительно сказалось на развитии сельского хозяйства региона. Вместе с тем пересмотр земельных отношений коснулся гораздо меньшего круга земель, чем предполагалось. Переселенческая политика на территории края не смогла удовлетворить запросы крестьянства и вызвала новые проблемы, связанные с земельными спорами между коренным населением и переселенцами. В результате реформирование сельского хозяйства не потеряло своей актуальности и осталось главным вопросом российского общества.