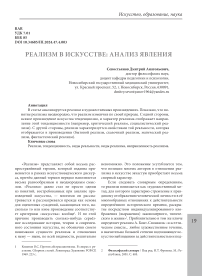Реализм в искусстве: анализ явления
Автор: Севостьянов Д.А.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Искусство, образование, наука
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется реализм в художественных произведениях. Показано, что понятие реализма неоднородно, что реализм изменчив по своей природе. С одной стороны, всякое произведение искусства тенденциозно, и характер реализма отображает направление этой тенденциозности (например, критический реализм, социалистический реализм). С другой стороны, реализм характеризуется свойствами той реальности, которая отображается в произведении (бытовой реализм, сказочный реализм, магический реализм, фантастический реализм).
Реализм, тенденциозность, виды реальности, виды реализма, направленность реализма
Короткий адрес: https://sciup.org/170207746
IDR: 170207746 | УДК: 7.01 | DOI: 10.34685/HI.2024.47.4.003
Текст научной статьи Реализм в искусстве: анализ явления
«Реализм» представляет собой весьма распространённый термин, который издавна применяется в рамках искусствоведческого дискурса, причём данный термин нередко наполняется весьма разнообразным и неоднородным смыслом. «Реализм» давно стал не просто одним из понятий, востребованных при анализе произведений искусства, — многими он рассматривается и рассматривался прежде как основа для оценочных суждений, касающихся того, насколько то или иное произведение соответствует критериям «искусства» вообще1. И по этой причине производить сколько-нибудь серьёзное исследование истории, теории и современного состояния искусства, не обозначив своего понимания сущности реализма и отношения к нему — ныне, по всей видимости, решительно невозможно. Это положение усугубляется тем, что позиции многих авторов в отношении реализма в искусстве зачастую приобретают весьма спорный характер.
Если следовать словарным определениям, то реализм понимается как «художественный метод, для которого характерно стремление к правдивому отображению человеческой личности в её многообразных отношениях к действительности определённого исторического времени, раскрытие посредством индивидуализированного изображения (выражения) закономерного, типического в жизни»2. Приблизительно в том же ключе определяет реализм А. Конт-Спонвиль: «в эстетическом смысле... любое художественное течение, в значительно большей степени подчиняющее искусство наблюдению за действительностью и под- ражанию действительности, чем воображению или морали»3.
При более подробном рассмотрении обнаруживаются следующие трактовки понятия «реализм». Так, реализмом называлось средневековое религиозно-философское течение, в рамках которого утверждалась реальность универсальных понятий (обобщённых идей) или тех или иных предметов, в отличие от противостоящего реализму номинализма, который склонялся к реальности только отдельных предметов. Далее, термин «реализм» применяется в психологическом смысле, как установка сознания, ориентированная на внешнюю реальность, которая и представляется в виде исходной точки психических явлений, внутренний же мир представляется производным от этой внешней реальности (в противоположность субъективно-идеалистической позиции). Наконец, имеется и историко-культурное значение этого термина, о котором говорилось выше: имеется в виду направление искусства, которое наиболее близко изображает реальность.
В.П. Руднев, в «Словаре культуры ХХ века» которого приведена эта последняя дефиниция реализма, называет этот термин нелепым, и согласно его собственному мнению, употреблять его вообще не следует. Обосновывает он это положение следующим образом: «Как можно утверждать, что какое-то художественное произведение более близко, чем другое, отображает реальность, если мы, по сути, не знаем, что такое реальность? Ю.М. Лотман писал, что для того чтобы утверждать о чём-либо, что ты это знаешь, надо знать три вещи: как оно устроено, как им пользоваться и что с ним будет дальше. Ни одному из этих критериев наше «знание» о реальности не удовлетворяет». И далее он продолжает: «Каждое направление в искусстве стремится изобразить реальность такой, какой оно её видит. «Я так вижу», говорит абстракционист, и возразить ему нечего»4. Такой позиции вторит П.А. Егоров: «Наши представления об иллюзорности или же реальности мира сами по себе есть иллюзия, и всякое нарушение в порядке восприятия обнажает не столько отсутствие связи с ве- щами, сколько отсутствие связи понятий с ясностью представления»5.
С данной позицией, однако, невозможно согласиться. Конечно, известная максима Сократа «Я знаю, что ничего не знаю» содержит в себе определённое зерно истины, но использовать её как повседневное руководство к действию, очевидно, немыслимо. Мы, конечно, не обладаем (и никогда не сможем обладать) исчерпывающими знаниями о том, что такое реальность; однако знания эти, как правило, вполне достаточны не только для обычного существования в этой реальности, но и для саморазвития, и для дальнейшего познания. Да, мы не знаем с абсолютной полнотой, как устроена реальность, каков может быть оптимальный порядок действий в отношении этой реальности, а также что ждёт её в будущем; но и наших ограниченных знаний бывает вполне достаточно для того, чтобы в известной нам предметной области принимать решения со знанием дела. К чему сетовать о том, что человек не обладает возможностями Бога-Творца, всемогущего, вездесущего и всеведущего. Как известно, несовершенство человеческого познания разрешается в бесконечном ряду познающих субъектов (хотя и никогда не будет, по-видимому, вполне разрешено). Можно сколько угодно рассуждать и об отсутствии связи нашего сознания с вещами, и об отсутствии связи понятий с ясностью представления; однако при этом в обычной жизни, волей-неволей, приходится реализовывать эту связь. Что же касается известной апелляции того или иного художника к тому, что он «так видит», то и здесь присутствует несомненная подмена понятий. Если бы, скажем, для художника-абстракциониста, в его зрительном восприятии, субъективный мир действительно представлялся в качестве хаотичного сочетания пятен, точек и линий (как на его холстах), то такому «художнику» можно было бы лишь посочувствовать. Он пожизненно пребывал бы в психиатрической больнице и без помощи санитаров не мог бы сделать ни шагу в реальном мире, наполненном материальными предметами и населённом другими людьми. Связь человека с реальностью осуществляется в рамках практики, деятельности, а также в составлении в достаточной мере релевантных
3 Конт-Спонвиль, А. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. Москва: Этерна, 2012. С. 485.
5 Егоров П.А. Утрата ясности представления в эстетике // Terra Aestheticae. 2020. № 1 (5). С. 134.
когнитивных моделей, без которых ни практика в любом её понимании, ни деятельность не были бы возможны.
Речь здесь, однако, идёт не об этих, достаточно элементарных вещах. Допустим, что реализм (тут приходится принести извинение за тавтологию) представляет собой максимально точное (насколько это вообще возможно) отображение реальности; но здесь уместно задать два вопроса: какое именно отображение и какой именно реальности?
Ответ на первый вопрос не выглядит очевидным, исходя из того, что это отображение трактуется как «максимально точное»: раз, как уже сказано, познание наше по природе своей ограничено, то и отображение это, как бы мы ни старались, всегда отличается приблизительностью и неполнотой. От такой вынужденной неполноты приходится сделать всего один шаг, чтобы данное отображение стало тенденциозным, то есть затрагивало лишь те компоненты или аспекты реальности, которые данный автор считает для себя нужным отобразить, и игнорировало то, что отображать, по его мнению, и не стоило бы. Такая тенденциозность несколько парадоксально трактуется, в том числе, и как правдивость (впрочем, данный парадокс разрешается просто: «правда» ведь не есть «истина»; истина существует вне зависимости от чьего-либо частного мнения, но при этом уместно говорить, что «у каждого своя правда»). А.Ф. Лосев излагал этот подход следующим образом: «Под реализмом мы понимаем не просто изображение жизни, но правдивое изображение жизни… А правдивость есть уже не просто фотография предмета, но — определённая точка зрения на него, подведение его под эту точку зрения и понимание этой точки зрения в качестве конструктивного принципа воспроизведения, в качестве порождающей модели, определённым образом систематизирующей то, что художником фактически наблюдалось в жизни»6. Так трактуемый реализм допускает весьма значительные отклонения от буквального восприятия и изложения повседневной, бытовой реальности. Н.Л. Малинина писала по этому поводу: «Реализм — это глубинная правда жизни, связанная с пониманием и отражением сущностных процессов, возможно, не показанных прямо, а ощущаемых. Реализм распространяется на образное целое, а не на части и детали. Реализм может выступать в формах метафорических, символических, аллегорических, условных, хотя чаще представлен в формах самой жизни»7.
В результате признания таких расширительных толкований реализма мы можем найти в искусстве не один «реализм»; их много. Прежде всего, следует сказать о различной возможной направленности реализма. Давно известен и «критический реализм» XIX столетия, раскрывавший пороки и проблемы социального устройства, и «социалистический реализм» советского периода, в котором осуществлялось превознесение «должного» над «сущим». В ныне практикуемой современной живописи получил распространение «гиперреализм» и (как родственное понятие) «фотореализм». В нём буквальное сходство изображённого и изображаемого возводится в абсолют; однако для этого всякий раз избирается некоторый частный, обособленный фрагмент реальности, подлежащий такому, условно говоря, иллюзионистическому воспроизведению (по мнению автора данного произведения, более всего для этого подходящий). Наконец, особую направленность реализма являет собой так называемый «патриотический реализм»8, также обеспечивающий весьма выборочное воспроизведение реальности.
Задав же второй вопрос — отображение какой именно реальности подразумевается, когда речь идёт о реализме, — мы поистине открываем перед собою бездну. К понятию «реализма» тут же снова приходится добавлять всевозможные прилагательные, на сей раз уточняющие, что за реальность здесь имеется в виду.
Реализм в искусстве, каков бы он ни был, предполагает, прежде всего, наличие целостной и непротиворечивой картины мира — той самой реальности. Реальность, в самом простом и очевидном понимании — это окружающий мир, доступный нашему восприятию, и существующий независимо от нас. Следование отображению этой повседневной реальности порождает то, что обычно обозначается как бытовой реализм. Однако человеческое восприятие даже такой реальности отнюдь не является неизменным на все времена.
Возьмём в качестве примера реальность, окружающую людей первобытного племени. Вот как характеризовал эту реальность Люсьен Леви-Брюль, описывая сознание таких субъектов: «Ничто не наводит их на мысль о выгоде, которую могла бы им принести попытка узнать законы естественных явлений, у них отсутствует даже самое представление об этих законах. Что прежде всего захватывает их внимание, что почти целиком занимает его с того момента, как оно было чем-нибудь пробуждено, что заполняет и удерживает его — это присутствие и действие невидимых сил, более или менее определённых влияний, действие которых они чувствуют на себе и вокруг себя»9. Здесь мы можем наблюдать магический реализм — данное понятие было введено в научный оборот Ф. Роо и широко используется современными исследователями10. Люди, о которых идёт речь, освоили первоначальный (синкретический) вариант человеческого мышления; они (разумеется, не прибегая к таким формулировкам) обнаружили для себя, что мысли представляют собой операции с символами, а символ есть объект, наделённый самостоятельным бытием, но сверх этого, взявший на себя функцию означающего при некотором означаемом. И вот в представлении этих людей уже любой объект, наделённый самостоятельным бытием, представляет собой некоторое означающее. Отсюда каждое событие, происходящее рядом с первобытным человеком или с ним самим, обретает (по его стойкому убеждению) магическую природу; человек не может ни родиться, ни приобрести выгоду либо претерпеть утрату, ни умереть без вмешательства таких невидимых сил. И это составляет целостную и (по-своему!) непротиворечивую картину мира, в пределах которой люди действительно рождаются, проводят всю жизнь и умирают. Никакой другой реальности для них просто нет; как же выглядел бы пресловутый «реализм», порождённый её восприятием? Наверное, несколько иначе, чем «реализм» сегодняшнего дня. Иную, но тоже внутри себя непротиворечивую картину составляла реальность античного грека, населённая телесно-осязаемыми богами, столь же реальными, как и живые люди11. То же самое можно сказать и о средневековом реализме, реализме религиозном, в рамках которого гипостазирование (то есть представление о самостоятельном существовании некоторых общих понятий, абстракций, в виде отдельных субъектов или сущностей) было нормой, а не логической ошибкой мышления, как это считается теперь. Такая картина мира соответствовала реальности того времени, но ныне настали иные времена. Итак, реализм означает соответствие произведения не некоторой отвлечённой «объективной реальности», в чём бы она ни состояла, а именно той картине реальности, которая представлена в общественном сознании (а значит — и в индивидуальном сознании тоже); картина же эта способна меняться, причём весьма существенно.
С другой стороны, в человеческой культуре, на правах её неотъемлемой части, существовала и существует сказочная реальность, картина которой тоже пребывает в человеческих головах. Термин «сказочный реализм» уже прочно прописался в работах современных исследователей12. Обратившись, например, к сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина, или к его «Истории одного города», как ещё можно охарактеризовать то, что показано там? В отношении направленности реализма, то есть того, какую из сторон «действительной реальности» автор решил осветить, мы можем сказать, что этот автор, подобно многим его современникам, действовал в традициях «критического реализма»; в отношении же той реальности, которая действительно была показана в этих произведениях, уже проявляется, безусловно, реализм сказочный. В известном романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» обычная, бытовая реальность вступает во взаимодействие с иной, мистической реальностью; по-видимому, следует сказать, что здесь имеет место мистиче- ский реализм. Если в художественном творчестве используется и развивается фантастический сюжет, отражающий, несмотря на несоответствие нынешней бытовой реальности, непротиворечивую внутри себя картину мира — здесь уместно говорить, соответственно, о фантастическом реализме (собственно, и этот термин давно получил законные права13).
Ещё один важный вопрос, который приходится разрешать в дискуссии о реализме — как сопоставляется реализм в художественном произведении с неизбежно субъективным характером и восприятия мира, и художественного творчества как такового. Ведь, как уже говорилось, под реальностью чаще всего подразумевается то, что существует независимо от субъекта. И тут приходится говорить о том, что это не так: реализм затрагивает и внутреннюю реальность творящего субъекта, как некоторую самостоятельную сущность.
Возьмём для примера такой известный сюжет, как битва храброго Щелкунчика и его кукольного войска против армии мышиного короля. Пока этот сюжет существовал только в воображении Э.Т.А. Гофмана, он был элементом исключительно его внутренней реальности. Однако теперь это повествование стало неотъемлемой частью мировой культуры, в особенности после того, как на этот сказочный сюжет был создан известный балет П.И. Чайковского.
Конечно, сказка, по-видимому — самый трудный жанр в литературе. Написание настоящей сказки требует от её автора невероятного культурного чутья, так же как от настоящего поэта, например, требуется исключительное чутье в отношении языка. Именно обретённое таким образом родство с культурной реальностью и порождает в действительности такое явление, как сказочный реализм; в противном случае сказка будет представлять интерес лишь для её автора, и разговоры о каком-либо реализме вообще утрачивают здесь смысл. Ведь и внутренняя реальность в известной мере формируется и существует независимо от самого художника, а лишь постольку, поскольку он сам погружён в окружающую (в том числе и культурную) реальность.
Итак, реализм распространяется не только на внешнюю по отношению к субъекту, но и на его внутреннюю реальность. Главным условием для этого становится собственная непротиворечивость внутри самой этой реальности, а также её соответствие самостоятельной реальности уже существующей культуры. Поэтому, говоря, в частности, о реализме в изобразительном искусстве, Н.Л. Малинина отмечает следующее: «Реализм в живописи прошёл свой путь эволюции. Живопись осваивала все новые уровни реальности — видимая реальность, реальность впечатления, реальность внутреннего мира человека, реальность подсознательного, утрированный показ элементов реальности. Живопись последовательно представляла зрителям разные уровни реальности»14.
Однако, при всём при этом, трактовка реализма, при которой данное понятие ограничивается бытовым реализмом, пока остаётся доминирующей. Это обусловлено, среди прочего, тем, что самым массовым «потребителем» культурных артефактов (художественных произведений) является обыватель, которого, как известно, «притягивает простота, стандарт, лёгкость восприятия, радость узнаваемого»15. Но то, что удовлетворяет обывателя, не может считаться достаточной и всеобъемлющей трактовкой реализма в глазах искусствоведа.
Разумеется, приведённый здесь анализ реализма не может быть назван исчерпывающим. Дальнейшей разработки требует, например, вопрос о том, в чём может состоять отклонение от реализма, коль скоро само это понятие подвергается такому, как показано здесь, расширительному толкованию. Однако обособление в данном явлении двух самостоятельных координат, одна из которых показывает направление тенденциозного отношения к реальности, а другая — характер этой реальности как таковой, представляется значимым этапом познания реализма в искусстве, как самостоятельного явления.
Список литературы Реализм в искусстве: анализ явления
- Беляева Е.В. Символизм в творчестве польского художника Яцека Мальчевского (1854-1929) // Вестник Череповецкого государственного университета. 2013. № 2 (47). С. 127-130.
- Власов В.Г., Лукина Н.Ю. Новые станцы. Дискуссия филолога и искусствоведа: симптоматика гениальности // Культура культуры. 2019. № 4. С. 124-133.
- Егоров П. А. Утрата ясности представления в эстетике // Terra Aestheticae. 2020. № 1 (5). С. 112-138.
- Кеменов В.С. Против абстракционизма. В спорах о реализме. Сборник статей. Ленинград: Художник РСФСР, 1969. 223 с.
- Кислицын К.Н. Магический реализм // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 1. С. 274-277.
- Конт-Спонвиль А. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. М.: Этерна, 2012. 752 с.
- Куликова М.Э. Выставка шести художников (Владивосток, 1988) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2011. № 1. С. 5-7.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 608 с.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М.: Ладомир, 1994. 544 с.
- Малинина Н.Л. Реалистический художественный образ в живописи: прошлое и настоящее // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 9. С. 175-181.
- Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1999. 381 с.
- Севтинова А.В. Образ дурака в калмыцкой бытовой сказке // Проблемы науки. 2017. № 6 (19). С. 77-79.