Реальности дистанционного обучения в контексте пандемии
Автор: Шнейдер Лидия Бернгардовна
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Большие вызовы
Статья в выпуске: 7, 2020 года.
Бесплатный доступ
Констатируется, что ситуация самоизоляции и карантина привела к повсеместному переходу на дистанционный формат обучения. Показано, что произошло это одномоментно, без всякой существенной подготовки и адаптационного периода. Сложилась ситуация, которая обнажила все плюсы и минусы электронного обучения с использованием дистанционных технологий. Высшее образование зашаталось, но пока держится. Обсуждению его актуального состояния как реальности дистанционного обучения посвящена данная статья.
Обучение, обучающиеся, компьютер, дистанционное обучение, цифровые устройства, пандемия
Короткий адрес: https://sciup.org/148321409
IDR: 148321409 | УДК: 159.9+378.1 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.07.P.18
Текст научной статьи Реальности дистанционного обучения в контексте пандемии
дистантным форматом. Телефонное общение (а также телефонное консультирование) такая же важная форма коммуникации и связи, как и личная беседа. Оно весьма легко переродилось в видеосвязь, в онлайн-общение. Ментальный характер общения, его эмоциональный посыл, действенный заряд сохраняются и при посредничестве технических средств. Главная задача коммуникации – передача информации – успешно решается.
В-третьих, компьютер не вытеснил преподавателя из учебного процесса. В дистанционном обучении, как бы мы ни крутились, ведущая роль остается за преподавателем, а не за цифровым устройством. По крайней мере, на сегодняшний момент. К нимой частью обучения. Соответственно, появление посредника в образовательном процессе воспринимается сегодня, невзирая на угрозы и опасности коронавируса, как феномен, нарушающий сами устои образования, главным образом подрывающий его духовную суть.
Но в этом моменте есть некоторое лукавство.
Во-первых, в процессе обучения уже давно присутствует такой посредник, как учебник. Устная речь преподавателя довольно часто перемежается изучением текстового материала, его роль как лица воздействующего сменилась ролью лица транслирующего. Если учебник хороший, а обучающийся досконально его изучил, то зачастую он ничего не потерял по сравнению со своими собратьями, проведшими положенное время в аудиториях.
Конечно, он может проиграть, если на экзамене будут спрашивать «по лекциям», но, возможно, по сути он выиграл. Обсуждая высокую личностную значимость преподавательского воздействия, никто ведь не ведет речь о слабом педагоге. Априори считается, что педагог умный, душевный, квалифицированный и т.п. Безусловно, встреча с Мастером, общение с ним, обуче- ние у него дорогого стоят, а если мастерства нет… Кто вернет эти потраченные впустую годы? Кто излечит от учебной неуспешности? Плохой учебник гораздо легче поменять на другой, чем никчемного преподавателя на талантливого.
Во-вторых, социальное общение давно демонстрирует нам примеры, когда контактная коммуникация удачным образом совмещается (заменяется, дополняется) с ее
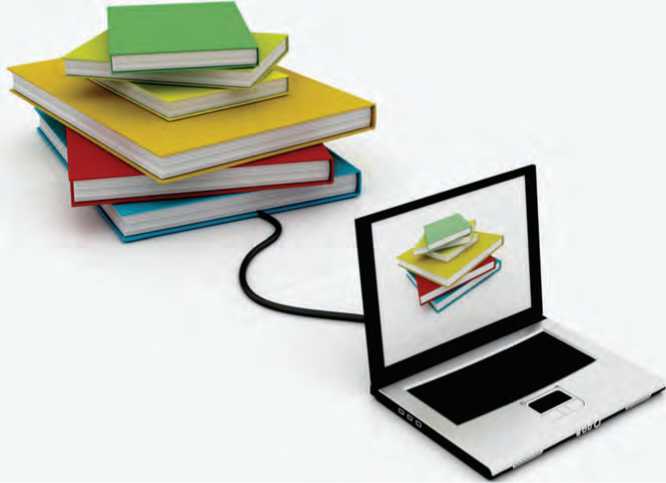
Компьютер как посредник в учебном процессе во многом схож с учебником
тому же в настоящее время компьютер – это естественная и очень часто неотъемлемая часть жизни молодых и совсем юных обучающихся.
За возгласами «Компьютер не может заменить учителя!» скрывается фальсификация реальности: компьютер никого и не заменяет. Его основная роль в том, что он облегчает встречу преподавателя и обучающего, связывает их. За мастерство педагога он не отвечает, поскольку не способен ни возвеличивать его, ни обнулять. Полное смысла взаи-

Учитель из Хайфэя проводит дистанционный урок для школьников
модействие, эвристичное общение может осуществляться и с помощью цифрового устройства.
Технический пласт обсуждения
Если вчера в образовательном процессе ничего кроме мела не было, то сегодня вдруг маршем перейти на полную и разумную компьютеризацию процесса обучения невозможно. Речь в данном случае идет как собственно о современном техническом оснащении, так и о соответствующем программном обеспечении. И то и другое должно быть в наличии в самом учебном заведении, а также в квартирах (домах) преподавателей и обучающихся. И сама интернет-связь должна быть высокоскоростной, качественной и доступной.
По собственному опыту знаю, что в некоторых периферийных, точно также как в отдельных столичных вузах – и бюджетных, и коммерческих – состояние технического оснащения просто плачевно. В аудиториях почти нет компьютерной техники – встречалось, даже в столичном вузе, что проектор из года в год включали палкой (пульт утерян); колонки, а то и миниатюрный проектор «продвинутые» и, возможно, более высокооплачиваемые преподаватели покупали на свои деньги и приносили на занятия с собой.
Семейный бюджет тоже не всегда позволяет обзавестись мощным стационарным компьютером. В условиях пандемии, когда вариант удаленной работы и учебы стал распространенным явлением для всех членов семьи, иногда не малой, домочадцам не мешало бы иметь не одно цифровое устройство, а несколько. Однако встречается это редко. Уже сейчас обучающиеся рассказывают, что слушают по 2–3 лекции по телефону. Понятно, что это жутко утомительная и малоэффективная процедура. Никакого отношения к полноценному обучению она не имеет. Платформы, на которых разместилось дистанционное обучение, тоже далеки от совершенства. Изобилуют жалобы на сбои, плохой звук, расплывчатое изображение, несвоевременный вход/ выход и пр.
Плохое компьютерное обеспечение можно сравнить с маломощным транспортным средством. Как говорится, если вы сели на велосипед и хотите на нем добраться до Луны, вряд ли у вас что-нибудь получится. Даже ваша поездка из Москвы во Владивосток будет умопомрачительной. И всем понятно, что космический аппарат намного дороже велосипеда. Понятно, что и удаленное обучение на начальном этапе и учебным учреждениям, и семье обойдется во много раз дороже, чем контактное. Особенно, если его начинать с самого нуля.
Квалификационный ракурс обсуждения
Само по себе ни «железо», ни «софт» процесс обучения не продуцируют, не организуют и не обогащают. Нужны люди, желательно высококвалифицированные преподаватели. Но даже умудренный с 40–50-летним опытом преподавания профессор может оказаться в ситуации онлайн-обучения совершенно растерянным.
Прежде всего ответа требует вопрос: кому он вещает? Ответ носит двойственный характер. Одни скажут, что аудитории, обучающимся, другие – экрану компьютера. И те, и другие будут правы. Состояние преподавателя и его поведение будут зависеть от того акцента, который сделает он сам. Свою роль сыграют его привычки, его умение концентрировать внимание, в конце концов, ведущую роль сыграет его владение материалом и искусством изложения мыслей. Существенные коррективы будут вносить его навыки обращения («дружбы») с компьютером. Не обладая существенным уровнем компьютерной грамотности, самостоятельно (да еще если в одиночку, без соответствующей помощи и поддержки) справиться с платформой Zoom либо иной подобной и с их настройками не всем под силу.
В апрельский период распространения коронавируса кто-то из преподавательского корпуса даже не смог приступить к «полету», был «сбит» своей собственной некомпетентностью. Сразу замаячила вероятность пенсионного устранения, самоизоляция превратилась в кошмар, наполнившись переживаниями «выброшенного на обочину». Но и более молодым преподавателям «с клиповым мышлением» профессиональная самореализация посредством интернет-обра-зования не показалась легкой.
Занятия пришлось как-то по-новому организовывать. Иные спрятались за презентациями, которые стали просто комментировать. Сами презентации наполни- лись избыточными источниками или их фрагментами. Другие разработали огромный банк заданий для самостоятельной работы, который без всяких комментариев разместили на платформе Moodle. Третьи спасовали перед практическими/ лабораторными работами, воплощение которых в онлайн-форма-те сочли невозможным. Четвертые занялись нарезками кинофильмов или поиском учебных фильмов, которые позволяли эффектно заполнить учебное время.
Еще один вариант неуспешности связан с тем, что у обучающейся аудитории возникло стойкое убеждение, что вместо лекции, изложения мыслей, происходит громкое чтение учебника, в лучшем случае – первоисточника. Если раньше, как ни парадоксально, и такого преподавателя, и его студента спасало «разгильдяйство» и постоянное отвлечение последнего, то теперь обеим сторонам стала очевидна преподавательская некомпетентность, к тому же документально зафиксированная и публично представленная.
Правда, не все преподаватели предстали в таком виде. Кто-то стал усиленно готовиться, перенастраивать формат общения, искать более живые способы самоподачи. Нашлись и такие таланты, творчество которых, подстегнутое волной пандемии, просто зашкалило, что, естественно, просто «впечатало» внимание обучающихся в экран мониторов.
Безусловно, были и есть преподаватели, которые и тогда, и сейчас легко встраиваются и в контактное, и в дистанционное обучение. По-видимому, их профессиональная компетентность и «творческость» намного масштабнее. Широкой популярностью в Интернете пользуются интересные, даже блестящие, и пока бесплатные, лекции опытных, эрудированных и высокообразованных преподавателей. В соответствии с этим у обучающихся появились основания для сравнения и обоснованной оценки педагоги-

ческого труда, а у преподавателей – для содержательной, подкрепленной профессиональным авторитетом и мастерством (а не званием и должностью) конкуренции.
Наряду с этим выявилась и вновь воспроизвела саму себя несостоятельная, бездарная, но укоренившаяся и существующая до сегодняшних дней система устаревших и формальных критериев оценки педагогического труда. Компьютерная грамотность прежде даже в поле внимания оценивающей руководящей стороны не попадала, содержательная компетентность, творчество, педагогическое и профессиональное мастерство преподавателя вообще никого не интересовало, как и личностное воздействие преподавателя на обучающегося, упомянутое выше. Возникает ощущение, что бумажное рукоделие, отчетная красота были, есть и главенствуют в высшем образовании. Пандемия это тоже обнажает и подтверждает.
Вместе с тем удаленный формат получения образования кого-то искренне радует, но одновременно у других субъектов образовательного пространства продуцирует волну негодования и противостояния. Причем последние (блогеры, «цифровые еретики» и др.) заявляют о себе громогласнее и активнее. Многочисленные негативно окрашенные онлайн-спичи содержат в основном протестные реакции и призывы. Весомых рациональных аргументов приводится немного. 45% предлагаемых текстов – это са-мопрезентации, 45% – открытое и агрессивное недовольство, часто с персонально адресованной неприязнью и мало убедительной критикой, и только 10% имеет действительное (иногда встречается очень умно выраженное) отношение к качеству и содержанию высшего образования.
Предварительные итоги
Что же реально показало массовое дистанционное образование, вернее. его первые, широкомасштабные в условиях пандемии пробы? Если коротко, то следует остановиться на следующем.
-
1) Экранная культура требует особых условий для ее реализации в обучении. Во-первых, задействованными оказываются только два анализатора: слуховой и визуальный. Оба достаточно напряжены в течение длительного промежутка времени (в среднем около 6 часов ежедневно). В оставшееся время они также остаются в условиях самоизоляции перегруженными. Все это очень быстро приводит к хронической усталости и преподавателей, и обучающихся. Во-вторых, абсолютно исчезает из процесса обучения его субъектно-деятельностный компонент. Это сильно обедняет процесс обучения. В-третьих, нужно тонко и дифференцирован-
- но учитывать при организации удаленного обучения возраст обучающихся, курс обучения, изучаемую дисциплину.
-
2) Нескорректированный перенос учебных программ, графиков, режимных моментов, расписания из контактного обучения в удаленный формат не всегда оправдан. В связи со сниженной двигательной активностью возрастает мышечная усталость и обучающихся, и преподавателей. В дистанционном обучении начинает превалировать самостоятельная работа, превращающая его в заочное обучение. Объемные задания (эссе, рефераты, контрольные работы и пр.), сроки их выполнения, условия сдачи подчинены общему учебному графику и ритму обычного учебного дня. В удаленном формате реальный день обучающихся складывается следующим образом. Первую половину дня они проводят у экрана, слушая и взирая на преподавателей, вторую – сидят у тех же экранов мониторов, выполняя и оформляя домашние задания. Преподаватели проходят тот же путь: первую половину дня вещая, занимая обучающихся разными способами, вторую – делая заготовки на следующие встречи и проверяя полученную кипу выполненных заданий. И так день за днем, без изменений. Выходные, по сути, утрачивают в условиях самоизоляции свой смысл.
-
3) Бессилие домочадцев в оказании помощи своим обучающимся отрокам. Ситуация обостряется в связи с тем, что успешный или неуспешный персональный опыт обучения младших членов семьи осуществляется на их глазах. Но одновременно – в сравнительном плане – для сородичей либо возрастает значимость контактного обучения («лучше бы уж учился как всегда, а не страдал бы так и нас не мучал»), либо махом обесценивается все современное образование («ничего хорошего в нем нет, вот нас учили…»).
-
4) Геолокационная доступность образования. Можно находиться на даче и одновременно без вся-
- ких проблем «посещать» учебные занятия, не тратя время на дорогу, пробки, давку в транспорте и т.п. Такую ситуацию в условиях пандемии могут организовать обучающиеся и могут позволить себе и преподаватели. Территориальная независимость подразумевает выход и за границы отечественного образования. Многие зарубежные университеты предлагали ранее и продолжают сейчас транслировать уникальные лекции ведущих мировых специалистов. Почему бы к ним не приобщиться?
-
5) Утрата «клубного» характера обучения. Учебное учреждение для субъектов образовательного пространства является местом общения, узнавания новостей, демонстрации мод, выяснения отношений и пр. Пандемия загнала это почти полностью в виртуальный мир, что, естественно, вызывает очень разные эмоциональные всплески.
-
6) Снижение идентификационных возможностей и кооперативных тенденций. В контактном обучении всегда есть субъекты как идентифицирования, так и отторжения, то есть имеется выбор для конструирования и построения межличностных отношений. Более того, такая контактность может усиливаться или ослабляться, расширяться или сужаться, стабилизироваться или изменяться и пр. Следовательно, в ней есть живая динамика, есть пространство для «воочию воспринимаемого», а не – возможно, анонимного в социальных сетях – индивидуально- и социально-психологического экспериментирования. Дистантный формат обучения резко сужает эту зону.
-
7) Возможно расширение персональной доступности образования. В него могут включаться и лица без ограничений физического здоровья, и люди с ограниченными его возможностями и инвалидностью. Оно «спасает» (или может спасти) соматически больных школьников, студентов, находящихся на длительном лечении. Оно дает возможность, при наличии сильного желания и
- устойчивой мотивации, дополнительно получать второе образование. Но есть, между тем, и оборотная сторона: инклюзия прекращает свое существование, и тот обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, который, возможно, воспарил духом, вновь возвращается к роли типичного изолянта. Кстати, у всех остальных в условиях самоизоляции и карантина есть возможность прочувствовать на себе, каково это.
-
8) Однообразный фон и небогатые методы дистанционного обучения, его обедненная эмоциональность вызывают отторжение у экстравертов, людей интуитивного плана мышления, креативно и активно настроенных личностей. Как известно, в структуре личного знания выделяются его варианты: явное и неявное знание [2]. Есть опасность, что неявное знание – нечеткое, неопределенное, размытое, выступающее как зона дальнейшего развития, обогащения дифференцированных понятий и пр. – может в дистантном формате обучения потеряться.
-
9) Интенсификация образовательного процесса. При завершении начального этапа внедрения дистантного обучения, налаживания технического оснащения возрастает вероятность перехода вуза на интенсивный обраовательный путь вместо экстенсивного: образование может стать дешевле (и для государства, и для обучающихся) за счет снижения средств на содержание зданий и сопутствующие расходы, станет менее нужным расширение площадей (во всяком случае, погоня за этим), в дальнейшем возможна осмысленная и разумная комбинация аудиторных занятий с дистанционным обучением, привлечение для единичных онлайн-встреч крупнейших отечественных специалистов и пр. Появляется возможность проводить занятия в формате конференций, вебинаров, реальных дискуссий между студентами разных групп и даже разных вузов.
Этот ряд можно продолжать далее, что, вероятно, будет многократно сделано и другими исследователями, и просто думающими людьми. «Пещера» дистанционного обучения имеет еще очень много ответвлений и тайных ходов. Однако все это – второстепенные моменты по отношению к самой сути и целевым составляющим образования. Ведь контактный и удаленный формат обучения – просто разные системы обработки информации, различные способы организации, передачи и получения знаний. Традиционное солидное образование повсеместно сметается (или будет сметено) инновационными волнами обучения (все равно – контактного или дистанционного), ориентированными на безостановочную экономическую гонку [3]. Ситуация пандемии только явственно это обнажила, подтвердив, что, так или иначе, человеческие ресурсы для этого еще есть, а цифровые технологии – уже есть.
Современные цивилизационные устремления на непрекращающий-ся экономический рост и обеспечивающий его научный прогресс при возрастающем и усыпляющем сознание значении личного благополучия и индивидуального успеха человека нацеливают образование на взращивание мобильного, независимого, интеллектуально образованного, креативно настроенного выпускника учебного заведения [3]. Интеллигентность, мужество, порядочность, рассудочность, воспитанность особой роли не играют. Ведущим становится движение потребителя образовательных услуг от кликового к клиповому и далее чиповому мышлению, то есть его добровольно выбранное движение в ногу со временем [4]. Тогда саморе- ализация образования возможна в парадигме пользы («учиться надо, для того чтобы стать, суметь и пр.»), парадигме интереса («надо, чтобы было интересно…»), парадигме самообразования («надо, чтобы он сам научил учиться…»), парадигме принуждения («он должен учиться, это необходимо, это его долг….») или парадигме выгоды («без диплома забудь об успешном будущем/ должности/карьере…») [5, 6].
Все это возможно, но настоящих смыслов в таком обучении нет. Нет вектора миропостижения, установления подлинных связей с собой, другими людьми, миром в целом. Это образование для мозгов, а не для души. Является ли дистанционное обучение некоей альтернативой? Сомневаюсь, но поживем – увидим. Время покажет, ибо, как утверждал М. Зощенко, башмак стопчется по ноге.
Список литературы Реальности дистанционного обучения в контексте пандемии
- Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/ (дата обращения: 02.05.2020).
- Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1985. 344 с.
- Харари Ю.Н. Homo Deus. Краткая история будущего. М.: Синдбад, 2019. 496 с.
- Шнейдер Л.Б. Вчера, сегодня, завтра: от "кликового" к клиповому и далее к чиповому мышлению // Цифровое общество в культурно-исторической парадигме: материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 15-16 октября 2018 г.). М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2018. С. 19-203.
- Шнейдер Л.Б., Зыкова М.Н. Культурно-исторические основы содержания образования и их аксиологическое воплощение // Научное наследие Л.И. Божович и современная психология образования: сб. материалов научно-практ. конф. М.: Московский государственный психолого-педагогический университет, 2018. С. 72-81.
- Шнейдер Л.Б., Зыкова М.Н. Философия учительства, или Некоторые размышления об аксиологических основаниях педагогической деятельности // Проблемы современного образования. 2016. № 3. С. 20-38.


