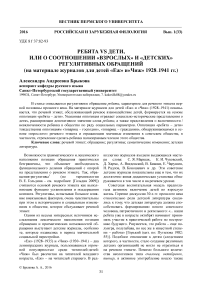Ребята vs дети, или о соотношении «взрослых» и «детских» регулятивных обращений (на материале журналов для детей «Еж» и«Чиж» 1928-1941 гг.)
Автор: Брыкова Александра Андреевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 1 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье описывается регулятивное обращение ребята, характерное для речевого этикета первой половины прошлого века. На материале журналов для детей «Еж» и «Чиж» (1928-1941) показывается, что речевой этикет, обслуживающий речевое взаимодействие детей, формируется на основе оппозиции «ребята - дети». Указанная оппозиция отражает социально-исторические представления о детях, расширяющие денотативное значение слова ребята, а также представления о включенности / невключенности ребенка в общество по ряду социальных параметров. Оппозиция «ребята - дети» тождественна оппозициям «товарищ - господин», «товарищ - гражданин», обнаруживающимся в основе «взрослого» речевого этикета и отражающим значимые изменения в советском обществе, в частности, стремление сделать ребенка полноправным членом этого общества.
Речевой этикет, обращение, регулятивы, семантические изменения, детская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/14729427
IDR: 14729427 | УДК: 8Г37:82-93
Текст научной статьи Ребята vs дети, или о соотношении «взрослых» и «детских» регулятивных обращений (на материале журналов для детей «Еж» и«Чиж» 1928-1941 гг.)
Возможности грамматического и лексического наполнения позиции обращения практически безграничны, что объясняет необходимость функционального деления обращений с опорой на представления о речевом этикете. Так, обра-щения-регулятивы1 (по терминологии В. Е. Гольдина – см. подробнее: [Гольдин 2009]) считаются основой речевого этикета как выполняющие функцию установления и поддержания контакта. Регулятивы, испытывая большое влияние внеязыковых факторов, очень чувствительны при этом к историческим и социальным изменениям в обществе, которое обслуживает речевой этикет.
Одним из весьма интересных источников исследования лексического наполнения позиции обращения и прагматических возможностей обращения выступают детские журналы, особенно те, которые издавались в период значительной социальной перестройки.
«Еж» (1928–1935) и «Чиж» (1930–1941) – два ленинградских журнала, пользовавшиеся огромной популярностью среди читателей-детей: «Чиж» был рассчитан на читателей младшего возраста, «Еж» – на читателей старшего. В ред- коллегию журналов входили выдающиеся мастера слова: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Д. Хармс, А. Введенский, В. Бианки, Е. Чарушин, Н. Радлов, В. Коношевич и др. Эти советские детские журналы показательны еще и тем, что их достаточно явная дидактическая установка обнаруживается в том числе и на речевом уровне.
Советская воспитательная модель предполагала активное включение детей во взрослую жизнь. Горячие дискуссии 30-х гг. прошлого века относительно роли детской литературы сводились к тому, что детская литература должна способствовать формированию нового советского человека, патриотичного и деятельного: «... наши ребята уже в возрасте октябрят начинают принимать участие в практической работе по построению будущего. Разумеется, это работа – еще полуигра, полузабава, но все же в известной степени – работа» [Горький (цит. по: Путилова 1982: 55)]. Подобное отношение к детям (следствием которого, в частности, стало создание различных детских организаций) не могло не отразиться и на речевом этикете. Помимо большого количества неологизмов типа очаговец, октябренок, пионер , в активное употребление вошло также
слово ребята , которое по своему лексическому и референциальному значению и по правилам употребления в качестве обращения было во многом тождественно слову товарищ .
В Словаре Д. Н. Ушакова (далее – СУ), который выходил в те же годы, что и журналы «Еж» и «Чиж», слово ребята определяется так: «разг. Молодые люди, парни // Товарищи по учёбе, работе и т. п. (употребляется среди молодёжи; нов.)» + «мн. ч. от ребёнок» [Ушаков 1939, III: 1305–1306]. Слово ребята весьма частотно в исследованном материале, особенно в контекстах из журнала «Чиж», что показательно, так как «Чиж» был ориентирован на детей младшего возраста 5–7 лет; следовательно, узуальное значение слова предполагало совмещение приведенных словарных значений и включение в круг референтов в основном детей дошкольного и младшего школьного возраста. В материалах журнала «Еж» лексема ребята, напротив, встречалась довольно редко как в качестве обращения редакции к читателям или читателей друг к другу, так и внутри художественной коммуникации. Чаще всего в этих случаях отмечалось обращение товарищ.
Слово ребята использовалось в позиции обращения и при обращении взрослых к детям (в том числе и работников редакции), и детей к самим себе (саморепрезентация), самостоятельно и с приложением в уточняюще-классифицирующей функции: Ребята , редакция журнала «Чиж» просит очаговцев писать о том, как они живут и работают (Чиж, 1932, 4-5) 2 ; Ребята-дошкольники ! Присылайте в Чиж свои стихи и рассказы (Чиж, 1933, 5); Ребята очаговцы и школьники ! Как вы помогаете колхозу? (Чиж, 1932, 1); Эй, ребята, октябрята, радиолюбители ! Направляйте вы свои громкоговорители! (Чиж, 1931, 6).
Частотность употребления слова ребята позволяет говорить о том, что для определенного периода времени это слово являлось не просто возможным этикетным обращением, но и культурным знаком, указывающим на включенность тех, кого им называют, в новую социальную систему, о чем, в числе прочего, свидетельствует тот факт, что определение слова ребята , данное в СУ, предполагает, что ребята и товарищи выступают в качестве взаимозаменяемых понятий.
Помимо одиночного употребления, слово ребята в позиции обращения фиксировалось в словосочетаниях с зависимыми этикетными прилагательными: Дорогие ребята! Спасибо за рассказы и рисунки, а Юре Кожину ещё отдельно - за игрушку (Чиж, 1939, 2). Такие сочетания являлись устойчивыми в рамках речевого этикета при обращении редакции к читателям или же в эпистолярном жанре. Наличие этикетного прилагательного дорогой со словом ребята укрепляло его в позиции ядерного этикетного обращения еще и потому, что такие же этикетные словосочетания допускались и со словом товарищ - маркером «взрослого» речевого этикета: Дорогой товарищ Сталин, / Я письмо тебе пишу (Чиж, 1938, 11); Пишите меня, дорогой товарищ, добровольцем в красноармейский отряд (Чиж, 1933, 11); Милые товарищи! Вы должны меня извинить, что я так долго не писал, но я не имел для этого денег и времени (Еж, 1931, 8).
Отдельного упоминания требует и тот факт, что в широкое употребление слово ребята начало входить только в 20-е гг. XX в.: «Прежде, обращаясь к малышам, мы всегда говорили: дети. Теперь это слово повсюду вытеснено словом ребята. Оно звучит и в школах и в детских садах, что чрезвычайно шокирует старых людей, которые мечтают о том, чтобы дети снова назывались детьми. Прежде ребятами назывались только крестьянские дети (наравне с солдатами и парнями)» [Чуковский 2010: 22]. Значимость слова ребята отражается в том числе и в стилистически неуместных употреблениях, которые были зафиксированы в исследованном материале: Букет ему очень понравился, и Киров сказал девочкам: «Спасибо вам, ребята , за цветы» (Чиж, 1934, 12).
Анализ контекстных употреблений слова дети , упомянутого К. И. Чуковским, в позиции обращения , которое в СУ определено как ‘малолетние’, также значим, потому показывает, что в узусе (по крайней мере в рамках исследуемых журналов) слово приобретает и другие дополнительные значения, характеризующие не только тех, кого называют, но и тех, кто называет: И ответил Петя: « Дети ! Так и быть уж, объясню» (Чиж, 1932, 11–12). Тем самым речевой этикет в сфере общения детей формируется на оппозиции «ребята – дети».
Возможность формирования оппозиции «ребята – дети», вероятно, определяется лингвистическим замечанием К. И. Чуковского, цитированным выше, касающимся денотативных отношений слова ребята и слова дети . Детьми чаще называли детей дворян (в первую очередь в рамках семейной коммуникации), что можно также видеть в некоторых контекстах из рассказов журналов «Чиж» и «Еж», где действие либо относится к досоветскому периоду, либо герои не являются советскими гражданами : За обедом отец и говорит: - А что, дети , не съел ли кто-нибудь одну сливу? (Чиж, 1941, 1) [рассказ Л. Н. Толстого. - А. Б .]; - Здравствуйте, дети
[учительница словесности, бывшая купчиха. – А. Б .], - сказала она басом (Еж, 1931, 21) [рассказ Л. Пантелеева «Последние халдеи». - А. Б .]. Последний из приведенных примеров показателен тем, что характеризует адресанта сообщения как человека, не вписывающегося в советское общество и требующего осуждения. Таким образом, оппозиция «ребята – дети» основывается на онтологическом противопоставлении своего и чужого, хорошего и плохого.
Возможности жанрового употребления обращения ребята, в свою очередь, значительно расширяются. Помимо современных бытовых повестей и рассказов, опубликованных в рассматриваемых журналах, оно появляется также в исторических жанрах применительно к лицам дворянского происхождения: Горецкий кивнул товарищам [кадетам. - А. Б.]. <...> - Тащите, ребята ! - скомандовал он (Еж, 1931, 8). Такое использование слова ребята в позиции обращения по отношению к положительным героям показательно и, вероятно, имеет целью уменьшить границу между временем повествования и историческим временем потенциального читателя-ребенка. Подобного рода адаптация речевого этикета другой эпохи (с сохранением его основных черт, использованием слова господин в частности) делает героев для читателей более понятными и социально близкими, создавая соответствующий образ героя.
Вторым основанием для формирования указанной оппозиции в рамках семантических отношений слов ребята и дети становится семантика невключенности в общественную систему ввиду возраста и недостатка знаний:.Дети, - сказала Мария Александровна, - никогда не надо кричать: «Я, я.» Надо всегда поднимать руку (Чиж, 1932, 11–12); Ребята побежали за машиной. Ольга Петровна сказала: - Дети, стоп! Нельзя бежать за машиной (Чиж, 1939, 4); Выбежала мама, выбежала тетя: - Мальчики, дети, чего вы орете? (Чиж, 1935, 9). Примеры показывают, что детьми в позиции обращения называют чаще тех, кто не знаком с правилами этикета и поведения или не обладает достаточными общими знаниями и поэтому еще полностью не включен в социальную систему общества. Указанные оттенки значения появляются у слова дети в позиции обращения только в случае одиночного использования. Если же в позиции обращения слово появляется с несогласованными определениями уточняющего характера, оно теряет дополнительные смыслы и выступает как форма мн. ч. от ребенок, дитя в соответствии со словарным определением: Дети рабочих -немцев, французов! Дети китайцев, негров, инду- сов! Дети рабочих, готовьтесь на деле к Международной Детской Неделе (Еж, 1931, 8).
Речевой этикет в области детской коммуникации несамостоятелен и во многом формируется под воздействием речевого этикета взрослых членов общества. Так, возможность возникновения оппозиции «ребята – дети» легитимируется тем, что «взрослый» речевой этикет также формируется во многом с опорой на историкосоциальные, и как следствие, выраженные на лексическом уровне оппозиции: товарищ – господин, товарищ – гражданин, где слово господин является регулятивным маркером предшествующей социальной системы и актуализирует оппозицию «свой – чужой», а слово гражданин внутри формирующейся системы – оппозицию, которую несколько условно можно назвать «хороший – плохой».
Обращение господин активно используется в исторических повестях, которые довольно часто появляются на страницах журнала «Еж» вместе с современными бытовыми повестями и рассказами о социалистическом строительстве, где фигурирует обращение товарищ 3 – одиночно или в сочетании с именем собственным: - Як вам по делу, господин Борзов (Еж, 1931, 2); - Господин капитан, вверенная мне вторая рота занимается строевым учением (Еж, 1931, 9); ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ! Пионеры и школьники и комсомольцы <...> шлют вам горячий привет (Еж, 1931, 3); Вам, товарищ Сергей [С. М. Киров. – А. Б.], партия поручает устроить подпольную типографию (Чиж, 1934, 12).
Слова гражданин, в свою очередь, чаще всего появляется в запретительных прямых или косвенных императивных контекстах с отрицательными предикатами: А Карабас уже схватил Пьеро за ногу. - Не трогайте куклы, гражданин ! Они не продаются! - сказала бабушка Дуня и отняла у него Пьеро (Чиж, 1938, 8); Гражданин , не толкайтесь! (Еж, 1928, 10). Потенциальная негативная коннотация поддерживается также возможностью свободного выбора в рамках нейтральной коммуникации между словами гражданин и товарищ , обладающими вполне свободной сочетаемостью с одушевленными существительными м. р. для слова гражданин и м. и ж. р. для слова товарищ. При этом лексема товарищ социально окрашена, тогда как лексема гражданин скорее нейтральна в рамках языковой системы (имеющихся словарных значений) и больше соответствует роли собственно этикетного обращения.
Таким образом, исследование регулятивных обращений определенной исторической эпохи, особенно эпохи становления нового речевого этикета, позволяет проследить значительные семантические и денотативные сдвиги в лексических значениях отдельных слов, а также посредством собственно языковых фактов высветить социальные особенности эпохи. Одной из таких особенностей для советского общества стало новое отношение к детям, стремление сформировать у них чувство самоопределения, где не последнюю роль играет отношение противопоставления, в связи с чем вчерашние дети становятся сегодняшними ребятами.
Примечание
-
1 Если принцип разделения обращений на этикетные и неэтикетные практически не подвергается критике (см., например: Балакай 2002, Балакай 2005), то синтаксический статус обращения до сих пор остается дискуссионным (см.: Арутюнова 1999, Велтистова 1968, Дмитриева 1976, Дохова 2007, Проничев 1971, Руднев 1959, Рыжова 1982, Шахматов 2011 и др.). Так, в числе прочего, обращение, как и другие этикетные речевые формулы, квалифицируют как речевые акты с собственной иллокутивной и перлокутивной целями (см., в частности: Минина 2000, Форма-новская 2002), что представляется наиболее убедительным.
-
2 Здесь и далее ссылки на источники даются таким образом: (Название, год, номер).
-
3 Слово товарищ в СУ имеет следующее определение: «член советского общества, всякий, кто, вместе с другими, участвует в общей советской работе (нов.)», также после знака оттенка «без упоминания имени или звания –обращение к любому взрослому, постороннему, незнакомому человеку в советской среде (за исключением случаев, когда известна или предполагается его принадлежность к чужой социальной среде; нов. разг.)» [Ушаков 1940, IV: 719–720]. Как видно из определения, слово товарищ имеет ярко выраженные коннотации, потенциально актуализирующие онтологическое противопоставление «свой – чужой».
Список литературы Ребята vs дети, или о соотношении «взрослых» и «детских» регулятивных обращений (на материале журналов для детей «Еж» и«Чиж» 1928-1941 гг.)
- Арутюнова Н. Д. Номинация -обращение//Язык и мир человека. М.: Яз. рус. культуры, 1999. С. 115-120.
- Балакай А.А. Этикетные обращения: функционально-семантические и лексикографические аспекты: автореф. дисс.. канд. филол. наук. Новокузнецк, 2005. 22 с.
- Балакай А. Г. Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания: авто-реф. дисс.. докт. филол. наук. Орел, 2002. 40 с.
- Велтистова А. В. Обращение в современном английском языке (в сопоставлении с русским): дисс.. канд. филол. наук. Л., 1964, 28 с.
- Гольдин В. Е. Обращение: теоретические проблемы. М.: URSS ЛИБРОКОМ, 2009. 127 с.
- Дмитриева Л. К. Обращение и вводный компонент. Лекции. Л.: ЛГПИ, 1976. 48 с.
- Дохова З. Р. Лингвистический статус обращений (на материале русского и кабардино-черкесского языков): автореф. дисс. канд. фи-лол. наук. Нальчик, 2007. 21 с.
- Минина О. Г. Обращение в современном английском языке. Коммуникативно-прагматический аспект. Белгород, 2000. 15 с.
- Проничев В.П. Синтаксис обращения. (На материале рус. и сербохорват. яз.). Л.: Изд-во Ле-нингр. ун-та, 1971. 88 с.
- Путилова Е. О. Очерки по истории критики детской литературы, 1917-1941. М.: Детская лит., 1982.175 с.
- Руднев А. Г. Синтаксис осложненного предложения. М.: Учпедгиз, 1959. 198 с.
- Рыжова Л. П. Обращение как компонент коммуникативного акта: автореф. дисс. канд. филол. наук. М., 1982. 15 с.
- Ушаков -Толковый словарь русского языка: в 4 т./под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Советская энциклопедия»; ОГИЗ (т. 1); Гос. изд-во иностр. и нац. словарей (т. 2-4), 1935-1940.
- Чуковский К. И. Живой как жизнь: о русском языке. М.: Зебра Е, 2010. 303 с.
- Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М.: URSS Изд-во ЛКИ, 2011. 620 с.