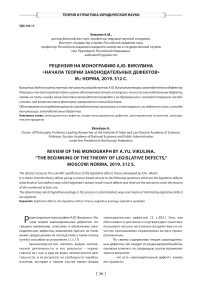Рецензия на монографию А.Ю. Викулина "Начала теории законодательных дефектов" М.: Норма, 2019. 312 с
Автор: Экмалян А.М.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 3 (56), 2019 года.
Бесплатный доступ
В рецензии даётся оценка научной значимости разработанной А.Ю. Викулиным теории законодательных дефектов. Показано что она позволяет дать научно обоснованный ответ на вопросы: что есть законодательные дефекты; каковы их типы и виды; какие действия законодателя приводят к их образованию и соответствующим последствиям; под влиянием каких факторов совершаются такие действия. Обосновывается определяющая роль законодательной аксиологии в этом процессе, исследуются пути и способы минимизации законодательных дефектов.
Законодательные дефекты, теория законодательных дефектов, законодательная аксиология, законодательная парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/14119996
IDR: 14119996 | УДК: 340.13
Текст научной статьи Рецензия на монографию А.Ю. Викулина "Начала теории законодательных дефектов" М.: Норма, 2019. 312 с
Р ецензируемая монография А.Ю. Викулина «Начала теории законодательных дефектов» посвящена выявлению, описанию и объяснению законодательных дефектов, выявлению причин их появления, предсказанию их последствий, а также поиску путей и способов их устранения. [1, с.17]
Законотворчество, являясь видом человеческой деятельности, и его результат – нормативный акт, как и другие виды человеческой деятельности, и их результат не свободны от ошибок, изъянов, которые в нашем случае имеют форму законодательных дефектов. [2 , с.383.]. Они, как обосновано в доктрине и подтверждает практика, оказывают весьма негативное воздействие на качество принимаемых нормативных актов и правоприменение.
По своему содержанию теория законодательных дефектов, как следует из рецензируемой работы, призвана ответить на следующую группу взаимосвязанных вопросов:
– что есть «законодательный дефект», какова его сущность;
– какие действия законодательного органа и законодателя приводят к появлению «законодательных дефектов»;
– по какой причине законодатель действует таким образом;
– под влиянием каких факторов законодательный орган и законодатель совершают эти действия;
– каким образом «законодательные дефекты» воздействуют на процесс образования в российском законодательстве антиправового, правонарушающего, неправового закона;
– что делает возможным образование и применение в Российской Федерации неправовых законов, наделенных серьезными законодательными дефектами, регулирующих в том числе отношения с участием государства, финансовых организаций и потребителей их услуг, в то время как в стране существует система специальных институтов, задачей которой является контроль за качеством принимаемых нормативных актов и пресечение подобных нарушений.
Каковы пути и способы устранения, минимизации законодательных дефектов в российском праве?
В отечественной литературе исследованию этих вопросов уделено большое внимание. Однако рецензируемая работа отличается от них тем, что специально посвящена монографическому исследованию перечисленных вопросов, а также тем, что в ней, как показывает анализ, изложена теория, разработанная автором, объясняющая появление в российском законодательстве законодательных дефектов, возникновение правонарушающего, неправового законодательного акта, а также предлагающая пути и способы их устранения, что позволило придать его выводам по этим вопросам научно обоснованный характер.
Опираясь на имеющиеся в российской доктрине исследования понятия «законодательные дефекты» и причин, их порождающих, а также на вывод, что правотворческая ошибка – это результат несоблюдения правотворческим органом каких-либо общепринятых правил, стандартов, требований, [2, с.383.] А.Ю. Викулин дает определение понятию «законодательный дефект». «Под законодательными дефектами, – пишет он, – мы понимаем законодательные положения, которые имеют логические, лингвистические и (или) методологические изъяны, расходятся с Конституцией и обусловлены неверной законодательной аксиологией, нарушением правил законодательной техники и (или) законодательного процесса. Законодательные дефекты, – продолжает он, – создают предпосылки для злоупотребления правом со стороны участников регулируемых отношений и являются свидетельством либо некомпетентности законодателя, либо нарушения им меры сбалансированного социального поведения» [1, с.58].
Анализ этих работ позволил ему выявить и описать совокупность зафиксированных в литературе за- конодательных дефектов и предложить весьма содержательную и обоснованную их классификацию (выявленный перечень зафиксированных в этих работах типов законодательных дефектов автор подтверждает и иллюстрирует детальным анализом Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», который, как показал анализ, «демонстрирует почти все типы и виды законодательных дефектов»). [1, с.42] Согласно А.Ю. Викулину классификация законодательных дефектов означает деление объема родового понятия «законодательные дефекты» по определенным основаниям, при котором объем названного родового понятия делится на типы, а типы, в свою очередь, подразделяются на виды и подвиды. При этом если наименования типов законодательных дефектов указывают на их происхождение – на область мыслительной и (или) предметной деятельности законодателя, в которой следует искать истоки соответствующих законодательных дефектов, или ответ на вопрос, изъяном какого структурного элемента законодательства является данный законодательный дефект, то наименования видов и подвидов законодательных дефектов определяет их существо, т.е. говорит о том, какое общепринятое правило, какое установленное требование в данном случае не соблюдено. [1, с.64]
Руководствуясь этим подходом, автор классифицирует законодательные дефекты и показывает, что с точки зрения их происхождения они разграничиваются на следующие типы:
– дефекты законодательной аксиологии;
– дефекты законодательной техники;
– дефекты законодательного процесса, [1, с.65] которые, в свою очередь, подразделяются на соответствующие виды и подвиды. Так, например, дефекты за-конодательнойаксиологии включаютследующие виды: – дефекты законодательной парадигмы;
– дефекты законодательных презумпций;
– дефекты законодательной аксиоматики;
– дефекты законодательных аксиоматических фикций.
На соответствующие виды и подвиды подразделяются, как показано в работе, и два других типа законодательных дефектов. [1, с.70-73]
В рецензируемой монографии всетипы, виды и подвиды законодательных дефектов проанализированы на предмет выявления причин их образования и установления их сути, что, безусловно, имеет большое как теоретическое, так и практическое значение, чем и обусловлено особое внимание, которое уделено в работе исследованию этой проблемы.
Путем анализа и обобщения имеющихся в отечественной литературе работ, посвященных данной проблематике, обширный список которых приведен на страницах 57–58 рецензируемой книги, автор вы- явил и систематизировал причины, которые согласно доктрине приводят к правотворческим ошибкам, изъянам в законодательстве, словом, к законодательным дефектам.
В литературе подчеркивается, что законодательные дефекты в своей основе носят субъективный характер, т.е. вызываются к жизни по воле законодателя либо вследствие его некомпетентности. [3, с.255] Опираясь на это положение, А.Ю. Викулин делает обоснованный вывод, что действия законодателя, которые приводят к законодательным дефектам, осуществляются либо сознательно, либо обусловлены низким уровнем его профессиональной подготовки.
Некомпетентность законодателя, как отмечается в литературе, проявляется в различных формах. К их числу относят: низкую профессиональную подготовку многих законодателей, («Федеральное Собрание – это сегодня законодательный орган для популярных, известных и т.д. персон, довольно часто не имеющих ничего общего с юриспруденцией и государственным управлением») [10, с.28-33] наличие пробелов в их знаниях в области теории права и практики правоприменения [4, с.6], низкий уровень профессионализма инициаторов и разработчиков проектов законов [5, с.5-20], незнание многими участниками законодательной деятельности действующего законодательства, методологии, методики законотворчества, правил законодательной техники и современного русского литературного языка и др.
То, что действия законодателя, наделенные изъянами, обусловленными его некомпетентностью, приводят к появлению законодательных дефектов, вполне очевидно и не требует обоснования. А вот зафиксированный в литературе факт, указывающий на то, что действия законодателя, приводящие к образованию законодательных дефектов, могут наделяться серьезными изъянами не только по причине профессиональной некомпетентности законодателя, но и по иным причинам, в том числе осознанно со стороны законодателя [6, с.41-43], требует самого серьезного исследования и объяснения. Такое исследование проведено А.Ю. Викулиным в рецензируемой монографии, что позволило ему весьма убедительно, на наш взгляд, ответить на возникающие в связи с этим вопросы.
Проведенный в работе тщательный, детальный, всесторонний анализ Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», который, как отмечает автор, «демонстрирует почти все типы и виды законодательных дефектов, их соотношение, взаимозависимость и взаимообусловленность» [1, с.42], позволил ему сделать обоснованный вывод о том, что действия законодателя, которые привели к образованию законодательных дефектов, выявлен- ных в Законе № 123-ФЗ, вызваны к жизни либо наличием у него (у законодателя) соответствующего личного или группового интереса, либо его соответствующими ценностными установками, его мировоззренческой позицией, отрицающей мораль как принцип регуляции социальных отношений, известных в литературе под названием «имморализм».
Касаясь сути этого понятия, А.Ю. Викулин в совместной с А.Г. Тосуняном монографии «Государственное регулирование и мораль», опираясь на известное философское исследование имморализма – монографию Д.Е. Соловьева «Имморализм в истории зарубежной и отечественной философии», определяют понятие «имморализм» как целостную мировоззренческую позицию, которая, как пишет Д.Е. Соловьев, дискредитирует позитивное значение морали вообще посредством отрицания общей значимости нравственных требований; сводит мораль к естественно-биологическим механизмам поведения, к другим измерениям культуры.[7, с.7] Всякий имморализм, подчеркивают они, предполагает сужение поля регулятивной значимости морали за счет произвольного расширения сферы внеморального.[8, с.86]
В связи с этим особое внимание уделено в работе анализу юридического механизма формирования ценностных установок законодателя (под которым в доктрине понимается направленность установки субъекта и его деятельности на определенную ценность, воспринимаемую как благо), его мировоззренческой позиции, определяющая ценностные суждения законодателя относительно разрабатываемого законодательного акта, его значимости. Эти ценностные установки и ценностные суждения законодателя ложатся, как отмечается в работе, в основу разрабатываемого законодательного положения, побуждая к соответствующей деятельности на их основе, что определяет характер правотворческой деятельности законодателя, влияет на качество принимаемых законодательных актов.
В работе отмечается, что согласно доктрине на процесс формирования ценностных установок законодателя воздействует множество факторов, к числу которых в литературе относят в том числе такие «внешние» по отношению к законодательному процессу факторы, как социальные условия, политику, мораль, настроения людей, их предрассудки, общественное мнение, мировоззрение законодателя. Под влиянием этих факторов у законодателя, подчеркивает А.Ю. Викулин, могут возникать и возникают в том числе неверные ценностные и морально-этические установки, которые согласно доктрине считаются таковыми по той причине, что «противоречат принципам Конституции и политике, декларируемой руководством страны». [1, с.80] Они, согласно излагаемой теории, приводят к законодательным положениям, которые не согласуются с Конституцией и могут быть наделены логическими, лингвистическими, методологическими изъянами, а также могут нарушать правила и приемы законодательной техники и процесса, т.е. приводят к законодательным дефектам, следовательно, к правонарушающему законодательству.
Исследование указанного комплекса проблем, связанных с формированием ценностных установок законодателя, его мировоззренческой позиции, его ценностных суждений, определено в работе как предмет законодательной аксиологии. [1, с.80]
Анализ юридического механизма формирования ценностных установок и ценностных суждений законодателя и их влияние на качество принимаемых законодательных предписаний привел автора к обоснованному выводу об исключительной важности и определяющей роли законодательной аксиологии в появлении законодательных дефектов, что сделало необходимым проведение автором специального исследования законодательной аксиологии, которая согласно доктрине изучает природу и иерархию ценностных установок, лежащих в основе законодательных предписаний, их связи между собой, а также их зависимость от социальных, моральных и культурных факторов и структуры ценностного мира законодателя. Законодательная аксиология, подчеркивает автор, тесно связана в том числе с такими категориями, как «концепция закона», «концепция проекта закона», которые, как отмечает Т.Я. Хабриева, являются «идейной моделью будущего законодательного акта, задающую цели и основные параметры его содержания». [9, с.30] При этом, подчеркивает А.Ю. Викулин, определяющее значение имеет то обстоятельство, что в основе любой концепции лежит идея, которая, в свою очередь, базируется на определенных ценностных и морально-этических установках. [1, с.69]
Все это объясняет и обосновывает тезис, выдвинутый автором, об определяющей роли законодательной аксиологии в образовании законодательных дефектов. [1, с.68] Наверное было бы точнее сказать об определяющей роли дефектов законодательной аксиологии, под которой в доктрине понимают, как выше сказано, неверные ценностные и моральноэтические установки законодателя. Они входят в законодательную парадигму и в другие виды законодательной аксиологии, воздействуют на ценностные установки законодателя, на его мировоззренческую позицию, на качество принимаемых законов и право-принимательную практику. Автор подчеркивает, что под их непосредственным воздействием и возникают законодательные дефекты, т.е. соответствующие законодательные положения, наделенные определенными изъянами, воздействия которых на законотворческий и правоприменительный процесс приводят к весьма негативным последствиям.
Обобщая свои многолетние исследования правового регулирования отношения с участием государства, финансовых организаций и потребителей их услуг, автор приводит ряд примеров, которые свидетельствуют, во-первых, о том, что федеральное законодательство, регулирующее эти отношения, переживает системный кризис; во-вторых, что этот кризис выражается в систематическом нарушении этими законами конституционных прав финансовых организаций и связанных с ними лиц; в-третьих, что на возникновение этого кризиса определяющее воздействие оказали дефекты законодательной аксиологии, в первую очередь неверные ценностные идеологические установки, входящие в законодательную парадигму, принятую в российском праве, которые отрицают конституционные принципы равенства и недопустимости осуществления прав и свобод человека и гражданина за счет нарушения прав и свобод других лиц, допускают произвольное ограничение прав и свобод финансовых организаций и потребителей их услуг в пользу государства; считают возможным осуществлять права и свободы потребителей финансовых услуг путем нарушений прав и свобод финансовых организаций; признают, что потребители финансовых услуг не равны между собой, как и финансовые организации, которые тоже не равны между собой. [1, с.84-87]
На возникновение этого кризиса оказало большое воздействие, как показано в работе, и юридическое положение законодательной презумпции, широко распространенная среди российских законодателей, огульно утверждающая мысль о патологической склонности финансовых организаций к совершению общественно опасных деяний до того, как оно совершено и чья-либо причастность к соответствующим действиям установлена, известное в литературе под названием патернализм законодателя.
Руководствуясь убежденностью в истинности данного положения, законодатель, пишет автор, установил правило, согласно которому презумпция невиновности применяется в основном в отношении государства и потребителей финансовых услуг, а презумпция вины и недобросовестности – только в отношении финансовых организаций. Этот вопиющий факт дискриминации финансовых организаций, несоблюдение их законных прав, пишет автор, наглядно демонстрируют современное законодательство, регулирующее указанные отношения. [1, с.91]
В работе показано, что на возникновение кризиса названного законодательства прямое влияние оказывают неверные ценностные установки и двух других видов законодательной аксиологии.
Приведенные примеры законодательного регулирования отношений с участием государства, финансовых организаций и потребителей их услуг свидетельствует о том, что законодательная парадигма, на кото- рой они базируются, обусловлена мировоззренческой позицией законодателя, не признающая приоритета морали над прагматичным и меркантильным популизмом, и проявляется в систематическом нарушении конституционных прав финансовых организаций и связанных с ними лиц, известная в литературе как имморализм. В работе эта мировоззренческая позиция квалифицируется как государственный имморализм.
Хотя в работе нет прямого ответа на вопрос, почему имморализм обозначен как государственный, однако тот факт, что он, как целостная мировоззренческая позиция, отрицающая мораль как принцип регуляции социальных отношений, проявляется, как показывает автор, в положениях действующего законодательства, т.е. в уже принятых государством, к тому же в нашем случае принятых на федеральном уровне, говорит о том, что государство поддерживает, разделяет эту позицию, что и позволило обозначить имморализм государственным.
Приведенные примеры законодательного регулирования отношений с участием названных лиц говорит и убеждает в том, что в основе парадигмы законодательного регулирования этих отношений лежит ведомственный волюнтаризм. [1, с.86] Он выражается, как наглядно показывает автор на многочисленных примерах, в том, что органы публичной власти, регулирующие деятельность подотчетных им лиц, принимают решения, которые, как правило, исходят из узковедомственных интересов органа, принимающего решение, без учета конституционных прав и законных интересов регулируемых лиц.
Из вышеизложенного следует, что законодательство, регулирующее отношения с участием государства, финансовых организаций и потребителей их услуг, наделено многими признаками правонарушающего, неправового законодательства, что ему присущи многочисленные законодательные дефекты.
В связи с этим у читателя возникает вопрос: что способствует созданию и правоприменению у нас законодательных актов, наделенных подобными законодательными дефектами? Почему на эти недостатки не обращает внимание существующая в стране государственная система специальных институтов, в задачи которой входит контроль за качеством принимаемых законодательных актов и пресечение подобных нарушений?
В работе весьма убедительно показано, что подобное положение порожденодвумя обстоятельствами. Во-первых, оно является следствием господства в российском праве современной парадигмы законодательного регулирования отношений с участием государства, финансовых организаций и потребителей их услуг, в структуру которой входят, как следует из работы, идеологические установки, отрицающие ряд конституционных принципов, что обусловлено, как верно отмечает автор, в первую очередь имморализмом – мировоззренческой позицией, отрицающей мораль как принцип регулирования социальных отношений, широко распространенный среди российских законодателей и оказывающий определенное воздействие на образование законодательных дефектов. Согласно автору, парадигма законодательного регулирования отношений является совокупностью общих теоретических и методологических положений, принятых законодателем на современном этапе развития и используемых им в качестве образца для создания законодательства. [1, с.83]
Во-вторых, это положение порождено тем фактом, что мировоззренческую позицию имморализма, под влиянием которой законодатель совершает действия, приводящие к образованию законодательных актов, наделенных соответствующими законодательными дефектами, органы государственной власти, как показывает автор, поддерживают и разделяют. Этими обстоятельствами и объясняется «странное» на первый взгляд поведение специальных контролирующих органов, которые не реагируют на действия законодателя, обусловленные его мировоззренческой позицией имморализма, приводящие к образованию законодательных дефектов.
Особый интерес вызывает весьма обоснованное предложение автора дополнить обязательную сегодня антикоррупционную экспертизу независимой комплексной общественно-научной экспертизой законодательных актов (их проектов) на предмет наличия в них законодательных дефектов и сведения к минимуму рисков: злоупотребление государственными органами властью; нарушения баланса прав и законных интересов субъектов регулируемых отношений; нарушения установленных правил законотворческого процесса, государственного регулирования, а также принятых в обществе норм морали.
Согласноавтору этаэкспертиза будет носить подлинно общественный характер, если в нее войдут в том числе Общероссийский национальный фронт; общественные организации, представляющие финансовые организации и потребителей финансовых услуг и др.
Однако в связи с тем, что указанные организации могут представлять в том числе прямо противоположные интересы, их участие в проведении экспертизы, как верно отмечает автор, необходимо, но недостаточно. В состав экспертного совета должны войти соответствующие ученые, в первую очередь правоведы, которые могут дать квалифицированную оценку закона (законопроекта) во взаимосвязи с Конституцией РФ и действующим законодательством, а также экономисты, философы, социологи, психологи, лингвисты, политологи и другие специалисты.
Список литературы Рецензия на монографию А.Ю. Викулина "Начала теории законодательных дефектов" М.: Норма, 2019. 312 с
- Викулин А.Ю. Начала теории законодательных дефектов. М.: Норма, 2019.
- Российское законодательство: проблемы и перспективы / Гл. ред. Л.А. Окуньков. М., 1995.
- Пресняков М.В. Конституционная концепция принципа справедливости / Под ред. Г.Н. Комковой. М., 2009.
- Поляков С.Б. Дефекты законодательства и правоприменительной практики как предмет юридической науки // Российский юридический журнал. 2017. № 1.
- Горохов Д.Б., Горохова Ю.В. Животные и растения - субъекты права по законодательству РФ: констатация абсурда или научное открытие? // Адвокат. 2016. № 11.
- Полатов Ю.Д. Отдельные теоретические аспекты оптимизации законотворческого процесса при формировании гражданского законодательства // Гражданское право. 2014. № 6.
- Соловьев Д.Е. Имморализм в истории зарубежной и отечественной философии. Саранск, 1998.
- Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Государственное регулирование и мораль. Т. 1. Сила в правде. Некоторые признаки государственного имморализма на примере законодательства о кредитных историях. М.: ИКАР, 2018.
- Хабриева Т.Я. Глобализация и законодательный процесс // Правотворчество и технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации. М.; Н. Новгород, 2007.
- Киричек Е.В. Федеральное Собрание Российской Федерации - на страже прав и свобод человека и гражданина: парадигмы и противоречия организации и деятельности.