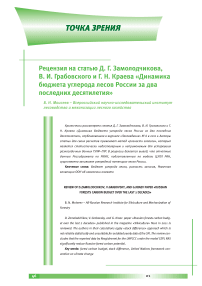Рецензия на статью Д. Г. Замолодчикова, В. И. Грабовского и Г. Н. Краева «Динамика бюджета углерода лесов России за два последних десятилетия»
Автор: Моисеев Б.Н.
Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information
Рубрика: Точка зрения
Статья в выпуске: 1, 2012 года.
Бесплатный доступ
Критически рассмотрена статья Д. Г. Замолодчикова, В. И. Грозовского и Г. Н. Краева «Динамика бюджета углорода лесов России за два последних десятилетия», опубликованная в журнале «Лесоведение» № 6 в 2011 г. Авторы статьи для своих расчетов применяют метод «разности запасов», который является статистически недостоверным и неприменимым для устаревших разногодичных данных ГУЛФ-ГЛР. В рецензии делается вывод, что отчетные данные Росгидромета по РКИК, подготовленные по модели ЦЭПЛ РАН, существенно занижают углеродный потенциал лесов России.
Бюджет углерода лесов, разность запасов, рамочная конвенция оон об изменении климата
Короткий адрес: https://sciup.org/14336491
IDR: 14336491
Текст научной статьи Рецензия на статью Д. Г. Замолодчикова, В. И. Грабовского и Г. Н. Краева «Динамика бюджета углерода лесов России за два последних десятилетия»
REVIEW OF D.ZAMOLODCHIKOV, V.GRABOVSKY, AND G.KRAEV PAPER «RUSSIAN FORESTS CARBON BUDGET OVER THE LAST 2 DECADES»
B. N. Moiseev – All-Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry
D. Zamolodchikov, V. Grabovsky, and G. Kraev paper «Russian forests carbon budget over the last 2 decades» published in the magazine «Silviculture» No.6 in 2011 is reviewed. The authors in their calculations apply «stock difference» approach which is not reliable statistically and unsuitable for outdated yearly data of the SFI. The review concludes that the reported data by Rosgidromet for the UNFCCC under the model CEPL RAS significantly reduce Russian forest carbon potential.
Вжурнале «Лесоведение» № 6 за 2011 г. была опубликована статья сотрудников Центра по экологии и продуктивности лесов РАН Д. Г. Замолодчикова, В. И. Грабовского и Г. Н. Краева «Динамика бюджета углерода лесов России за два последних десятилетия» . В статье впервые достаточно подробно излагаются методика и расчеты годичного поглощения углерода лесами России, по результатам которых Росгидрометом представляются национальные данные по программе Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).
Авторы совершенно справедливо сетуют на то, что опубликованные оценки стока углерода в лесах России очень широко варьируют (от 100 до 600 Мт С/год):«...современный уровень знаний не позволяет с достаточной точностью определить величины бюджета углерода лесов» и «...фактическая неопределенность оценок существенно превышает их абсолютные величины». С этим трудно не согласиться. Однако сами авторы в этой и предшествующих работах используют такие методики расчетов, результаты которых являются недостоверными с точки зрения математической статистики, лесной науки и таксации леса. Так, авторы признают, что в ряде предшествующих работ они использовали методический подход, который «...базируется на разности запасов углерода в последовательные годы учетов». Однако авторы не пишут, что результаты расчетов по этому методу были статистически недостоверными в силу своей неопределенности, но, тем не менее, вошли в отчетность Росгидромета во II, III, IV и V Национальных сообщениях Российской Федерации, представленных в соответствии со статьями 4 и 12 Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Приведенные данные были занижены в 5–10 раз, а по некоторым годам имели отрицательное значение, т.е. в эти годы огромные лесные пространства РФ являлись, якобы, источником СО2. Из практики и учебника таксации известно, что по разности запасов даже на постоянных пробных площадях очень трудно определить годичный прирост древостоя, так как абсолютная ошибка измерения запаса значительно выше разницы запасов. Одно выпавшее дерево на пробной площади может привести к отрицательному приросту запаса за учетный период. Тем более, если речь идет о лесах огромного региона или лесничества.
В своей статье авторы признают, что представленная в ней методика расчетов (РОБУЛ) является «...обобщением предшествующих работ авторского коллектива», и дают ссылки на свои публикации, в которых использован метод по разности запасов. И действительно, метод РО-БУЛ есть не что иное, как наукообразная модификация этого методического подхода. Так, годичный прирост углерода оценивается авторами «...по динамике средних значений углеродных пулов в возрастных группах лесных насаждений по совокупности уравнений». Если кратко и иными словами: «среднее годичное поглощение углерода данным пулом» – МА (например, древостоем) определяется по разности запасов углерода в смежных возрастных группах – МС, деленной на временной интервал возрастной группы (Т) преобладающей породы. Возможно, это было бы правильно, если бы не пресловутая «разность запасов» и если бы это относилось к естественному ряду древостоев или таблицам хода роста одного класса бонитета. Дело в том, что учетные данные государственного учета лесного фонда (ГУЛФ) и государственного лесного реестра (ГЛР) по породам – это сводные, гетерогенные данные разных годов лесоустройства, разной точности, и даже на уровне лесничества – это свод данных по древостоям разной полноты и разных классов бонитета. Последнее очень важно, так как в лесах России происходит накопление спелых и перестойных древостоев V–Vб классов бонитета, поэтому разность удельных запасов между приспевающими и спелыми древостоями одной породы почти во всех лесничествах отрицательная. Так, по данным ГЛР–2008, средний удельный запас древесины в группе приспевающих сосняков составляет 174 м3/га, в спелых – 142 м3/га, а в перестойных – 169 м3/га. С точки зрения математической статистики, значения запасов в группе приспевающих древостоев сосны принадлежат к другой выбороч- ной совокупности, отличной от группы спелых древостоев, поэтому их сравнивать нельзя. Таких скачков значений запаса не может быть в естественных рядах групп возраста одного класса бонитета.
Более того, учетные данные ГУЛФ–ГЛР по группам возраста той или иной породы являются сводкой данных по древостоям разных возрастов, так как распределение по возрастным группам зависит от возраста рубки. В свою очередь, возраст рубки породы зависит от зоны и района произрастания, класса бонитета и целевого назначения лесов. Так, например, возраст рубки сосновых, еловых, пихтовых и лиственничных древостоев в средне-таежном районе европейской территории России (ЕТР) составляет: для III и выше классов бонитета – 81–100 лет в эксплуатационных и 101–120 лет в защитных лесах; для IV и выше классов бонитета – 101–120 лет в эксплуатационных и 121–140 лет в защитных лесах. Таким образом, приспевающие древостои сосны в этом примере могут быть формально в возрасте от 61 до 120 лет. Какой же должен быть «временной интервал возрастной группы – Т» – 20 лет или 60 лет? Какой диапазон реальных удельных запасов будет в возрастной группе? Понятно, что уже в сводных данных ГУЛФ–ГЛР заложена большая неопределенность, которая не позволяет использовать метод РОБУЛ в возрастных группах.
Далее авторы статьи утверждают, что расчеты по методу РОБУЛ дают сходные результаты с методом «по разности запасов», что «смена расчетного подхода существенно не изменила искомую величину» оценки бюджета за 1990–2005 гг. Эта смена и не могла изменить, так как метод РО-БУЛ – это завуалированный метод «по разности запасов», но только по группам возраста.
Следует остановиться на некоторых других ошибках и неточностях статьи, так как они вводят в заблуждение неискушенных читателей. Самые первые строки статьи утверждают, что «Современное глобальное потепление климата, вызванное антропогенным повышением концентраций парниковых газов в атмосфере, привело к стремительному росту...». Даже документы РКИК ООН такое не утверждают. Нет научных доказательств того, что глобальное изменение климата и повышение концентрации парниковых газов вызвано антропогенными факторами.
По замыслу авторов, годичное накопление углерода в пулах лесной подстилки и почвы рассчитывается так же, как и для пула древостоя, т.е. по разности запасов в возрастных группах. Сама возможность таких расчетов для почв вызывает, по меньшей мере, изумление. Если оценки надземного, видимого запаса углерода осуществляются с большим трудом и большой неопределенностью, то каким образом можно, даже приблизительно, оценить годичную разность запасов того, что мы не видим и не можем измерить? Кроме того, известно, что накопление углерода в лесных почвах происходит в течение многих столетий в результате очень сложных окислительно-восстановительных процессов и газообмена. Но авторы статьи на этом не останавливаются и рекомендуют рассчитать потери пулов подстилки и почвы (!) при сплошных рубках и пожарах по уравнениям (9 и 10). Поставленная задача, возможно, под силу целому почвенному институту на многолетний период. Поражает в статье сверхточный расчет годичного поглощения углерода почвой в размере 66,4 Мт С/год (это 0,01% от запаса С в почве!). Каким образом это можно измерить и подсчитать – остается загадкой.
Далее авторы пишут: «Годичный бюджет по каждому из пулов углерода рассчитывается для покрытых лесом земель оцениваемого объекта по разности поглощения и потерь». Необходимо напомнить авторам, что бюджет как раз и состоит из двух частей: поглощения и потерь, прихода и расхода, а разность между ними в экономике называется прибылью, в экологии – чистой продукцией, а в лесоводстве – приростом.
Авторы статьи полагают, что их оценка годичного поглощения углерода лесами соответствует текущему приросту древесины в объеме 600,4 млн м3/год. Это явное заблуждение, так как оценить текущий прирост, даже на постоянных пробных площадях, практически невозможно. Он определяется по моделям как средняя величина за 5 или 10 лет, т.е. фактически мы имеем дело со средним периодическим приростом. Тем более невозможно оценить текущий прирост по запасам ГУЛФ–ГЛР, которые были получены с большой неопределенностью по сводным данным лесоустройств разных разрядов, проведенных от 5 до 55 лет назад.
Авторы критикуют и полностью игнорируют общий средний прирост, приведенный в базах данных ГУЛФ–ГЛР. Да, средний прирост имеет свои недостатки. Но систематические ошибки среднего прироста имеют разный знак и в суммарных оценках прироста на уровне лесничеств и/или регионов взаимно погашаются. Следует также учитывать, что приведенные в ГУЛФ–ГЛР данные по общему среднему приросту взяты из материалов лесоустройств, в которых средний прирост определяется по сложной таблице классов возраста, по породам, классам бонитета и группам полнот. В этом случае мы получаем средние периодические приросты в каждом классе возраста, которые после суммирования на уровне лесничества и обобщения в ГУЛФ–ГЛР характеризуют общий средний прирост региона и страны в целом. Таким образом, в учетных данных земель лесного фонда нет простого деления запаса на средний возраст, как это утверждают авторы статьи.
Удивляет позиция авторов в отношении рекомендаций Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Так, в «Руководящих указаниях по эффективной практике для сектора землепользования, изменений в землепользовании и лесном хозяйстве» – LULUCF (2006) предложена одна из двух методик расчетов по уравнению 3.2.5 для оценки среднегодового приращения биомассы. В качестве основного параметра расчетов принято среднегодовое приращение объема стволовой древесины, т.е. параметр среднего прироста, который приведен в готовом виде в лесохозяйственных регламентах, лесных планах и ГЛР. Так, при среднем годичном приросте запаса 1 млрд м3/год только в древесине стволов в лесах России ежегодно депонируется до 250 млн т С. Однако авторы статьи упорно игнорируют этот доступный и легкопро-веряемый метод и настойчиво пропагандируют метод «по разности запасов», результаты расчетов по которому статистически недостоверны и существенно занижают углеродный потенциал лесов России.