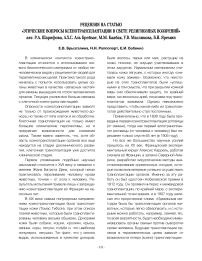Рецензия на статью «Этические вопросы ксенотрансплантации в свете религиозных воззрений» авт. Р. А. Шарифова, А. Х. Брейзат, М. М. Каабак, У. В. Масликова, Б.И. Яремин
Автор: Брызгалина Е. В., Раппопорт Н. Н., Бабенко Е. И.
Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz
Рубрика: Донорство и трансплантация органов и тканей
Статья в выпуске: 1 (55), 2022 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/143178299
IDR: 143178299
Текст статьи Рецензия на статью «Этические вопросы ксенотрансплантации в свете религиозных воззрений» авт. Р. А. Шарифова, А. Х. Брейзат, М. М. Каабак, У. В. Масликова, Б.И. Яремин
В клиническом контексте ксенотрансплантация относится к использованию живого биологического материала от любых нечеловеческих видов у реципиентов-людей для терапевтических целей. Практика такого рода началась с попыток использовать целые органы животных в качестве «запасных частей» для замены вышедших из строя человеческих органов. Текущие усилия все больше связаны с клеточной ксенотрансплантацией.
Опасности ксенотрансплантации зависят не только от происхождения животного-донора, но также от типа клеток и их обработки. Клеточная трансплантация не только имеет большие клинические перспективы, но и предлагает возможности для снижения риска. Также важно заметить, что, хотя область ксенотрансплантации органов все еще находится на стадии доклинического развития, клеточная трансплантация уже достигла клинической стадии.
Первое упоминание подобных научных изысканий относится к XVII веку и связанно с именем Жана Батиста Дени, который начал практиковать переливание человеку крови животных, точнее – от осла к человеку. Результаты испытаний привели лишь к запрещению ксенотрансплантации во Франции на несколько лет.
В XIX веке самым популярным направлением ксенотрансплантации была трансплантации кожи (Томас Гибсон), при этом список тканей животных, которые были трансплантированы человеку весьма обширен, Донорами кожи были собаки, кошки, кролики, крысы, свиньи, куры, петухи, голуби и, что наиболее популярно, лягушки. Тот факт, что у многих видов, использованных в качестве доноров, были волосы, перья или мех, растущие из кожи, похоже, не смущал участвовавших в этом хирургов. Идеальным материалом считалась кожа лягушек, с которых иногда «снимали кожу заживо». Возможно, что некоторые из этих трансплантатов были «успешными» в том смысле, что при закрытии кожной язвы они обеспечивали защиту, по крайней мере, на несколько дней, пока язва под трансплантатом заживала. Однако невозможно представить, чтобы какой-либо из трансплантатов действительно стал постоянным.
Примечательно, что в 1838 году была проведена первая ксенотрансплантация роговицы (от свиньи), тогда как первый аллотрансплантат роговицы (от человека к человеку) был пересажен только спустя 65 лет (в 1905 году).
Но все же большинство научных усилий пришлось на XX век. Французский экспериментальный хирург Алексис Каррель, работая сначала во Франции, а затем в Северной Америке, разработал хирургические методы анастомозирования кровеносных сосудов, которые позволили впервые успешно осуществить трансплантацию органов. Именно за эту работу он был удостоен Нобелевской премии в 1912 году. Он проявил интерес к межвидовой трансплантации, по крайней мере, с экспериментальной точки зрения, и в 1907 году написал эти пророческие слова: «Идеальным методом была бы трансплантация органов животных, которые легко обезопасить, и с которыми можно работать, например, свиней. Но, по всей вероятности, будет необходимо иммунизировать органы свиньи против сыворотки крови человека. Будущее трансплантации органов в терапевтических целях зависит от возможности гетеро (ксено) трансплантации».
И это именно то, о чем мы, спустя 100 лет, до сих пор спорим.
Еще одним человеком, опередившим время, был Серж (Сергей Абрамович) Воронов, который занимался проблемами «омоложения» с помощью трансплантации клеток, вырабатывающих гормон, в котором реципиент испытывал дефицит. Главный интерес Воронова состоял в том, чтобы обратить вспять эффекты старения у пожилых мужчин, утративших «интерес к жизни». Он выполнил значительное количество трансплантаций яичек шимпанзе или павиана самцам-реципиентам. Его техника заключалась в том, чтобы разрезать яичко животного и вставить его в яичко реципиента. Процедура стала популярной по обе стороны Атлантики, было выполнено несколько сотен таких операций. Невозможно представить, чтобы это оказало хоть какое-то благотворное влияние, кроме психологического, но были сообщения о заметном «омоложении» мужчин и значительном повышении энергии после операции. Осложнения операций должны были быть значительными, поскольку, по-видимому, в некоторых случаях срезы донорского яичка некротизировались и вызывали воспалительные или инфекционные осложнения. Удивительно, но сообщения о таких осложнениях были редкостью.
История ксенотрнасплантации также была связана с несколькими случаями шарлатанства. Доктор Джон Бринкли, работал в основном в Канзасе и Техасе. В качестве донора для его экспериментальной операции был выбран козёл, поскольку местный фермер убедил его в больших сексуальных возможностях ксено-донора. Похоже, что Бринкли не был серьезным хирургом-трансплантологом, и, хотя это принесло ему состояние, его работа приобрела серьезную дурную славу, и в конечном итоге он был изгнан из медицины Американской медицинской ассоциацией. Тем не менее, эта концепция ксенотрансплантации сохраняется до настоящего времени.
К 1960-м годам, несмотря на ограниченную доступность донорского материала, во Франции и США хирурги начали практиковать трансплантацию почек посмертных доноров.
В то время процедура диализа еще не использовалась в клинической практике и, учитывая то, что в отсутствии донорских почек его пациенты с почечной недостаточностью неизбежно погибли бы, хирург из Луизианы Кейт Реемтсма предпринял беспрецедентную попытку трансплантировать им почки животных. В качестве доноров он выбрал шимпанзе, как наиболее близких родственников человека с эволюционной точки зрения.
Хотя в 12 из 13 случаев в течение двух месяцев после проведения процедуры у пациентов развилось отторжение донорского органа или инфекционное осложнение, один пациент продолжал жить и работать с хорошим самочувствием в течение девяти месяцев, после чего внезапно умер от острого нарушения водно-солевого баланса. Вскрытие показало, что почки шимпанзе не имели признаков отторжения и функционировали нормально.
Эксперименты по ксенотрансплантации жизненно важных органов живым пациентам продолжались до 1980-х годов, но не приносили долгосрочных успехов. Однако эти процедуры привлекали внимание широкой общественности (одной из наиболее известных была проведенная в 1983 году неудачная трансплантация сердца бабуина новорожденной девочке), что привело к росту донорства органов.
Сейчас же большинство исследований в этой сфере сходятся в том, что, несмотря на очевидное сходство между человеком и другими приматами, в настоящее время наиболее подходящим донором для ксенотрансплантации считаются свиньи.
Дороги свиньи и человека на эволюционном пути разошлись десятки миллионов лет назад, однако исследования показали, что ДНК этих двух видов очень схожи, тогда как органы свиней анатомически и физиологически – как по размеру, так и по функциям – сопоставимы с человеческими.
История ксенотрансплантации носит достаточно эксцентричный характер. Возможно, именно это является причиной недостаточности клинических данных, чтобы сделать объективную выборку и срез, которые могли бы быть основаны на определённых параметрах, как то, например, выживаемость после трансплантации, скорость отторжения или приживаемость органов.
Безусловно для реализации научных целей нашей дискуссии хотелось привести статистический анализ хотя бы до клинических результатов, но все мировые лидеры в этой отрасли ограничиваются биоэтическими спорами. Становится понятным почему авторы обзора так же не ссылаются на результаты прямых разработок таких монстров в этой области как Такаюки Ямамото, коллектив Алабамского университета в Бирмингеме (UAB), Бирмингем, институт Томаса Старзла, Сянъя Центрального Южного университета, Чанша, Хунань, Китай.
Хотя потенциальные преимущества значительны, внедрение ксенотрансплантации наряду с трансплантацией органов от человека к человеку вызывает опасения относительно потенциального заражения реципиентов как признанными, так и нераспознанными инфекциями, и возможной последующей передачи их близким пациента и населению в целом. Беспокойство вызывает также возможность межвидового заражения различными вирусами, которое может приводить к заболеванию через несколько лет после заражения. Более того, новые инфекционные агенты не всегда можно легко идентифицировать с помощью существующих методов.
В настоящее время ксенотрансплантация остается скорее экспериментальным видом трансплантации органов. Конечно же, решения о клинических испытаниях должны основываться на углубленном исследовании этого вопроса в нескольких плоскостях нашей жизни:
от здравоохранения до юриспруденции и теологии. Формирование консенсуса в отношении соответствующей государственной политики часто рождает жаркие споры среди ученых, специалистов по этике и правозащитников.
Развитие научных и прикладных проектов в сфере ксенотрансплантации как одного из вариантов решения проблемы дефицита донорских органов для трансплантологических целей требует широкого диалога специалистов с обществом в целом, отдельными его институтами, включая церковь.
Острые ценностные конфликты относительно допустимости создания ксенохимер, разрушающего естественно данные границы между биологическими видами, касаются фундаментальных вопросов соотношения индивидуального и коллективного блага, риска и пользы, справедливости доступа к ресурсу животных органов и предотвращения дискриминирующих ксенореципиента последствий получения животного органа. Особый круг вопросов возникает в многоконфессиональном обществе при отсутствии явной конфессиональной позиции по отношению к такому вектору научно-технологической модификации человеческой телесности.
Значимым является то, что авторы статьи выявляют актуальность исследования отношения различных конфессиональных групп к определенным аспектам ксенотрансплантации. Такое исследование, в первую очередь, должно носить религиоведческий характер и быть направлено на концептуальную реконструкцию допустимости ксенотрансплантаций с точки зрения вероучения, конфессионального отношения к ценности человеческой жизни и статусу других видов живого.
Анализ отношения монотеистических религий к ксенотрансплантации – весьма сложная задача, поскольку методологией выработки религиозной позиции по биоэтическим вопросам является моделирование: выведение суждений о конкретных этических вопро- сах развития новых технологий из канонических текстов и(или) позиций церковных иерархов и(или) традиционных норм. Методологическая уязвимость моделирования относительно ксенотрансплантации вызвана новизной инструментария технологической модификации человека, устанавливающего прямую зависимость ее применения от позиции субъекта; отсутствием достаточного количества официально признаваемых церквями аналитических источников, созданных при участии конфессионально ориентированных экспертов-медиков и биологов; трудностями интерпретации священных текстов и традиционных норм, сформулированных в истории культуры в определенных духовных, социально-экономических и политических условиях, с учетом понятийного аппарата современной науки.
Иудаизм, опирающийся на систему норм, восходящих к талмудической традиции и традиционному иудейскому закону, в целом не опирается на представление об автономии пациента. Требует дальнейшего обсуждения использованный авторами статьи прием: распространение отношения иудаизма к экспериментированию на ксенотрансплантацию и редактирование генома.
Традиции христианства существенно различаются по отношению к биоэтическим проблемам. Православие не имеет единую биоэти-ческую позицию в силу существования нескольких поместных церквей. Базовое положение христианской антропологии о том, что человек есть «образ Божий», может стать основанием как запрет на сотворение ксенореципи-ента, выходящего за пределы Божественного замысла, так и одобрение спасения конкретного человека в формате исключения из церковных постановлений. Позиция Русской Православной церкви, основанная на Божественном откровении, обобщена в «Основах социальной концепции РПЦ», однако этот документ начала 2000-х не охватывает всего поля проблем, мультиплицирующихся по мере развития науки и технологий. Уточнения требует выделенная авторами статьи апелляция к разумности в использовании животных для достижения человеческих целей. Католицизм, используя по отношению к биоэтическим вопросам принцип градуализма, в целом положительно относится к трансплантологии, но уточнение этой позиции по отношения к ксенотрансплантации, как и позиции множественных течений в протестантизме – отдельная задача.
Ислам, опираясь на письменные источники веры – Коран и Сунны, а также авторитет центров исламской учености, при всех различиях в традициях утверждает одновременно и высший приоритет жизни, и то, что «все находится в руках Божьих». Следует поддержать авторов статьи в попытках обратить внимание на ограничения и противоречия правовых конструкций, создаваемых на базе заимствования религиозных источников при анализе конкретных ситуаций, при более четком разделении при дальнейших исследованиях собственно правовой и этической проблематики.
Концептуальный анализ оснований для конфессиональных позиций позволит переходить к социологическим и психологическим исследованиям, результаты которых значимы для принятия законодательных инициатив и управленческих решений в сфере ксенотрансплантации.
Достижение достаточного объема научных исследований и дебатов по данной теме именно на трансдисциплинарном уровне внесут неоценимый вклад в развитие этой области хирургии и медицины в целом, а также позволят более глубоко рассмотреть вопросы, поднятые при разработке социальной политики в отношении ксенотрансплантации, что представляет собой хороший пример для более общих дискуссий о том, как следует разрабатывать и внедрять биомедицинские технологии.