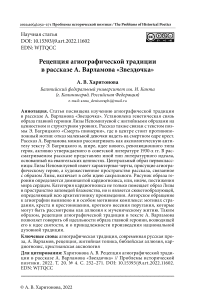Рецепция агиографической традиции в рассказе А. Варламова "Звездочка"
Автор: Харитонова Анна Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению агиографической традиции в рассказе А. Варламова «Звездочка». Установлена генетическая связь образа главной героини Лизы Непомилуевой с житийными образами на ценностном и структурном уровнях. Рассказ также связан с текстом поэмы Э. Багрицкого «Смерть пионерки», где в центре стоит противоположный мотив: отказ маленькой девочки надеть на смертном одре крест. Рассказ А. Варламова можно рассматривать как аксиологическую антитезу тексту Э. Багрицкого и, шире, идее нового, революционного типа героя, активно утверждаемого в советской литературе 1930-х гг. В рассматриваемом рассказе представлен иной тип литературного идеала, основанный на евангельских ценностях. Центральный образ первоклассницы Лизы Непомилуевой имеет характерные черты, присущие агиографическому герою, а художественное пространство рассказа, связанное с образом Лизы, включает в себя идею сакрального. Рисунок образа героини определяется доминантой кардиогнозиса, или, иначе, постижения мира сердцем. Категория кардиогнозиса не только помещает образ Лизы в пространство заповедей блаженства, но и является сюжетообразующей, определяющей всю архитектонику произведения. Авторское обращение к агиографии выявлено и в особом мотивном комплексе: мотивах страдания, креста и крестоношения, кроткого несения поругания, которые могут быть рассмотрены как аллюзия к мученическому житию. Таким образом, рецепция агиографической традиции в тексте А. Варламова позволяет говорить об идеальности образа главной героини, возводящей его к идее святости, и о принадлежности произведения национальной духовной традиции.
Агиографическая традиция, современная русская проза, а. варламов, рецепция, житийная топика, библейская аллюзия, кардиогнозис, христианская аксиология
Короткий адрес: https://sciup.org/147238885
IDR: 147238885 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11602
Текст научной статьи Рецепция агиографической традиции в рассказе А. Варламова "Звездочка"
В одном из своих интервью А. Варламов, говоря о нравственном значении литературы, обратил внимание на существенную проблему: в отечественной словесности, несмотря на христианский контекст культуры, «образов христиан <…> до странности мало», почему-то «литература избегала <…> рассказывать о таких героях»1. Отечественная литература, по мнению А. Варламова, «стеснялась прямо заявить о себе как о литературе христианской, православной, отстаивающей евангельские ценности открыто и недвусмыс-ленно»2. В этом смысле наше обращение к творчеству самого А. Варламова не случайно, ведь духовный посыл его произведений может служить примером обратного позиционирования, не «стесняющегося» говорить о христианских идеалах. Здесь мы найдем явно обозначенную авторскую позицию, выражающуюся, по словам прозаика, в его следовании «русской идее»3, а по мнению исследователей поэтики прозы писателя — в «доминанте христианского кода» [Федорова: 10] его творчества4. Г. Власова, анализируя современную русскую прозу с точки зрения христианской аксиологии, характеризует творческий метод Варламова как близкий «русской классической традиции и экзистенциальной религиозной проблематике» [Власова: 130]: «Как представитель экзистенциальной и онтологической прозы, как воцерковленный человек писатель часто обращается к таким темам, как рождение, крещение, воскресение, спасение, страдание, преображение, память, актуализирует христианскую парадигму детства и создает образы неофитов, верующих и священников» [Власова: 130], — резюмирует исследователь. Говоря об особенностях персонажной системы произведений А. Варламова, Т. Федорова отмечает, что их «внутренний мир <…> раскрывается <…> по принципу выявления знаков духовного становления» [Федорова: 9]. С этой мыслью согласуется еще одна авторская особенность, отмеченная критиками: «А. Варламов относится к ряду прозаиков, верящих в добро, он не бежит создания идеальных характеров, нечасто встречающихся в новейшей прозе» (здесь и далее полужирный курсив в цитатах наш. — А. Х.) [Мескин, Ратникова: 9].
Мысль об идеальных характерах в творчестве А. Варламова чрезвычайно важна для понимания авторского замысла рассказа «Звездочка», поскольку, на наш взгляд, в образе Лизы Непомилуевой автор создает идеал человека, христианский по своей сути. Изображая героя-носителя евангельских ценностей в чуждой ему социокультурной советской среде, автор погружает читателя в трагичный мир, где «вера в Бога — это, прежде всего, человеческая драма»5.
Следует отметить одну особенность, важную, на наш взгляд, для понимания природы конфликта рассказа. Чуждость, о которой мы говорили ранее, лейтмотивом проходящая через все пространство текста, приобретает особое звучание в контексте другого образа, представленного идеальным советской эпохой: тяжело больной пионерки, на смертном одре отказавшейся, вопреки просьбе матери, надеть крестильный крестик и умершей верной идеалам пионерии. Очевиден сюжетный диалог между «Звездочкой» Варламова и поэмой «Смерть пионерки» (1932), принадлежащей перу Э. Багрицкого. В одном из своих выступлений А. Варламов, рассуждая о богоборческих явлениях культуры, характеризует поэму как произведение, хотя и антицерковное, но «настолько талантливое, что могло бы считаться и скусством, влияющим на сознание человека »6.
Действительно, произведение Э. Багрицкого, входившее в школьную программу, можно отнести к творениям той ранней советской культуры, которая, по мнению И. А. Есаулова, «по всем параметрам декларировала оппозиционность русской и, прежде всего, православной русской традиции» (здесь и далее в цитатах курсив авторов статей. — А. Х .) [Есаулов, 2018: 31]. Борьбу с традицией он справедливо рассматривает «в одном ряду с другими ее антихристианскими акциями» и отмечает, что создание нового типа идеологии сопровождалось трансформацией отечественной культуры, когда «были насильственно изъяты и подвергались постоянной дискредитации ее основополагающие духовные ориентиры, укореняющие Россию в "большом времени" православной культуры» [Есаулов, 2018: 31, 36].
На наш взгляд, рассказ А. Варламова может рассматриваться как своего рода антитеза поэме, предлагающей идеал новой эпохи. В. А. Мескин и В. В. Ратникова утверждают, что «читая <…> "старинное предание" "Звездочка", осознаешь не просто связь, а скрытую полемику прозаика постсоветской России с советским поэтом-романтиком 1930-х гг. Э. Багрицким…» [Мескин, Ратникова: 7]. Соглашаясь с этой мыслью, уточним и конкретизируем ее: полемика этих двух текстов выстроена в дискурсе христианского и антихристианского начал и их влияния на образ, где идеал христианки противопоставлен идеалу пионерки. Образ последней представлен как противоположный идеологическим ориентациям предшествующей дореволюционной эпохи, тогда как аксиологическое пространство образа Лизы Непомилуевой, наоборот, выстроено в парадигме, полностью игнорирующей постреволюционные культурные константы. Впрочем, «Звездочка», с ее аксиологической полярностью поэме «Смерть пионерки», является отдельным художественным миром, «и знание или незнание поэмы Э. Багрицкого не очень влияет на ее восприятие…» [Мескин, Ратникова: 7], хотя, несомненно, и расширяет контекст понимания.
Возвращаясь к мысли А. Варламова о том, что «вера в Бога — это, прежде всего, человеческая драма»7, приведем также мысль писателя о границе между художественным творчеством, изображающим эту драму, и агиографией: «…если человек достиг такого совершенства, что у него все это мучение уже в прошлом — то здесь уже нужна не художественная литература, а житие святого, агиография»8. В этих словах находится и ключ для понимания образа героини рассматриваемого рассказа.
В «Звездочке» соединение этих двух начал, художественного и агиографического, выполняет особую функцию как на уровне сюжетной архитектоники, так и на уровне содержания центрального образа. Здесь уместно говорить именно о такой авторской рецепции агиографической традиции, которую можно определить как « воссоздание » воспринятого автором в « собственных текстах » [Левакин: 309]. «Воссоздающий» тип агиографической традиции ориентируется на «предтекст» (см. об этом: [Бычков: 120])9. Эта ориентация может проявляться в совокупности различных способов реализации житийной традиции в произведениях литературы. Так, Л. Г. Дорофеева, говоря о формах присутствия агиографической традиции в художественных текстах, помимо цитат, реминисценций, христианских сюжетов, хронотопа и аксиологии обращает внимание на особое значение авторской позиции, выраженной в «отношении автора к Священному преданию (одной из форм которого является житие. — А. Х .) как канону», где проявляется «преображающая функция Священного предания по отношению к тексту произведения» [Дорофеева: 20].
Рассказ, к которому мы сегодня обращаемся, на наш взгляд, является именно таким примером воплощения религиозных взглядов писателя, хотя обыкновенно рассматривается исследователями с точки зрения социального конфликта. Об этом, например, говорит Т. Федорова, определяя доминанту сюжета лишь как «противоречие взглядов персонажей» [Федорова: 8]. Думается, что обращение к духовно-нравственному контексту расширит и углубит понимание проблематики рассказа. Для этого рассмотрим проявление агиографической традиции в современном тексте как на уровне топики, так и на уровне аксиологического пространства образа его главной героини Лизы Непомилуевой.
Перед читателем предстает картина жизни советской России. Рассказ начинается с описания счастливого, «идиллического» детства сироты Лизы, воспитывающейся двумя бабушками-сестрами, проведшими в сталинских лагерях не один десяток лет: богомолкой Алей и атеисткой, диссиденткой Шурой. Портрет девочки выполнен легкими красками: живая, зарывающая «секретики», «чтобы <…> под ними выросло счастье»10, любимица класса:
«…[с ней] мечтали дружить и мальчики и девочки, глядя на нее, умилялись добрые родители и завидовали злые, но все мечтали, чтобы их дети сидели с нею за партой. <…> …все не скрывали восхищения чудесной девочкой» (99).
Лиза искренне молится и постится. Ей читают «жития святых по старым дореволюционным изданиям» (91), а бабушка Аля водит девочку в храм — образ героини приобщается к пространству сакрального. Перед читателем предстает чистый и светлый облик, своего рода аллюзия к агиографическому топосу о необычном, «чудесном» ребенке. В житийной традиции такой ребенок, будущий святой, появляется на свет, как правило, у благочестивых родителей (см. об этом: [Рыжова]). Однако в современном тексте родительский топос обретает новое развитие. Так, читатель узнает, что Лиза не просто сирота, но мать ее «родила неизвестно от кого» (110). Эта коллизия усугубляется тем, что и сама мама Лизы рождена не в законном благочестивом союзе:
«…родилась в лагере потому, что мне не разрешили сделать аборт» (110), — говорит о дочери Шура. Мотив неблагочестивого рождения автор подчеркивает и устами директрисы школы:
«Как вы не понимаете, что если уже в первом классе девочка отказывается подчиняться школьным правилам, то в восьмом она забеременеет? <…> С ее-то наследственностью!» (104).
В этих словах видится какая-то предопределенность, когда грешное и нездоровое может породить только себе подобное. Так мыслит мир, однако, вводя категорию дихотомии плоти и духа, автор стремится убедить читателя в обратном. В образе Лизы дух довлеет, буквально стирая рациональную закономерность, преображая естество. Именно об этом и говорит В. Н. Лосский, когда утверждает, что личность «не должна определяться своей природой, но сама может определять природу, уподобляя ее своему Божественному Первообразу» [Лосский: 97]. Эта заданность «неблагочестия» родословной, словно встающая в противоборство с топосом о благочестивых родителях, приводит к мысли о том, что в рождении и становлении Лизы есть что-то парадоксальное, а потому — чудесное, божественное, где закон уступает благодати.
Эти же мотивы получают свое развитие в топосе о чудесном ребенке, не просто родившемся, но и растущем при необычайных обстоятельствах, отличающемся от сверстников. Вот как говорит автор о Лизе:
«… непохожего и даже загадочного и странного в судьбе ее было предостаточно» (90). Так, «до семи с половиной лет она жила в полном неведении о вещах, которые были хорошо знакомы ее маленьким ровесникам. Она не знала, кто такой Володя Ульянов, кто такие октябрята, пионеры, космонавты, коммунисты и целинники, какой праздник отмечает страна Седьмого ноября и Первого мая, ни даже как эта страна называется» (90). А «детских книжек для советских детей ей не читали вовсе, даже самых безобидных, вроде "Приключения Незнайки" или "Волшебника изумрудного города", не говоря уже о Гайдаре и Кассиле» (91).
Исследователи отмечают, что для героев А. Варламова вообще характерна оторванность от мира, часто герой оказывается словно «выпавшим из своего времени» (например, в романе «Лох»; см. об этом: [Федорова: 9]). Однако в рассказе «Звездочка» мотив неотмирности приобретает особенную окраску, поскольку на первый взгляд Лиза мало чем отличается от сверстниц, «разве что чуть большей грациозностью и резвостью» (90). Неотмирность здесь определяется связью образа героини с житийной традицией, для которой присущ особый мотивный комплекс (о чем мы скажем ниже), и тем ценностным пространством, которое сопровождает образ Лизы, насыщает его жизненной силой и наделяет особым нравственным ореолом:
«Я тридцать лет учу детей, и никогда у меня не было такой, как ты» (108), — говорит Лизе ее первая учительница, подразумевая не внешние характеристики девочки, но ее внутренние установки и устремления, ее личностное начало. В чем же его особенность?
Поэтика образа Лизы определяется центральностью категории сердца в структуре ее образа. В сравнительно небольшом рассказе сердце как субъект действия упоминается шесть раз, и каждое упоминание сердечной работы — словно новая ступень в духовном взрослении Лизы. И если сначала сердце Лизы раскрывается через описание ее эмоциональной сферы («тревожно колотится», «подпрыгивает от радости»), то по мере прохождения героиней своего непростого пути мы видим удивительные изменения: сердце становится «умным», «живым», «способным предугадывать». В святоотеческом учении сердце — корень духовной жизни, как понятие оно имеет ценностное содержание, раскрывающееся в евангельских словах: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6:45). Для определения учения о сердце существует особое понятие — «кардиогнозис», означающее, что сердце наделяется нравственно-регулирующей, ценностно-образующей, гносеологической функцией11. Сердце, утверждает С. С. Хору жий, — «такая (эмпирически условная, но духовно реальная)
точка средоточия всего человека , его "энергийно-экзистен-циальный центр"…» [Хоружий: 24]. И категория кардиогнозиса здесь — особый авторский императив. Лексема «сердце» выступает тематическим ключом , раскрывающим образ Лизы в аксиологическом пространстве заповедей, данных Иисусом Христом в Нагорной проповеди, заповедей блаженств. Одна из них: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).
Категория сердца, непосредственно отсылающая читателя к заповеди блаженства, — одна из сюжетообразующих, так как именно сердечное знание стало определяющим для Лизы при выборе своего пути. Это особо подчеркивается автором через неприятие Лизой ценностных ориентиров советской действительности:
«…[она] не испытала большого потрясения, когда столкнулась с теми понятиями, от которых ее прежде ревниво оберегали. <…> Она почувствовала сердцем их мертвую сущность , и живое сердечко ее отнеслось к ним довольно равнодушно» (98).
Эта противоположность живого сердца Лизы и «мертвой» ценности советских реалий особо отмечается автором. Получая свое развитие во второй части повествования, когда беззаботная картина мира героини сменяется на трагическую, тема следования выбору сердца оборачивается для Лизы собственным «восхождением на Голгофу» и служит основой для сюжетного рисунка рассказа.
Итак, идиллическая картинка исчезает, когда бабушки отдают Лизу в школу. Лизе, как лучшей ученице, выдают самое заветное — пластмассовую, а не латунную звездочку октябренка, где Ленин-мальчик изображен «кротко и нежно, точно ангелочек» (100), а Лиза, повторяя сказанное в школе, говорит о нем как о самом замечательном человеке на свете:
«— Лиза, — сказала баба Шура торжественно, опершись на палку. — Запомни, что я сейчас тебе скажу.
— Да, баба Шура.
— Ты никогда не будешь носить эту гадость. <…>
— Почему ты так говоришь? <…>
— Тот, кто изображен на ней, был негодяем и убийцей, — сухо сказала Шура. <…>
Некоторое время Лиза о чем-то думала, наморщив лобик. Старухи глядели на нее не дыша.
— Это правда , баб Аль? — проговорила Лиза тихо, повернувшись к ней.
— Да, Лиза, — скорбно кивнула богомолка под удовлетворенным взглядом правдолюбивой сестры» (100).
На следующий день Лиза идет в школу без звездочки, тем самым начиная свое восхождение по мученическому пути.
Агиографическая традиция здесь усиливается топикой, связанной с искушением и испытанием святого. Показателен диалог Лизы с директором, в котором последняя выступает в роли «искусителя»:
«С ней говорили то терпеливо и мягко, то чуть ли не начинали кричать, ей читали лекцию, угрожали, ее жалели и сочувствовали, ей льстили и хвалили за необыкновенные способности, красивую внешность и нарядный бант. Ее расспрашивали про мать и отца и говорили, что никогда бы родители не позволили темным недобрым старухам диктовать свою волю и как огорчились бы они, если бы узнали, в какую беду попала их маленькая дочь» (106).
Интересной особенностью данного сюжетного элемента является его универсальность применительно к литературе о ГУЛАГе и житиям новомучеников ХХ в. Например, Л. Г. Дорофеева, говоря о романе А. Солженицына «В круге первом», также определяет сюжетный элемент беседы между профессором Веренским и Нержиным как «важнейший момент выбора Нержиным своего пути и своей судьбы (можно даже сказать, жизни или смерти). <…> Диалог этот в плане развития и раскрытия образа — центральный. Основной его аспект — аксиологический: речь идет о выборе ценностей, определяющих способ жизни » [Дорофеева: 119–120]. Эта цитата достаточно точно отражает и суть диалога между Лизой и директором. Напомним, что Лиза до решения не носить звездочку — всеобщая любимица:
«…с Лизой Непомилуевой мечтали дружить и мальчики и девочки, глядя на нее, умилялись добрые родители и завидовали злые, но все мечтали, чтобы их дети сидели с нею за партой» (99).
Девочке пророчили успешное будущее:
«…сегодня — старосты класса, а завтра председателя совета отряда, дружины или секретаря комсомольской организации школы» (99).
Поэтому вопрос ношения звездочки напрямую связан с ситуацией искушения, «когда герою предлагается выбор между благополучием и совестью», «между жизнью смертной плоти и жизнью бессмертной души »12 [Дорофеева: 120].
Мотив искушения в диалоге внутренне сопрягается с мотивом обмана и, соответственно, служения правде. Известно, что в святоотеческой мысли отец лжи — дьявол, тогда как «высочайшая правда есть Христос» [Скурат: 65]. Вспомним, что Лиза не сразу верит словам бабушки Шуры о том, что «ангелочек» на звездочке — убийца. Она обращается за подтверждением этого к «богомолке», потому что мера правды у нее с бабушкой Алей одна — Бог. В этом мотиве слышится аллюзия к евангельской заповеди «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6). Узнав истину, Лиза говорит директору, что мальчишка обманул ее, Лизу, украл ее звездочку, и директор тоже в этом виновата. Обратим внимание, что школа в сознании Лизы тождественна храму, «она испытывала к школе благоговение едва ли не такое же как к церкви» (99), а директор воспринимался точно батюшка. Школьное пространство представляется Лизе живым и безгрешным, полным любви, безопасным — ведь «кто мог обидеть ее там, где обитает Господь?» (99), — размышляла девочка. Следовательно, для нее Ленин на звездочке, выглядевший подобно ангелочку на иконе, — тоже принадлежит Богу, он святой, а звездочка — сакральна, она — символ жизни. И здесь кроется самый настоящий обман, ведь добрый мальчик оказывается убийцей, звездочка становится символом смерти, той самой «мертвой сущности», не совместимой с «живым сердечком» Лизы. Бывшее прежде сакральным в восприятии Лизы школьное пространство оборачивается кривым зеркалом, лживым законам которого директор предлагает следовать и Лизе:
«…можешь носить значок в школе и перед тем, как приходить домой, снимать…» (106), — говорит она.
Не поддающейся искушению Лизе вынесен вердикт:
«Больше всего ты заслуживаешь хорошей порки. <…> …такая ученица в моей школе не нужна» (107).
Мотив искушения переходит в мотив испытания , который сопровождает теперь образ героини до конца. Лиза становится изгоем:
«…[учительница] никогда не спрашивала ее, не вызывала к доске, не глядела в ее сторону, она проверяла и ставила оценки лишь за письменные работы и только пятерки — Лиза по-прежнему училась лучше всех — но не позволяла дружить с ней другим детям. Лизу не звали на дни рождения и не брали на экскурсии, от нее отсадили влюбленного в нее мальчика, ей не разрешали убираться в классе, поливать цветы и работать на субботнике. <…> Детям объяснили, что Лиза — грубая и непослушная девочка, которая недостойна быть октябренком, за недостойное поведение была исключена из октябрят и так будет с каждым, кто не будет слушаться учителей. <…> Все стремились к одному: чтобы девочку забрали из школы — но оскорбленный ребенок, точно угадав сердцем намерение своих мучителей , восстал и принялся себя защищать» (108).
При этом весь образ Лизы исполнен кротости и тишины: вот девочка молчит в ответ на угрозы директора, спокойна и бесстрастна, сносит «презрение, не проливая ни в классе, ни дома ни одной слезинки и никогда не жалуясь» (108), и, совсем обессиленная, подолгу смотрит на икону, «по которой снова стекали прозрачные капли масла» (112).
Мы знаем, что Лиза умирает, так и не изменив своего решения. Подобная твердость при следовании выбранному пути — характерное качество для героев произведений А. Варламова.
Эту особенность отметила и Н. Федченко, утверждая, что герой А. Варламова подчиняет «окружающее бытие собственным законам. Его мир — мир абсолютной правды» [Федченко]. И мир другой, греховный, эту абсолютную правду принять не способен. Это одиночество праведника подчеркивается автором и через фамилию Лизы: Непомилуева — та, которую не помиловали, то есть не простили, не пощадили13. Не пощадили потому, что не «миловали», не любили, а по словам Иоанна Лествичника, «ложь есть истребление любви»14. Сострадает Лизе только ее первая учительница, вынужденная уйти из школы:
«Может быть, ты и права. Только мне так жалко тебя… Бедная, моя бедная сиротка» (108), — говорит Татьяна Петровна, также чуждая этому миру за умение видеть личность и сопереживать ей. «Кто стяжал страх Божий, тот устранился лжи, имея в себе неподкупного судью — свою совесть»15, — говорит святой Иоанн Синайский. Лиза устранилась лжи — и была изгнана из мира.
В этом сюжетном элементе отчетливо прочитывается аллюзия к еще одной из евангельских заповедей блаженств: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:10). Мы видим реализующийся топос следования за Христом, который в контексте всего произведения оборачивается аллюзией к мученическому житию. В художественном пространстве рассказа на центральный план выдвинута хрупкая фигура девочки, ребенка, обреченного на страдания и жертву ради Истины. Жертва обязательно связана со страданием и сопряжена с мотивом креста и крестоношения — одним «из важнейших в агиографии в целом и обязательным, всегда присутствующим в мученических житиях; его можно отнести к так называемой канонической схеме мученического жития и иконы» [Дорофеева: 145]. В тексте Варламова этот мотив духовного креста получает свое удвоение — в подмене физического нательного креста звездой. Распятый и воскресший Христос подменяется новым символом — Лениным, в чем, по мнению И. А. Есаулова, проявляется «глобальная трансформацiя русской христiанской традицiи», ведь «центральная фигура совѣтской культуры — В. И. Ленинъ — не нуждается въ воскресенiи, ибо въ субстанцiальномъ смыслѣ онъ никогда не умиралъ: онъ, какъ извѣстно, "всегда живой", "живѣе всѣхъ живыхъ"…» [Есаулов, 2020: 36]. Мотив кресто-ношения (духовного) и мотив страдания, так часто использующийся А. Варламовым в прозе, пронизывает судьбы центральных персонажей этого небольшого рассказа. Не случайно после смерти Лизы ее бабушки уезжают в город Кашин, известной покровительницей которого является преп. Анна Кашинская, чье житие тоже отличает доминанта страдания Христа ради [Руди: 71].
В статье Т. Руди «Топика древнерусских житий» определена «суть подвига мученика — жертва за веру, сознательное принятие страсти Христовой во имя утверждения христианской веры и учения» [Руди: 64]. Эта идея свободного выбора и самоопределения, несомненно, онтологически восходит к христианскому учению о богоподобии человека, выраженном в том числе и в свободе воли. Автору важно подчеркнуть мысль, что Лизин выбор — ее собственный, не заданный через призму желаний и наставлений бабушек, не сделанный в угоду им:
«…баба Аля — бледная, трясущаяся, — вела себя чрезвычайно странно и говорила совершенно несуразные вещи про внученьку, которая сама решила не носить звездочку, и идти против ее воли она не может» (104).
Эту внутреннюю свободу в Лизе видят и окружающие, поэтому и мальчик из класса, сосед по парте, «на всю жизнь сохранил привязанность к свободной , гибкой и ответственной девочке и очень по ней тосковал» (99). Как точно отмечено Л. Г. Дорофеевой, высшее проявление свободы выражается в « вольной жертве ради Истины. А эта идея вольного страдания — ключевая в русской истории, воспринявшей Евангелие не только как учение, но как способ жизни » [Дорофеева: 119].
Таким образом, агиографическая традиция в рассказе А. Варламова представлена в «воссоздающем» типе [Бычков: 120], где сохраняется причастность к ядру традиции — христианской аксиологии. Автор не подвергает доминанту житийной традиции трансформации, не нацелен на игру с читателем. Вслед за писателями русской классической литературы А. Варламов продолжает формировать в своем рассказе представление о том, что «во всем мире известно как "великая русская душа"» [Дергачева: 39]. По меткому наблюдению И. В. Дергачевой, «духовные силы великие русские писатели черпали из богатейшего источника литературы Древней Руси» [Дергачева: 39]. И в рассказе «Звездочка» мы видим их несомненное присутствие: агиографические топосы, аллюзии к библейским текстам, христианская аксиология и евангельские мотивы, центральными из которых являются жертва и страдания ради Христа, что в совокупности приводит нас к мысли о рецепции мученического жития в современном тексте. В этом контексте рассказ А. Варламова можно рассматривать как воплощение в художественном произведении того «евангельского текста», который «делает русскую литературу русской » [Захаров: 9].
Список литературы Рецепция агиографической традиции в рассказе А. Варламова "Звездочка"
- Бычков Д. М. Агиографический дискурс в современной русской прозе. Астрахань: Астраханский гос. ун-т, 2015. 200 с.
- Власова Г. И. Поэтика современной прозы в контексте православной аксиологии // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ: в 15 т. СПб.: МАПРЯЛ, 2015. Т. 14. С. 129–135 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26291553_65954415.pdf (10.08.2022).
- Дергачева И. В. Духовные традиции памятников древнерусской письменности в русской классической литературе // Методист. 2015. № 1. С. 37–39 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26596055_28452584.pdf (10.08.2022).
- Дорофеева Л. Г. Русская словесность в контексте национальной духовной традиции. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2019. 180 с. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41715476_73010384.pdf (10.08.2022).
- Есаулов И. А. Рецепция отечественной классики в период русской катастрофы // Русская классика: pro et contra. Железный век, антология. СПб.: РХГА, 2018. С. 9–42 [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_41715476_73010384.pdf (10.08.2022).
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. Магадан: Новое Время, 2020. 480 с.
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 5–11 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (10.08.2022). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2370.
- Левакин Н. Н. Художественная рецепция как литературоведческое понятие (к вопросу понимания термина) // Известия Пензенского гос. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. Гуманитарные науки. 2012. № 27. С. 308–310 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18280940_15476357.pdf (10.08.2022).
- Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991. 281 с. (Религиозно-философская серия; вып. 1.)
- Мескин В. А., Ратникова В. В. Об интертекстуальности и межтекстуальных связях в творчестве А. Варламова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2013. № 4. С. 5–14 [Электронный ресурс]. URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/4341 (10.08. 2022).
- Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика / ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН; СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. Т. 1. С. 59–101 [Электронный ресурс]. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/Rusagiografia.%20Т.%201/Руди_59-101.pdf (10.08. 2022). EDN: LOCXPE (Сер.: Русская агиография.)
- Рыжова Е. А. Поэтика русской агиографии: топос происхождения святого в житиях праведников // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 5 (71). Ч. 1. С. 30–34 [Электронный ресурс]. URL: https://www.gramota.net/materials/2/2017/5-1/7.html (10.08.2022).
- Скурат К. Е. Православные основы культуры в памятниках литературы Древней Руси. М.: ИЭОПГКО, 2006. 128 с.
- Федорова Т. А. Поэтика прозы Алексея Варламова: автореф. ... дис. канд. филол. наук. Астрахань: Астрахан. ун-т, 2012. 17 с. [Электронный ресурс]. URL: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/115785/0-795233.pdf?sequence=-1 (10.08.2022).
- Федченко Н. Л. Автобиографизм и его постмодернистский контекст в произведениях А. Варламова // Парус. 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/proekty/parus/fedch0511.php (25.10.2022).
- Хоружий С. С. Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении. М.: Центр психологии и психотерапии, 1991. 135 с.
- Шамшурин В. И. Традиция «кардиогнозиса» в русской культуре // Социологический журнал. 1995. № 4. С. 87–100 [Электронный ресурс]. URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/socjour/article/view/213 (10.08.2022).
- Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия // Тарасов Б. Н. Человек и история в русской религиозной философии и классической литературе: сб. ст. М.: Кругъ, 2007. С. 528–565.