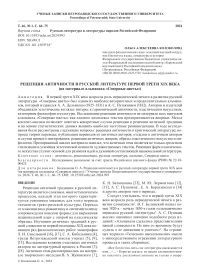Рецепция античности в русской литературе первой трети XIX века (на материале альманаха «Северные цветы»)
Автор: Колоколова О.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 1 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
В первой трети XIX века возросла роль периодической печати в развитии русской литературы. «Северные цветы» был одним из наиболее авторитетных и продолжительных альманахов, который издавался А. А. Дельвигом (1825-1831) и А. С. Пушкиным (1832). Авторов и издателей объединяли эстетические взгляды: интерес к гармонической античности, пластическим искусствам, категориям философии и культуры. Исследование рецепции античности на материале всех выпусков альманаха «Северные цветы» как единого комплекса текстов предпринимается впервые. Метод контент-анализа позволяет осветить конкретные случаи рецепции и рецензии античной традиции и на основе статистических данных выявить наиболее частотные реминисценции. В ходе исследования были рассмотрены следующие вопросы: рецепция античности в критической литературе; вопросы теории перевода; публикация переводов из античных авторов; отсылки к античным авторам и случаи прямого цитирования; рецепция античных жанров; образы пластического искусства и мифологии. Предпринятый анализ материала показал, что античная тема является не только средством стилизации и усиления эстетической ценности художественных текстов. Рецепция форм классического искусства служит основой для развития идей и духовной составляющей национальной литературы.
Античность, реминисценции, русская литература, альманах, северные цветы
Короткий адрес: https://sciup.org/147242932
IDR: 147242932 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.993
Текст научной статьи Рецепция античности в русской литературе первой трети XIX века (на материале альманаха «Северные цветы»)
Рецепция античной традиции в русской литературе является сложным, многоступенчатым процессом, каждый этап которого характеризуется усвоением знаковых для этого периода элементов греко-римской культуры. Переход от классицизма к романтизму и сентиментализму сопровождался поиском формы для выражения национальной идеи с опорой на классические образцы. Изучению античных традиций в русской словесности первой половины XIX века посвящен ряд филологических работ: монографии Л. И. Савельевой [16], [17], С. А. Кибальника [4], труды Петрозаводской школы ученых [5], [9], [15]. Исследовано влияние отдельных античных авторов на литературный процесс в России [3], [18]. Античная тема рассматривалась на материале творческого наследия В. А. Жуковского [7],
К. Н. Батюшкова [23], М. Ю. Лермонтова [12], [13], А. С. Пушкина1, Е. А. Баратынского [14] и других авторов этого периода.
Следует учитывать, что в первой трети XIX века возросла роль периодической печати в развитии словесности2. В. Г. Белинский назвал конец 1820-х – начало 1830-х годов «альманачным» периодом русской литературы3. А. С. Пушкин высоко оценивал значение подобного рода изданий: «Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем будут судить о ее движении и успехах»4. На страницах журнала «Телескоп» высказывались мысли о непосредственном отражении литературного процесса в таких сборниках:
«Все богатство, весь сок литературы высасывается ими... <…> Коротко сказать: из наших альманахов можно получить достаточное понятие не только о совре- менном состоянии нашей словесности, но и о будущих ее надеждах!»5.
Альманах можно рассматривать как единый текст, в котором воплощены художественно-эстетические взгляды издателей и авторов. Л. Г. Фризман справедливо заметил, что наиболее авторитетные альманахи 1820–1830-х годов объединяли писателей «на принципиальной основе»:
«…они дают незаменимый материал для верной оценки расстановки литературных сил, понимания позиции разных литературных лагерей. Иной поэт сам по себе, может быть, малозначителен, но показательно его участие в том или ином альманахе. <…> Каждый значительный русский альманах самобытен и занимает свое, лишь ему принадлежащее место в истории литературы и общественной жизни» [24: 298].
«Северные цветы» – самое продолжительное издание из русских альманахов XIX века, регулярно выходившее с 1825 по 1832 год. Современники единодушно отмечали высочайшую художественную ценность опубликованных на его страницах произведений и прекрасную работу издателей. «Северные цветы» называли лучшим русским альманахом6. Широко известна метафора, прозвучавшая в рецензии Н. В. Гоголя: «…благоуханный альманах! В нем цвели имена Жуковского, князя Вяземского, Баратынского, Языкова, Плетнева, Туманского, Козлова»7. Альманах издавался А. А. Дельвигом (выпуски на 1825–1831 годы) и А. С. Пушкиным (на 1832 год) в течение восьми лет, по одной книге ежегодно. Участников «кружка» Дельвига объединяли эстетические взгляды:
«Их влечет к себе гармоническая античность – искусство времени наивного детства человечества – так они думают. В этом воскрешении есть нечто от социальных утопий, с их извечными грезами об утраченном золотом веке. Они полны внимания к пластическим искусствам и к живописи. Они не утеряли интереса и к элегии, с ее психологическим и философским началом» [2: 47].
Во взаимоотношениях издателей и авторов альманаха прослеживается своеобразная «преемственность» в увлечении античностью. К примеру, А. Х. Востоков, поэт и филолог, консультировал Дельвига по вопросам античной метрики. Н. И. Гнедич и Д. В. Дашков владели древнегреческим языком и сотрудничали с авторами, которые не имели возможности познакомиться с античными текстами в оригинале.
Бесспорно, рецепция античности в отдельных произведениях, опубликованных на страницах этого издания, не раз становилась предметом изучения. Тем не менее исследование данной проблемы на материале всех выпусков альманаха «Северные цветы» как единого комплекса тек- стов проводится впервые. Выбранный в качестве основного метод контент-анализа позволил не только осветить конкретные случаи рецепции и рецензии античной традиции, но на основе полученных статистических данных выявить наиболее частотные реминисценции на уровне стилистических приемов, образов, сюжетной и жанровой структуры художественного текста. Рассмотрены проблемы рецензии античности в критико-публицистических произведениях. Предполагаем, что сделанные в ходе работы наблюдения внесут вклад в изучение более глобальной темы «Русская литература XIX века и античность».
***
В ходе исследования был рассмотрен весь объем текстов, опубликованных в альманахе за 1825–1832 годы (571 произведение): основной корпус составили художественные сочинения, были также задействованы критические статьи и литературные обзоры, включенные в рубрику «Проза». Довольно большой процент текстов (34 %) обнаруживает взаимодействие с античными традициями, при этом к переводной литературе относится лишь 4,7 %. В ходе исследования были рассмотрены следующие вопросы: рецепция античности в критической литературе; вопросы теории перевода; публикация переводов из античных авторов; отсылки к античным авторам и случаи прямого цитирования; рецепция античных жанров; образы пластического искусства и мифологии.
При анализе критико-публицистических произведений учитывалась не только рецензия сочинений античных авторов и их переводов на русский язык, но также апелляция к античности в оценке произведений современной литературы.
Первый выпуск альманаха на 1825 год открывает «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» П. А. Плетнева. Статья представляет собой антологический обзор отечественной поэзии с краткой характеристикой творчества авторов. Плетнев впервые в критико-литературоведческой мысли использует понятие «золотой век» применительно к русской поэзии. Автор обращается к истории античной литературы, где золотым веком называют период 44 г. до н. э. – 14 г. н. э. Данный этап отмечен разнообразием поэтических жанров в творчестве Вергилия, Горация, Овидия, Тибулла, Проперция. Поэты использовали мифологические и исторические сюжеты, работали над формированием стиля, в котором простота и стройность эпоса Гомера сочетались с особым вниманием к форме произведения. Античная поэзия этого времени широко переводилась и публиковалась в России в начале XIX столетия. Ряд критиков, включая Белинско-го8, обвиняли римских поэтов в безнравственности, раболепии перед режимом Августа, считали совершенство формы и стиля единственным достоинством этой литературы. Такая оценка представляется недостаточно объективной, поскольку в поэзии золотого века получали развитие темы нравственного познания, вопросы гражданского долга и ответственности, творчества, признания поэта. Нравственно-философская проблематика и эстетика формы были спроецированы Плетневым на русскую поэзию и послужили толчком к введению данного термина для характеристики нового этапа русской словесности. По мнению критика, Жуковский, Баратынский и Пушкин, первые поэты грядущего золотого века, на основе образцов классической словесности развивают национальные черты русской поэзии.
Плетнев сопоставляет творчество русских поэтов и классиков античной литературы:
«Если бы искусная рука составила русскую антологию <…> эта книга по своему поэтическому достоинству равнялась бы с антологиею классической древности. Чувства глубокие и верные; краски яркие и чистые, мысли новые и сильные; язык благозвучный, выразительный и способный ко всем звукопадениям…»9.
К примеру, Батюшков, по определению Плетнева, продолжатель античной элегической школы, «создал для нас ту элегию, которая Тибулла и Проперция сделала истолкователями языка Граций. У него каждый стих дышит чувством. Его гений в сердце» (1825: 38). В поэзии Капниста Плетнев отмечает чистоту и легкость стихов, сравнивая его талант с музой Горация:
«Его искусство произвело такое очарование, что мы, читая оды его, забываем оригинал, и в подражании видим что-то собственное. Скромный в желаниях, иногда мечтатель, певец сердечной грусти, нежный друг, он влечет к себе тишиною души и ясностью своей поэзии» (1825: 18).
ражательная Муза; золотой век словесности; музыкальность и ясность языка; страсть и чувство; прекрасное и возвышенное; гармония стиха; драматический род поэзии; аллегория. Жанры элегии, буколической поэзии, оды, идиллии рассматриваются автором в их классической форме, которая может стать основой для развития собственно русской литературы.
С 1828 года в альманахе публикуются обзоры современной русской литературы О. М. Сомова. В этих статьях, как утверждает исследователь научной биографии Сомова Ю. А. Матвеева, не было единой концепции, они «рассыпались на ряд коротких рецензий» и были встречены критикой недоброжелательно10. Тем не менее Сомову удалось достаточно полно представить картину литературной жизни, в том числе осветить произведения на античную тему.
В критических статьях поднимаются проблемы поэтики художественного текста. Обозначен вопрос о роли греческого хора в современной драме на примере трагедии Шиллера «Мессинская невеста» в переводе А. Ротчева:
«Шиллер, который на поэтическом своем поприще как бы изведывал свои силы в разных родах древней и новой поэзии, в Мессинской невесте попытался ввести хор трагедии греческой; но конечно он сам увидел, что в новой трагедии, не основанной, подобно древней, на веровании в судьбу неотразимую, хор только ослабляет и охлаждает действие» (1830: 81).
Автор считает, что путь прямого заимствования античной традиции и воссоздания древнего колорита посредством копирования является неперспективным для развития русской словесности. Он размышляет о соотношении классической формы, метрики и содержания, ориентированного на современные темы:
«Замечу только, что двустишия и четверостишия экзаметро-пентаметрические весьма хороши для выражения всякой отдельной мысли, и что здесь поэту вовсе не нужно придерживаться понятий древних: он может по воле развивать в них и понятия своих современников; форма или мера стихов не должны почитаться за непреложный устав того, что может ими выражаться» (1830: 64).
К примеру, среди произведений на античную тему Сомов выделяет «Энеиду» И. П. Кот-ляревского, поскольку в ней «античная канва обрамляет» особенности национального малороссийского быта (1829: 53). Критик положительно характеризует произведение М. Д. Деларю «Превращение Дафны. Сельская поэма», сюжет которой заимствован из «Метаморфоз» Овидия:
«Содержание сей поэмы взято из Овидия, но молодой наш поэт несколько распространил оное и дополнил не- которыми весьма удачными применениями. Экзаметр, коим она написана, правилен и благозвучен; эпилог исполнен чувства неподдельного» (1831: 4).
В критической статье Плетнева вопросы перевода с античных языков освещены весьма поверхностно. Высоко оценен перевод «Илиады» Гнеди-чем: отмечено непревзойденное совершенство языка и «понимание всех поэтических сторон классических писателей»11 (1825: 45). Основное внимание этой теме уделено в работах Сомова: его интересуют общие теоретические проблемы перевода, а также особенности работы с подлинником и допустимость перевода с подстрочника. Автор предъявляет следующие требования к переводческой работе: соблюдение размера подлинника, точность языка и верно переданное содержание оригинального произведения. Сомов проводит четкую границу между переводом и подражанием: так, перевод Горациевых од, выполненный В. И. Орловым, он называет подражанием, поскольку не соблюден размер стихов и не всегда верно передано содержание. Кроме того, автор акцентирует внимание на некоторых частностях: с иронией рассуждает о некорректной передаче имен мифологических героев на русский язык. В качестве примера приведены случаи перевода теонимов «Зевс» и «Цибела» как «Перун» и «Золотая баба».
В «Обозрении Российской словесности за вторую половину 1829 и первую 1830 года» Сомов заявляет, что перевод «Илиады» Гнедичем – «замечательнейшее явление» литературной жизни за последнее полугодие:
«Размер стихов отца поэзии, соблюденный прелага-телем, живописный, прямодушный язык, оживляющий нам сказания и выражения племен первобытных, – язык пышный в описаниях, живой и быстрый в рассказах, естественный в речах, иногда даже до патриархальной грубости: вот неотъемлемые, прочные достоинства сего перевода» (1831: 5).
Успех Гнедича, по мнению Сомова, обусловлен работой с подлинником:
«Для полной оценки сего колоссального труда, потребно знание Эллинского языка, и знание глубокое, подобное тому, с каковым Гнедич постиг и передал нам бессмертные песни Гомеровы» (1831: 35–36).
Переводная литература представлена также следующими произведениями: идиллия Мос-ха «Море и земля» (пер. К. П. Масальского); шесть од Горация (пер. В. Е. Вердеревского и С. П. Шевырева). «Подражание Анакреону» А. С. Пушкина является вольным переводом оды «К фракийской кобылице». Сюжет о Мирре и Ки-нире из поэмы Овидия «Метаморфозы» переведен М. Д. Деларю.
В первой книге «Северных цветов» были изданы «Цветы, выбранные из греческой антологии» в переводе Д. В. Дашкова. Изучив древнегреческий язык и классическую поэзию, Дашков написал ряд статей и вел тщательную работу над переводом античных эпиграмм, «читая сотни страниц комментариев, чтобы понять несколько строк древнего текста» [2: 14]. Стилю переводчика свойственны торжественность, использование архаизмов, но при этом – стремление к изяществу, точности и легкости поэтического слова.
В альманахе были также опубликованы произведения европейских авторов на античные темы: стихотворение Ф. Шиллера «Пляска» в переводе П. П. Шкляревского; идиллия А. Шенье «Наяда» в переводе Е. А. Баратынского. «Прозерпина» А. С. Пушкина представляет собой вольный перевод 27-й картины из «Превращений Венеры» Э. Парни. Источником баллады В. А. Жуковского «Торжество победителей» является произведение Шиллера, в основу которого положен сюжет из «малых» поэм троянского цикла.
Отсылки к античным авторам находим в произведениях различных жанров: путевых записках, эпистолярной литературе, поэтических текстах. Продолжает сохраняться интерес авторов к популярному в XVIII веке творчеству Горация, а также других поэтов золотого века римской литературы – Вергилия, Тибулла, Проперция. Достаточно часто наблюдается обращение к античным историкам: Геродоту, Диодору, Титу Ливию, Плинию и Тациту. В большинстве случаев отсылки к именам античных писателей и историков носят характер обращения к признанному образцу, эталону. Наиболее часто в таком контексте упоминается имя Гомера (путевые записки «Афонская гора. Отрывок из путешествия по Греции в 1820 году» Д. В. Дашкова, «Отрывки писем из Италии» В. Я. Перовского, «Письмо к С. из Готенбурга» К. Н. Батюшкова, «К Ю. Н. Бартеневу» А. И. Готовцевой, «Элегия» П. А. Катенина и др.). К примеру, в оде «Тройство» Шевырев называет Гомера одним из величайших сочинителей, чье имя стало синонимом поэтического дара и вдохновения (1830: 101).
В альманахе крайне редко встречается прямое цитирование античных текстов. «Оды» Горация (пер. В. Е. Вердеревского, М. Д. Деларю), а также фрагмент из поэмы «Метаморфозы» Овидия (пер. М. Д. Деларю) предваряют цитаты из этих стихотворений на латыни. Обозначим остальные случаи цитирования. Д. В. Дашков, обладавший глубокими знаниями в области классических языков и литературы, цитирует в «Отрывках из путешествий по Греции и Палестине…» сочинения Горация и Вергилия. В данном случае цитаты принимают переносное значение и иллюстрируют повествование. К примеру, описывая разногласия францисканских монахов и греческих духовников по поводу одной из святынь, принадлежащих храму Воскресения в Иерусалиме, автор цитирует на латыни «Послания» Горация: «Iliacos intra muro peccatur et extra» («Грешат в стенах и вне стен Илиона»). Кроме того, П. А. Плетнев в качестве эпиграфа к статье «О стихотворениях Баратынского» приводит отрывок из сочинения Квинтилиана «Воспитание оратора», в котором римский ритор c похвалой отзывается о произведениях Архилоха. Зафиксировано семь случаев употребления устойчивых выражений на латинском языке: studiorum humaniorum, et cetera, facsimile, requiescat in pace, con amore, argumentum baculinum, corpus juris civilis.
Редкие случаи прямого цитирования античных сочинений указывают на характер рецепции: предпочтение отдается не прямому заимствованию, а интерпретации и рефлексии. Античный текст проникает в семантическое пространство русской литературы не только в качестве устойчивых структурно-семантических единиц, но в форме аллюзии и реминисценции.
Исследователь русской литературы первой половины XIX века Э. Г. Вацуро считает, что «Дельвиг был более всех связан с миром скульптуры и живописи среди писателей пушкинского окружения» [1: 172]. Одним из факторов формирования сферы эстетического восприятия у Пушкина и Дельвига, по мнению Вацуро, является Царскосельский сад: портики, колоннады, «величественные аллегорические монументы и обломки античных статуй» составляли повседневный быт лицеистов [1: 172]. В первой трети XIX века античность становится не только источником сюжетов и образов для изобразительного искусства, но идеалом, нормой и «важнейшим стилеобразующим фактором»12. В скульптурном ансамбле Царского села «на первый план выступает тема гражданственности и морально-этических добродетелей»13. Античный идеал гармонии и красоты, наполненный образами мифологии, истории и искусства, находит отражение в «Северных цветах».
В 1825 году Дельвиг обращается к В. И. Григоровичу, профессору Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, издателю «Журнала изящных искусств», с просьбой написать статью для альманаха. В выпуске на 1826 год выходит первый систематический очерк истории русского искусства «О состоянии художеств в России» Григоровича, в следующем – продолжение статьи. В работе автор не обходит вниманием произведения на античные темы: картину П. И. Соколова «Меркурий и Аргус»; статую Венеры Таврической, купленную Петром I; скульптуру Ф. Ф. Щедрина «Спящий Эндимион»; статую Актеона и Гименея на барельефе работы И. П. Мартоса; статуи Актеона, Тритонов и Морфея работы И. П. Прокофьева и др.
В «Северных цветах» публикуются произведения в жанре путевого очерка, в котором значительная роль отводится «интертекстуальным связям, направленным на осуществление культурного диалога с целью расширения границ художественного пространства путевого произведения»14. Будучи советником при русском посольстве в Константинополе, Дашков посещал монастыри Афона в поисках рукописей славянской, греческой и латинской словесности. Автор описывает путешествия по Греции и Палестине в очерках «Афонская гора. Отрывок из путешествия по Греции в 1820 г.», «Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 г.». Тематически к ним примыкают «Известие о греческих и латинских рукописях в Серальской библиотеке» и «Еще несколько слов о Серальской библиотеке». Помимо находок рукописей, путешественник живописует окрестности, уделяет внимание подробному описанию остатков храмов, статуй, античных изображений.
В альманахе представлены также произведения смежного жанра – письма о путешествии: «Письмо III из Турции» В. Г. Теплякова и «Отрывки из писем об Италии» В. А. Перовского. Тепляков описывает произведения изобразительного искусства: кусок древнего мрамора с изображением Эскулапа и Гигеи; часть разбитого барельефа с изображением одного из Диоскуров, обломки с надписями и другие находки. Интересны рассуждения о «поэтическом» характере мифологии древних эллинов – в ней выражена «странная любовь к чудесному» (1831: 184).
В 1820-х годах в русской поэзии становится популярным жанр стихотворной надписи, который восходит к традиции греческой антоло- гической эпиграммы. В отличие от римской, греческая эпиграмма довольно редко имела сатирическую направленность и была представлена широким кругом тем: любовь, дружба, философия, посвящения, надгробные надписи и описания произведений пластического искусства. Европейская традиция называет антологическими эпиграммы, представленные в антологиях (с греч. ‘собрание цветов’), сборниках небольших по объему стихотворений разных авторов. По сути, в основе названия «Северные цветы» лежит понятие греческой антологии. Основными признаками жанра являлись стихотворный размер (элегический дистих с чередованием женской и мужской клаузулы), стилистический лаконизм, двухчастная минимальная композиция, тематическая связь с надписью, серьезный тон.
В альманахе опубликованы как переводные, так и оригинальные стихотворения, созданные в традициях греческой антологической эпиграммы.
«Генетически связанная с греческой эпиграммой стихотворная надпись на статую, к портрету, унаследованная от поэзии классицизма, воспринималась как живой жанр и, если не требовала, то естественно допускала современное содержание» [10: 80].
Часть эпиграмм, опубликованных в альманахе, представляют собой надписи на произведения изобразительного искусства и воплощают в себе черты экфратической поэзии. В первом выпуске альманаха вышло 15 стихотворений из цикла «Цветы, выбранные из греческой антологии» в переводе Дашкова. В примечаниях автор высказывает свои мысли о взаимодействии поэзии и изобразительного искусства:
«Прекрасную часть греческой анфологии составляют надписи к разным произведениям изящных искусств; и сии отрывки столь выразительны, что в них часто поэт, по-видимому, состязается с художником. Но состязания нет: первый следует за вторым, остроумно описывая его творение или изъясняя то чувство, которое в зрителе хотел возбудить художник» (1825: 119).
Примечание Дашкова, как утверждает Э. Г. Вацуро, – вольный перевод небольшого отрывка из рассуждений Гердера в книге «Цветы, выбранные из греческой анфологии» [1: 174]. Сборник немецкого историка и теоретика искусства включает в себя переводы греческой поэзии, выполненные с оригинала. В России первой половины XIX века это издание было самой распространенной и наиболее доступной публикацией античной эпиграмматической поэзии. Дашков работал с оригинальным текстом греческой «Антологии», но обращался к переводам Гердера и заимствовал его заглавие. В «Северных цветах» напечатаны две «надписи к скульптурам»:
«Изваяние Александра» и «К истукану Нио-вы». Традиция этого жанра восходит к экфра-стическим описаниям произведений искусства и предметов быта в греческой эпической поэзии. Характерные черты классической греческой эпиграммы-надписи – внимание к деталям, восхваление таланта мастера за достоверность, близость к оригиналу.
В альманахе на 1827 год опубликовано описательное стихотворение Илличевского «На древнюю вазу». В следующем году были напечатаны «Надписи к изображениям итальянских поэтов» Дашкова, стихотворения Дельвига «На смерть Веневитинова», «Смерть», «Утешение», «Эпиграмма», а также надписи Илличевского «К портрету Ломоносова», «К часам при отсылке их сестре». В «Северных цветах на 1829 год» издана эпиграмма Илличевского «К статуе Ариадны».
В номере на 1832 год опубликованы четыре «Анфологические эпиграммы» А. С. Пушкина. Первая – «Царскосельская статуя» – относится к жанру экфрастической эпиграммы. Т. Г. Мальчукова полагает, что в стихотворении выражена идея «классического значения нового русского искусства». По мысли исследователя, оно отличается «самобытностью содержания» и описывает «русское чудо искусства» [10: 82]. А. А. Тахо-Годи утверждает, что здесь отражен «скульптурный синтез вечно текущей жизни, данный как одно мгновение и ведущий в силу вечной смены в ней рождения и смерти к наивноудивленной печали» [22: 114].
В «Северных цветах на 1830 год» Дельвиг публикует идиллию «Изобретение ваяния» и посвящает ее Григоровичу. К числу источников этого стихотворения исследователи относят статьи, изданные в «Журнале изящных искусств»: труды Винкельмана, Зульцера и компиляции самого Григоровича [1].
В основу сюжета стихотворения положена история безответной любви искусного гончара Ликидаса к пастушке Харите. Отвергнутый возлюбленной, юноша скитался, не зная покоя и сна. Оказавшись на пустынном берегу, Ликидас в рыданиях поведал о своих страданиях морю. Забывшись, он проводит ночь на берегу. Утром, пребывая в пограничном состоянии между сном и явью, слышит голос, вдохновляющий его на создание статуи:
«Кто-то плечо мое тронул и будит меня, и приятно
На ухо шепчет: “Ликидас, встань! Подкрепи себя пищей,
В кущу иди и за дело примися! Что сотворишь ты, Вечной Киприде в дар принеси: уврачует богиня Сердце недужное!”» (1830: 128–129).
Таким образом, первое в истории пластического искусства произведение вдохновлено страданием безответной любви и обладает катарсическими функциями. Герой бессознательно приходит к берегу, месту рождения вышедшей из морской пены Афродиты; акт творения совершается им на грани бессознательного, он сопровождается покровительством богини красоты и любви.
«…С этого мига
Я не знаю, что было со мною! Пламя, не сердце, Билось во мне, и не в персях, а в целом разлитое теле, С темя до ног! И руки мои, и глина, и куща, Дивно блистая, вертелись!» (1830: 129–130).
Произведение ваятеля – это воплощение чувственной любви, что вполне отражает современные Дельвигу представления об античном искусстве, изложенные в том числе в статьях Григоровича. Эрот водит рукой художника, воссоздавая из глины черты возлюбленной Ли-кидаса. В описании творения отражены традиции жанра античной экфрастической эпиграммы: восхваляется совершенство линий, подчеркивается сходство статуи и прообраза, уделяется внимание деталям. В чувственно-осязаемых образах, соответствующих классическому канону красоты, описан «прямой очерк лба», «кудри густые», обрамляющие голову, «роскошь ланит», «заманчиво-сладкая улыбка».
Идиллия завершается сценой, в которой задействованы образы Зевса, Горгоны, Киприды и покровителя искусств Феба. Священный голос дарует прощение Прометею, поскольку его «святотатство» «пользой изгладилось»: мгновенность ускользающей красоты запечатлена в «нетленном сиянии». Оживленный камень дарует бессмертие художнику и славу среди потомков, сближает с божественным началом.
Тема искусства также звучит в стихотворении П. П. Шкляревского «Пляска» (перевод «Der Tanz» Шиллера). Увлечение немецкой романтической поэзией и «пристрастие к русским архаистам» повлияли на особый характер переводов Шкляревского: их отличает торжественность и насыщенность «славянскими речениями» [2: 64]. В описании танца присутствуют античные категории меры, гармонии в музыке, пластичности. Действие произведения расширяется до космического пространства небес, которое связано с античным понятием музыки вселенной. Таким образом, посредством цикличности танца границы сфер стираются, лирическому герою открывается космическое единство и гармония мира.
«…То устав гармонии, мощной богини:
Дружною пляской она буйный смиряет скачок;
Как Немезида, златой сладкозвучья уздой укрощает Дикую радость души, пылкий, кипящий восторг. Или вотще для тебя рокочет музыка вселенной?
Иль не чарует тебя стройнаго пенья поток,
Ни восхитительный лад, согласие чудное тварей, Ни круговой хоровод, плавно в пространствах небес Движущий светлыя солнца на поприщах, смело извитых?» (1827: 286–287).
В целом произведения альманаха насыщены мифологическими образами и сюжетами, которые органично вливаются в ткань художественного текста в редуцированной форме. В ходе исследования было установлено, что наиболее часто встречаются следующие группы образов: Аполлон, Кастальский ключ, музы, грации и хариты; Зевс и титаны; мойры, Ананке, Фортуна.
В соответствии с традициями литературы XVIII – начала XIX века, образы Феба и муз являются скорее атрибутами условного поэтического языка, нежели воплощают идеи и смыслы античной культуры. В большинстве случаев они представлены в стихотворениях, имеющих черты анакреонтической и горацианской поэзии. В стихотворениях К. Н. Батюшкова «К N. N.», В. К. Кюхельбекера «Пощада певца», Н. И. Гне-дича «К Плетневу», П. А. Катенина «Фив и Музы! Нет вам жестокостью равных!...», С. П. Шевырева «К Фебу», Е. А. Баратынского «Муза» и др. эти устойчивые образы неизменно связаны с темой поэта и поэзии, включающей в свое смысловое поле проблемы судьбы творца, забвения и бессмертия, памяти потомков, гармонии и вдохновения.
Часто встречаются на страницах как поэтического, так и прозаического разделов альманаха имена Зевса и титанов. Сравнительная модель, в основе которой положительные черты верховного божества Олимпа (мудрость, величие, сила, могущество), используется для характеристики исторических фигур и современников. Так, в очерке Ф. Н. Глинки «Вступление большой действующей армии на позиции при с. Тарутине (Отрывок из истории 1812 года)» М. И. Кутузов сравнивается с Зевсом, сражающимся с титанами: «Растратив все свои громы, он отражал противников терпением» (1830: 160).
В ряде произведений образы античной мифологии задействованы в реализации темы судьбы и рока. Примером могут служить эпиграмма «Молитва» (пер. Дашкова), «Три слепца» Илли-чевского, «Одиночество (из Ламартина)» анонимного автора, «В альбом А. Н. В-ф» Дельвига, «К П. А. Плетневу» Гнедича и др. Традиционно автор прибегает к воплощению античного представления о неотвратимости судьбы, неуклонное действие и случайности которой олицетворяют парки (в римской традиции – мойры). В качестве персонификации рока и удачной судьбы, случая выступают также Ананке и Тюхе (Фортуна).
Интересно в данном контексте стихотворение Дельвига «Гений-хранитель (Сновидение)», где появляется нетрадиционный для этой темы образ. Страдающий герой ропщет на богов за муки, которые он претерпевает. Во сне он видит себя израненного, закованного в цепи. Героя оплакивает дух-хранитель, который, как и боги, бессилен избавить его от несчастий: судьба человека подвластна законам рока, ее нити прядутся высшими силами. Образ основан на римской мифологии: в античности это духовный покровитель и спутник каждого мужчины (женщинам покровительствовала Юнона). Гений оберегал человека с момента его рождения, определял его характер. Некоторые местности также имели своего гения. В искусстве духу-хранителю обычно придавался образ юноши, иногда бородатого мужа [19: 126– 127]. В стихотворении он выступает в роли вестника богов: рассказывает лирическому герою, что жители Олимпа любят людей. Они могут наградить смертного в своей обители, но изменить человеческую судьбу бессильны: законы рока и судьбы неумолимы, им подвластны судьбы не только всего сущего на земле, но и верховных божеств на небесах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование альманаха «Северные цветы» подтверждает, что взаимодействие с античным наследием является одним из источников развития и обогащения русской литературы первой трети XIX века. Рецепция классических форм в искусстве послужила толчком к межкультурному диалогу: античные образы, сюжеты, мотивы и жанры органично входят в произведения русских писателей как средство стилизации и воссоздания традиций древности, усиления эстетической ценности художественных текстов. Вместе с тем анализ материала наглядно иллюстрирует укоренение в русской литературе традиции, которую Г. С. Кнабе назвал «русской античностью». Под этим термином подразумевается не только комплекс заимствованных из культуры Древней Греции и Рима элементов, но те ее стороны, «которые были усвоены национальной культурой в соответствии с внутренними ее потребностями и стали ее органической составной частью» [6: 9]. Интерпретация античных образов происходит не только на основе общих европейских тенденций, но и русской культуры, этнографических особенностей. В художественных и критических произведениях провозглашается идея развития национальной духовной составляющей литературы.
Список литературы Рецепция античности в русской литературе первой трети XIX века (на материале альманаха «Северные цветы»)
- Вацуро В. Э. Дельвиг и искусство // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1994. С. 172-202.
- Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига - Пушкина // Вацуро В. Э. Избранные труды. М.: Языки славянской культуры, 2004. C. 3-222.
- Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков. М.: Индрик, 2001. 397 с.
- Кибальник С. А. Русская антологическая поэзия первой трети XIX в. Л.: Наука, 1990. 267 с.
- Классицизм и неоклассицизм в русской литературе XVIII-XIX вв.: Сб. ст. Вып. 1, 2. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011-2012.
- Кнабе Г. С. Пушкин и античная литература // Пушкин. Исследования и материалы: Пушкин и мировая литература. Материалы к «Пушкинской энциклопедии». СПб.: Наука, 2004. Т. XVIII-XIX. С. 24-31.
- Литинская Е. П. Рецензия и рецепция античной поэзии в творчестве В. А. Жуковского. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. 311 с.
- Литинская Е. П. Греческая антология на страницах журнала «Современник» (1836-1866) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2023. Т. 45, № 7. С. 71-79. DOI: 10.15393/uchz. art.2023.960
- Мальчукова Т. Г. Античные традиции в русской поэзии: Учеб. пособие по спецкурсу. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1990. 103 с.
- Мальчукова Т. Г. О жанровых традициях в «Анфологических эпиграммах» А. С. Пушкина // Жанр и композиция литературного произведения: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1986. С. 64-82.
- Манина И. О. Античная тема в журнале «Вестник Европы» (1802 г. № 1-12) // Перекрестки взаимодействий: диалог русской и зарубежной литературы во времени и пространстве: Материалы Восьмых Междунар. науч. чтений: В 2 ч. Ч. 2. Калуга: КгУ им. К. Э. Циолковского, 2022. С. 74-86.
- Нилова А. Ю. Жанрово-стилистические традиции в лирике М. Ю. Лермонтова (послание, элегия). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 169 с.
- Нилова А. Ю. Античные традиции в лирике М. Ю. Лермонтова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. Научное электронное издание. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
- Патроева Н. В. Античные образы в книге стихов Е. А. Баратынского «Сумерки» // Россия и Греция: диалоги культур: Материалы V Междунар. конф.: Сб. науч. статей. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2020. С. 127-135.
- Рецепция античного наследия в русской литературе XVIII-XIX вв.: Сб. статей. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 272 с.
- Савельева Л. И. Античность в русской поэзии конца XVIII - начала XIX века. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. 120 с.
- Савельева Л. И. Античность в русской романтической поэзии. (Поэты пушкинского круга). Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1986. 77 с.
- Свиясов E. B. Сафо и русская любовная поэзия XVIII - начала XX веков. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 397 с.
- Словарь античности / Редкол.: В. И. Кузищин (отв. ред.) и др. М.: Прогресс, 1989. 704 с.
- Скоропадская А. А. Рецензия античности на страницах русских литературных журналов начала XIX в. // Национально-культурные коды мировой литературы в контексте аудиовизуальных практик искусства. Н. Новгород: Издатель А. В. Щепинский, 2022. С. 232-239.
- Суворова И. М., Скоропадская А. А. Античные реминисценции в русской поэзии начала XIX в. (по материалам альманаха «Свиток муз») // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20, № 4. С. 112-128. DOI: 10.15393/j9.art.2022.11623
- Тахо-Годи А. А. Эстетико-жизненный смысл античной символики Пушкина // Писатель и жизнь: Сб. историко-литературных, теоретических и критических статей. М.: Сов. писатель, 1986. Вып. 5. С. 102-120.
- Фридлендер Г. М. Батюшков и античность // Русская литература. 1988. № 1. С. 44-49.
- Фризман Л. Г. А. С. Пушкин и «Северные цветы» // Северные цветы на 1832 год. М.: Наука, 1980. С. 295-337.