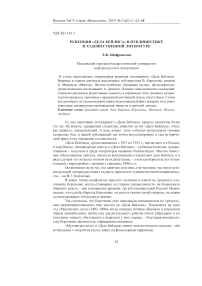Рецепция "Дела Бейлиса" в публицистике и художественной литературе
Автор: Шафранская Элеонора Федоровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена литературная рецепция легендарного «Дела Бейлиса». Впервые в едином контексте рассмотрена публицистика В. Короленко, романы Б. Маламуда «Мастер», Шолом-Алейхема «Кровавая шутка», фольклорно-антропологическое исследование А. Дандеса. Помимо типологических схождений, отмечены различные рецептивные моменты в отражении этого громкого исторического процесса, связанные с временной дистанцией или ее отсутствием. Статья актуализирует не только вековой давности резонансный факт истории, но и малоизвестные литературные произведения, вводя их в научный дискурс.
Кровавый навет, дело бейлиса, короленко, маламуд, шолом-алейхем
Короткий адрес: https://sciup.org/146281504
IDR: 146281504 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Рецепция "Дела Бейлиса" в публицистике и художественной литературе
Со дня окончания легендарного «Дела Бейлиса» прошло немногим более ста лет. На вопрос, задаваемый студентам, известно ли им «Дело Бейлиса», ответ, как правило, отрицательный. А ведь вокруг этого события происходили громкие словесные бои, и нашей публикацией мы хотим актуализировать и сам исторический факт, и его отражение в словесности.
«Дело Бейлиса», продолжавшееся с 1911 по 1913 г., прозвучало и в России, и за рубежом. Литературные тексты о «Деле Бейлиса» – публицистические, художественные – получили в среде литераторов название «бейлисиады». Многие известные общественные деятели, писатели высказывались касательно дела Бейлиса, и в ряде случаев это осталось пятном на их репутации, – о чем заговорили вслух только в период «перестройки», начиная с середины 1980-х гг.
Остановимся не на тех, кто запятнал свое имя, а на человеке, чье имя в истории русской литературы может служить мерилом ее гуманистической направленности, – на В. Г. Короленко.
В каких только конфликтах простого человека и власти не пришлось участвовать Короленко, всегда стоявшему на стороне справедливости, не боявшемуся обвинять власть, – как в имперские времена, так в большевистской России! Можно сказать, что судьба уберегла Короленко, он ушел из жизни своей смертью, не дожив до пика кровавых и бессудных времен.
Так случилось, что Короленко стал невольным специалистом по «ритуальным жертвоприношениям» еще задолго до «Дела Бейлиса». Тянувшееся не один год «Мултанское дело» (1892–1896), когда семерых вотяков обвиняли в языческом обряде каннибализма: якобы они для ритуального действа убили забредшего в их поселение нищего, обезглавили и вырезали у него сердце, – благодаря вмешательству Короленко закончилось оправданием невинных.
«Мултанское дело» и «Дело Бейлиса» имеют типологическое сходство – оба возбуждены с опорой на слухи, навет, на фольклорные нарративы.
Развеять слухи, привести доводы, призвать обвинение к логике – вот весьма непростые задачи, которые взялся решить Короленко, участвуя в этих громких судебных делах. Ему это удалось, хотя общество, причем не только малограмотное население, но и в образованные круги, было явно против позиции Короленко.
Что же это за слухи, именуемые в среде «адресата» кровавым наветом , который исходит от «адресанта»-антисемита? Энциклопедия «Еврейский мир» излагает их так: «Кровавый навет, или обвинение евреев в том, что они при отправлении своих ритуалов убивают неевреев и пьют их кровь, зародился в XII в. в Англии. В последующие семь столетий это унесло жизни десятков тысяч евреев. Ирония судьбы в том, что навет направлен против народа, который первым в истории поставил человеческие жертвоприношения вне закона» [7, с. 397].
Мотив «кровавого навета» – один из главных в истории антисемитизма, без него «невозможен этнокультурный “портрет” еврея» [1, с. 112]. Он возник как буфер в ответ на обвинение евреев в жертвоприношении христианских младенцев в ритуальных целях.
Американский фольклорист Алан Дандес дал психоаналитическое обоснование истоков этого противоречивого для двух культур (христианской и иудейской) мотива. Имея в виду древнейшее христианское таинство евхаристии, Дандес пишет, что в первые века после Рождества Христова языческие жрецы тоже обвиняли христиан в причащении кровью и телом умерщвляемого языческого младенца. Дандес в дискурсе о кровавом навете увидел «проективную инверсию», психологический феномен-травестию, христианскую вину, переданную иудеям, за то и гонимым. «Это позволяет нам понять волну преследований христиан в Южной Франции в 177 г. н. э., когда толпы обвиняли христиан в каннибализме. Рассказы о евхаристии приводили к слухам, что христиане поедают человеческую плоть и кровь. <…> После того как христианская религия стала господствующей, христиане обратили против других клевету, некогда адресованную им самим» [3, с. 226–227].
Историк литературы М. Вайскопф, говоря об антиеврейской тенденции в русской литературе, существовавшей вплоть до последних десятилетий XIX в., замечает изменение вектора в сторону филосемитизма к концу века, «когда к этому течению присоединились такие авторы, как Короленко, Леонид Андреев и Горький» [2, с. 369].
30 ноября 1911 г. в петербургской газете «Речь» было опубликовано обращение «К русскому обществу»: «По поводу кровавого навета на евреев». Обращение подписали писатели А. Блок, М. Горький, Я. Купала, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, Л. Андреев, В. Иванов, а также ученые и общественные деятели: В. И. Вернадский, М. М. Ковалевский, М. И. Туган-Барановский, П. Б. Струве, В. Д. Набоков и др. Инициатива в создании обращения принадлежала Короленко, уже тогда известному борцу с антисемитизмом. Обращение взывало к «справедливости», «разуму», «человеколюбию», дабы предотвратить вспышку ксенофобии и антисемитизма.
Короленко принадлежит цикл статей, печатавшихся во время процесса над Бейлисом, с 19 по 31 октября 1913 г. Цикл вошел в собрание сочинений Короленко под заглавием «Дело Бейлиса»: «На Лукьяновке. Во время дела Бейлиса » (семь глав), «Господа присяжные заседатели», «Господа присяжные заседатели. Статья вторая », «Присяжные ответили», «После приговора». Это был почти репортаж – с места события.
Композиция – от статьи к статье – выстраивается по классическому канону. Место действия – криминальная Лукьяновка, район Киева, все «щели, прорехи и лазы», подворотни и хибарки которого обследует Короленко. Он знакомится с жителями Лукьяновки, среди них много воров и пьяниц, людей опустившихся, «неустойчиво держащихся на ногах». Особой атмосферой среди жителей Лукьяновки окутан двухэтажный дом – «монополия», воровской притон, хозяева которого задают тон на судебных заседаниях, с оглядкой на них дают показания свидетели (точнее, лжесвидетели). К Лукьяновке примыкает кирпичный завод, Там было место – «мяло», где месили глину для кирпичей, – где собирались окрестные дети, сбегая с уроков, и после школы; отсюда исчез Андрюша Ющинский – убитый впоследствии мальчик. Короленко беседует с детьми, ровесниками и друзьями Ющинского. Все они знали Бейлиса – Короленко убеждается, что дети были расположены к безобидному рабочему Бейлису.
Устройство для вымешивания глины в нерабочее время служило детям каруселью. Короленко расспрашивает детей: «Зачем же вас гоняли оттуда? Кому это вредно? <…> – Гонял Бейлис? – Ничего подобного. Когда же ему было самому гонять? На это есть сторожа» [4, с. 368].
Этот вопрос, – пишет Короленко, – кто гонял? гонял ли Бейлис? – стал основным на суде. Дети и большинство свидетелей утверждали, что Бейлис никого не гонял, однако те, кто «неустойчиво держался на ногах», с оглядкой на «двухэтажный дом», заявляли противоположное – на том и было построено обвинение Бейлиса (еще до того, как возникнет тема «ритуального жертвоприношения»).
Короленко удалось выявить важный момент, случившийся в Лукьяновке еще до преступления. Расспрашивая детей об играх, о характере Ющинского, он записал эпизод «с прутиками»: дети вырезали прутики, у Ющинского оказался лучше, «Женя заявил на него претензию. Андрюша не отдал, Женя пригрозил.
– Я скажу твоей матери, что ты не учишься, а ходишь сюда.
И у Андрюши сорвались роковые слова:
– А я скажу, что у вас в квартире притон воров» [Там же, с. 375]. Злопамятный Женя передал эту угрозу матери.
Вскоре Андрюшу со множеством колотых ран нашли в близлежащей пещере. «Кто же, кто сделал это ужасное дело?» [Там же, с. 376] – пишет Короленко в финале первой статьи. Ответа нет, однако ответ очевиден: Короленко подвел читателя к нему. По поводу акцентов самого процесса, далеких от реальности, но намеренно расставленных тогдашним официозом, Короленко пишет заключительную фразу: «А в душе стояло ощущение XVI столетия» [Там же, с. 377].
Вернемся к композиции короленковского цикла статей о Бейлисе – содержание «На Лукьяновке» выполнило функцию экспозиции и завязки. Как будет развиваться действие, или чем завершится процесс над Бейлисом?
В двух статьях под названием «Господа присяжные заседатели» Короленко «сканирует» тех, от кого будет зависеть вердикт. Небывалый случай, – пишет Короленко, – для университетского города Российской империи, чтобы в число двенадцати присяжных не попали люди интеллигентные, образованные, как это бывало обычно. Этот состав присяжных был самый «серый»: люди предубежденные, неграмотные или малограмотные. «Особенно один сладко дремлет по получасу, сложив руки на животе и склонив голову… Состав по сословиям – семь крестьян, три мещанина, два мелких чиновника. Два интеллигентных человека попали в запасные. Старшина – писец контрольной палаты» [Там же, с. 379]. Особо досталось от Короленко этому «старшине» за подобострастие к стороне обвинения.
Анализируя причины этого казуса, Короленко приходит к выводу о подтасовке. Параллельно в суде рассматривались другие дела – там с заседателями все было в порядке: профессура, интеллигентные лица. «Слово (по делу Бейлиса. – Э.Ш.) этих скромных, серых деревенских людей телеграф разнесет по всему миру» [Там же, с. 382], то есть вердикт людей из киевских пригородов и деревень, где сильны позиции черносотенного «Союза русского народа», разъедающего крестьян «агитацией и националистической демагогией». Предшествует этому моменту речь прокурора, представлявшаяся «страстным демагогическим воззванием к чувствам племенной ненависти и вражды» [Там же]. Весь судебный процесс Короленко называет испытанием для русского правосудия.
То, о чем и как писал Короленко в «Русских ведомостях» (а его статьи о деле Бейлиса перепечатывали тут же и другие издания), не могло не влиять на ход события. Градус напряжения в Киеве, во всей России был высок. Телеграфные агентства всего мира с не меньшим напряжением следили за этим процессом.
Наконец – вердикт («Присяжные ответили»). Короленко описывает город, замерший в ожидании: прекращено всякое движение, пропускают только трамваи, город наводнен конной и пешей полицией, у Софийского собора угрожающе чернеет пятно народа, собравшегося на панихиду по убиенному Андрюше. Короленко, конечно же, намекает на погром, дыхание которого уже ощущается в воздухе Киева, погромщики ждут только команды. «Около шести часов стремительно выбегают репортеры. Разносится молнией известие, что Бейлис оправдан. Внезапно физиономия улиц меняется. <…> Погромное пятно у собора теряет свое мрачное значение» [Там же, с. 383].
Развязка цикла – статья «После приговора»: «Лукьяновка сплошь дружественна оправданному…» [Там же]. К радости Короленко примешивается досада и недоумение: почему нет попыток найти настоящего убийцу, который, для всех очевидно, принадлежит к воровской шайке. Процесс был раздут не из-за смерти мальчика, власти был нужен прецедент, повод. Но не случилось. Это была победа разума, оставившая след не только в истории, но и в литературе. И, может быть, именно потому этот прецедент русской истории отозвался в мировой литературе.
Бейлисиада включает немало очерков, исследований, больше десятка киноверсий и театральных постановок, однако литературных произведений немного. И самое примечательное – нет их в русской литературе (правда, появился анонс: Дмитрий Быков заканчивает роман «Истина», посвященный делу Бейлиса).
Наиболее яркое художественное обращение к делу Бейлиса – роман «Мастер» (удостоен Пулитцеровской премии) американского писателя Бернарда Мала-муда (1914–1986). Опубликован в 1966 г., однако связь писателя с делом Бейлиса ощутима на пренатальном уровне (как пишут публикаторы единственного русского издания романа [5]). «Мастер» основан на документах, на личных воспоминаниях Бейлиса. Реальные имена в нем заменены на вымышленные: Мендель Бейлис – Яков Бок, Андрюша Ющинский – Женя Голов.
«Мастер» может быть вписан в типологический ряд каторжно-тюремной литературы: основное действие происходит в тюремной камере. Мысли Якова Бока о его прошлом и настоящем, о евреях и еврействе, о религии – иудейской и христианской – читатель узнает на фоне мучений, которым подвергают безвинно заключенного, ставшего козлом отпущения в политических играх России начала ХХ века. Более двух лет провел Яков в камере, дожидаясь обвинения, которое путем ложных, казуистических приемов никак не могло выстроить тогдашнее правосудие, – предвещая кафкианский «Процесс».
На глазах читателя Яков вызревает как личность – с убеждениями, позицией. А началось все с раннего утра, когда Яков встретил во дворе покрытую черной шалью бабу, она сказала ему, что недалеко нашли мертвое тело ребенка. Назавтра «Киевлянин» сообщил, что рядом с кирпичным заводом найден убитый русский мальчик Женя Голов. Тут же появились прокламации «Черной сотни», обвинявшие в убийстве евреев. Яков забеспокоился: кирпичный завод, где он работал, был в Лукьяновском околотке, а евреям там жить запрещалось. Яков был арестован. Поначалу, всеми забытый и покинутый, никому не нужный, он задумался о самоубийстве. Но первый следователь по его делу – Бибиков – дает ему силы не сдаваться. Бибиков видел всю ложность обвинения Якова и старался ему помочь.
К выводу о проективной инверсии в контексте кровавого навета приходят почти одновременно писатель и ученый (см. выше) – Бернард Маламуд (устами Бибикова) и Алан Дандес: «…я обнаружил: те самые обвинения, какие выдвигаются против евреев, были в ходу у язычников первого века…» [Там же, с. 172].
Бибиков – нонконформист: «Такая сложная, многострадальная, темная и беспомощная страна эта наша Россия. В каком-то смысле все мы здесь арестанты» [Там же, с. 175], и власть его уничтожила, буквально – физически.
Два года на Якова Бока давили – и психологически, и физически, чтобы он сознался в ритуальном жертвоприношении. Одним из убийственных аргументов прокурора был тот, что его, Якова Бока, делом интересуется император Николай II и стоит на стороне обвинения: «…можете мне поверить: русский народ в праведном гневе своем отомстит за несчастного Женю, за его муки, за боль, какую вы ему причинили. <…> …Тогда не удивляйтесь, что покатятся по улицам бородатые головы. И полетят перья. И вонзится казачья сталь в нежненькие тела молодых евреечек» [Там же, с. 296]. На крик Якова «Я невиновен!» прокурор отвечает: «Не бывает еврей невиновен…» [Там же, с. 224].
Яков Бок мечется в поисках выхода: умереть или продолжать борьбу, в его смерти в камере заинтересовано следствие: ему подсыпают в еду яд. «Умри, – говорил ему надзиратель. – Умри ты, ради Христа» [Там же, с. 272]. Ему кажется, что он уже умер, но приходит адвокат, пытается дать ему шанс, рассказывает, что он не один, что есть люди в России с совестью и честью, которым не безразлична судьба Якова Бока. Среди таковых, как нам известно, был и Короленко.
Интенция романа Маламуда совпадает с короленковской – в описании присяжных: «…хотя это будут невежественные крестьяне и лавочники – простые люди, – зато они, как правило, не любят официальных лиц и, когда дойдет до дела, учуют подвох» [Там же, с. 307], однако, в отличие от Короленко, который, сетуя на состав присяжных, не исключал ни справедливого, ни печального исхода, Маламуд, писавший свой роман в середине ХХ века, знал, чем все кончится, и потому его прогнозы оптимистичней.
Совпадают публицистический текст Короленко и художественный – Мала-муда и в описании Киева, напряженно ждущего судебного решения – практически в преддверии погрома: «Мастер, дивясь, увидел по обеим сторонам улицы толпы народа» [Там же, с. 323].
Если все действие романа было исполнено автором в реалистическом стиле, основанном на реальных событиях и документах, то финал решен в модернистском. Маламуд заканчивает роман изображением подсудимого по дороге в суд, в частности – его психологического состояния. Яков Бок из маленького, беззащитного человека созревает до способного постоять за себя и наказать обидчика – пусть и в воображении. Якову грезится царь – виновник не только его беды, но и всех его соплеменников. Яков помнит, что ему говорил адвокат в камере: «Погромы были задуманы в министерстве внутренних дел. <…> Ходят слухи, будто царь лично жертвовал средства из государственной казны на юдофобские листовки» [Там же, с. 304–305]. В грезах Яков обращается к царю: «Вот вы говорите, вы добрый, а доказываете это погромами. – А за них ты меня не вини, – сказал царь, – вода течет, ее не остановить. Погромы – суть истинное выражение воли народа» [Там же, с. 329]. Тогда Яков приставил пистолет к царской груди и нажал на спуск, говоря: это за Бибикова, за Кожина (надзиратель, благоволивший Якову, расстрелянный на его глазах в камере), это за тюрьму, за яд, за ежедневный шестиразовый обыск (приносивший Якову физические страдания). Царь расстрелян. Роман окончен. Так символично выстроил Маламуд ретроспекцию исторических событий. Так были окончены физические и психологические страдания Якова Бока – Бейлиса. Бернард Маламуд написал роман «Мастер» по-английски, зная русскую жизнь по словам родителей, эмигрировавших в США из Каменец-Подольского Хмельницкой области.
Еще один автор, откликнувшийся на дело Бейлиса, – писатель Шолом-А-лейхем (1859–1916). Однако российскую действительность он знал не по книгам. Шолом-Алейхем покинул Россию в 1905 г., будучи писателем. Языком его творчества поначалу был русский, потом идиш. До конца жизни он оставался подданным Российской империи. В отличие от маламудовского романа, воспроизводящего почти по дням заключение героя, роман Шолом-Алейхема «Кровавая шутка», написанный на идише, лишь спровоцирован делом Бейлиса. В основе сюжета – авантюрная история: два молодых человека, еврей и русский, заключают пари: они поменялись на один год паспортами и аттестатами выпускников гимназии; русский юноша не верит своему другу, что евреи подвергаются гонениям, и хочет убедиться в этом сам. В итоге он так же, как и Бейлис, подпадает под обвинение в ритуальном убийстве. Роман писался во время самого процесса над Бейлисом, был закончен до вынесения Бейлису оправдательного вердикта.
«Былой» русский, «ныне» еврей, персонаж Шолом-Алейхема претерпевает все мытарства еврейской судьбы – гонения, унижение, высылку в черту оседлости, кровавый навет. Он даже хочет проверить, как евреи выпекают мацу – действительно ли с использованием крови христианских младенцев? «А где же ритуальная церемония? <…> Какой позор! Он, культурный человек двадцатого века, мог поверить в этот дикий бред!..» [9, с. 146–151].
Не сюжетом, не мотивом, а иронической деталью «кровавый навет» отзывается и в современной литературе: в рассказе Д. Рубиной: «Итак, мы продолжаем!..» упомянут персонаж – художник, «гой» (нееврей), подрабатывающий на «заводике» по производству мацы: «Недавно руку поранил, как раз правую – кровища, говорит, хлестала… <…> Пусть теперь, говорит, доказывают, что не добавляют в мацу кровь христианских младенцев…» [6, с. 250].
Несмотря на многочисленные папские буллы, фирманы исламских султанов, отвергающие «кровавый навет», он продолжает жить, питая ксенофобию и «юденхасс» – «фольклор не так-то просто подавить законодательными мерами» [3, с. 210]. Читаем в романе Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик»: «…Шесть миллионов евреев, погибших в войне, это космическая катастрофа, какое-то злодеяние планет, а вот те сорок два еврея, которые погибли в Кельце уже после войны, в июле 46-го года, на совести поляков. <…> Говорят, что погром организовал комитет госбезопасности, польский или советский. <…> Все как в Средневековье – опять пущен был слух о похищении христианского младенца. Кровь, маца, еврейская пас- ха…» [8, с. 132–133]. А «Наш современник» к датам, посвященным делу Бейлиса, печатает отповеди тем, кто оправдал невинного. Осталось дождаться романа Дмитрия Быкова о деле Бейлиса.
The Moscow City Teachers Training University the Department of Russian Literature
Список литературы Рецепция "Дела Бейлиса" в публицистике и художественной литературе
- Белова О. В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М.: Индрик, 2005. 288 с.
- Вайскопф М. Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма. М.: Мосты культуры, 2008. 383 с.
- Дандес А. Фольклор: семиотика и/или психоанализ. М.: Вост. лит., 2003. 279 с.
- Короленко В. Г. Дело Бейлиса // В. Г. Короленко. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М.: Книжный клуб Книговек, 2012. С. 365-384.
- Маламуд Б. Мастер. М.: Лехаим, 2002. 336 с.
- Рубина Д. И. Итак, мы продолжаем!.. // Ориентация на местности. Русско-израильская литература 90-х гг. Иерусалим, 2001. С. 250-257.
- Телушкин Й. Еврейский мир: Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. М.: Мосты культуры, 2002. C. 397-399.
- Улицкая Л. Е. Даниэль Штайн, переводчик. М.: Эксмо, 2006. 528 с.
- Шолом-Алейхем. Кровавая шутка. М.: Лехаим, 2002. 560 с.