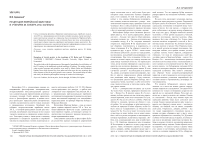Рецепция еврейской мистики в учениях М. Бубера и М. Каплана
Автор: Бродский В.И.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (37), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена феномену обращения неортодоксальных еврейских мыслителей XX в. к традиционным мистическим учениям иудаизма. Автор исследует, какие мистические концепты и принципы были подчерпнуты Мартином Бубером и Мордехаем Капланом, какие источники были при этом использованы и какой смысл обрели элементы еврейского мистицизма в новых контекстах. Исследование подходов двух мыслителей позволяет зафиксировать единую логику, характерную для современной еврейской мысли в целом.
Иудаизм, еврейская мистика, еврейская мысль, м. бубер, м. каплан
Короткий адрес: https://sciup.org/170175658
IDR: 170175658 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи Рецепция еврейской мистики в учениях М. Бубера и М. Каплана
Философия XX в. ознаменована самыми неожиданными философскими экспериментами, интереснейшими интеллектуальными проектами и удивительными пересечениями различных духовных течений. Особо яркими представляются те философские проекты, в рамках которых происходит переосмысление авторитетных учений, осуществляется синтез новых подходов и традиционных источников. Подобный путь избирает неортодоксальная еврейская мысль XX в., к которой принадлежит целый ряд мыслителей, включивших мистические (и не только) элементы иудаизма в совершенно новые контексты. Тема присутствия, а также роли и значения принципов и концептов иудаизма и еврейской мистики в современных учениях поднимается во многих актуальных работах [14; 22; 20]. Данная статья продолжает этот дискурс - в работе анализируются опыт обращения мыслителей XX в. к традиционным (ортодоксальным) еврейским источникам (подавляющее большинство которых имеет мистический характер) и их дальнейшего переосмысления на примере Мартина Бубера и Мордехая Каплана.
Философия Мартина Бубера - одна из самых ярких страниц мировой мысли XX в. Этот немецко-еврейский философ создал удивительно многогранную теорию, сочетающую ценные теоретические построения с живыми эмоциональными переживаниями мира.
Тема влияния хасидизма на философию Бубера достаточно хорошо освящена в современной науке, вследствие чего в этой статье будет рассмотрено лишь нескольких базовых направлениях этого влияния. В этой части работы речь пойдет о том, каковы буберовские интерпретации главных аспектов хасидского учения - пантеистической картина мира, принципа близости человека к Богу и обусловленные им концепции двейкута (непосредственного прорыва человека к Богу), хасидской молитвы и учении о цадике.
Философию Бубера часто называют философией диалога, что в целом справедливо. Диалог для него - больше, чем просто обмен репликами между людьми, это - базовое онтологическое отношение между Я и Ты, ситуация взаимной открытости. Парадигма Я-Ты предполагает живое общение, чувственность и искренность, в таком отношении Я и Ты образуют единство и нуждаются друг в друге. Я-Оно - схема познания объекта субъектом с целью его определения, исследования, дальнейшей классификации и систематизации. При этом отношение Я-Оно возникает не только в науке, но и между людьми или даже между человеком и Богом. Это происходит тогда, когда человек обращается к другому как к средству или носителю функции, а к Богу - как к некоему элементу религиозного знания. В этом случае Бог для него - не собеседник и не вечное Ты, а факт, к которому можно апеллировать, требуя от другого определенного образа действий или доказывая свою правоту. Стоит отметить, что философия диалога Мартина Бубера, как и хасидское учение, включает в себя онтологические, психологические и этические черты, образуя единое знание.
Я-Ты — универсальная ситуация, где в роли Ты может быть человек, природное явление или Бог - Вечное Ты. В диалоге между Я и Ты возникает любовь, причем не как следствие определенной причины, а как само отношение. По сути, диалог Я и Ты сам по себе есть любовь: «Чувства обитают в человеке, человек же обитает в своей любви. Это не метафора, а действительность: любовь не присуща Я таким образом, чтобы Ты было лишь ее «содержанием», ее объектом; она между Я и Ты. Тот, кто не знает этого всем своим существом, не знает любви, хотя и может связывать с ней те чувства, которыми он наслаждается, которые переживает, испытывает, выражает. Любовь есть охватывающее весь мир воздействие» [6, с. 23]. Наиболее привычное нам отношение Я-Ты возникает в диалоге с отцом, супругом или другом. Такие отношения строятся на искренности, доверии, любви, взаимной нужде друг в друге, и только в них собеседник открыт нам во всей полноте. Тот же характер Бубер пытается распространить на отношения человека с миром вообще.
Во всем этом, вне всякого сомнения, просматриваются черты хасидского учения. Описанный Бубером диалог Я и Вечного Ты весьма близок к хасидскому пониманию отношений межу человеком и Богом. Бог для хасида - в первую очередь, собеседник, к которому можно обращаться как отцу или другу. Недаром наиболее ценной молитвой, с точки зрения хасидских учителей, является спонтанная, простая молитва, обращенная к Богу как к Вечному Ты. Только такая молитва является искренней и чистой, а Бог в ней выступает именно как Ты, близкое и родное, а не как далекое и чуждое Оно. Наконец, именно в живой молитве возникает подлинная, трепещущая любовь, чего крайне сложно достичь в рамках канона. Таким образом, совершенно очевидно, что одна из центральных идей философии диалога Мартина Бубера - диалог Я и Вечного Ты - вдохновлена хасидским принципом близости человека к Богу и вытекающим из него учением о естественной молитве. При этом нельзя сказать, что буберовская ситуация Я-Ты является непосредственным воспроизведением хасидской установки. Вне всякого сомнения, она обретает более концептуализированный характер, в ней угадываются онтологические и гносеологические установки европейской философии жизни и герменевтики, атмосфера экзистенциализма.
Что касается буберовского диалога между людьми, то и здесь мы можем увидеть определенные параллели с хасидизмом. Ситуация Я-Ты возникает не только в отношениях супругов или друзей, но и в хасидской общине. Речь идет, конечно же, о диалоге хасида и его цадика. Основа их отношений - беседа, ведь именно через нее хасидские раввины чаще всего доносили свое учение. Хасид и цадик нуждаются друг в друге, а вместе они образуют единое целое - хасидскую общину, где каждый, тем не менее, сохраняет свою роль. Открытость, доверие, любовь - все это также характеризует отношения хасида и цадика, которые, обращаясь друг к другу, одновременно обращаются и к вечному Ты. Духовная глубина отношений хасида и цадика, их уникальная сила и внутренняя энергетика заставили Бубера по-новому взглянуть на характер искренних отношений между людьми. Таким образом, весьма вероятно, что диалог хасида и цадика также стал одним из источников, вдохновивших мыслителя на создание парадигмы Я-Ты, обнаружи- вающейся в чистосердечных отношениях между любящими людьми.
Несколько слов необходимо сказать о возможных влияниях хасидского вероучения на буберов-ское понимание мира и его внутренней природы. С точки зрения Бубера, мир состоит из «встреч», за каждой из которых кроется вечное Ты. В основе диалога с любым Ты лежит диалог с Вечным Ты, а обращаясь к любому человеку или даже явлению природы, мы одновременно обращаемся и к Вечному Ты: «Каждое взятое в отдельности Ты есть прозрение к Вечному Ты. Через каждое взятое в отдельности Ты основное слово обращается к нему» [6, с. 57].
«Каждое отношение Я-Ты как бы вращается вокруг центра, где встречаются, по Буберу, все линии этих отношений - в Вечном Ты, в Боге» [8, с. 26]. По Буберу, Вечное Ты всегда вокруг нас -его даже не надо искать, так оно всегда найдет нас само: «Бог - бесконечное, нуждающееся в конечном, - зовет, взывает к конечному, к человеку» [8, с. 101]. Оно вовлечено в личную жизнь человека и терпеливо ждет обращения к себе: «Речение Бога к людям пронизывает происходящее в жизни, которая своя для каждого из нас, и все происходящее в мире, нас окружающем, все биографическое и все историческое и делает это для тебя и для меня указанием, требованием» [6, с. 101]. Бог и мир у Бубера неразделимы - Бог не над миром и даже не в мире. Наиболее подходящей формулировкой оказывается «мир в Боге», поскольку, вступив в диалог с Вечным Ты, человек обнаруживает его во всем, в каждой «встрече» и, обращаясь к миру, одновременно обращается и к Богу.
Интересно, что, открыв для себя Вечное Ты, человек не должен ограничиваться прямым диалогом с ним, игнорируя окружающих. Бубер говорит о том, что подлинный диалог возможен лишь тогда, когда человек «подтверждает» (то есть обнаруживает) Вечное Ты в мире, вокруг себя: «Встреча с Богом дается человеку не ради того, чтобы он был занят только Богом, но ради того, чтобы он подтвердил смысл в мире. Всякое Откровение есть призвание и послание» [6, с. 81-82]. Только так мы обретаем Вечного Собеседника во всей его полноте. Немаловажно и то, что Бубер обнаруживает Ты в материи, что вновь говорит о его близости хасидизму. Подобно тому, как хасиды усматривали в природной красоте «дыхание Шхины (божественное присутствие в тварном мире)», Бубер видит за подобными «встречами» Вечное Ты. В общем и целом, онтологический аспект философии Бубера тяготеет к пантеизму и воспроизводит некоторые базовые элементы хасидского учения о мире, а также более ранних еврейских мистических учений.
В своем учении о вере Бубер также обращается к наследию хасидизма. Немецко-еврейский мыслитель полагает, что существует два образа религиозной веры - еврейская эмуна и греко-христианский пистис (без особого труда их можно соотнести с отношениями Я-Ты и Я-Оно). В первом случае речь идет даже не о вере, а скорее о доверии - человек полностью вверяет себя Богу, беспрекословно следует его путями: «Доверие по сути своей есть подтверждение и проверка на деле такого доверия к Богу в полноте жизни, вопреки переменчивости земной судьбы, которую испытывает человек» [1, с. 255]. Такая вера похожа на отношение маленького ребенка к отцу - он искренне любит его и при этом ощущает свою полную зависимость от него. Пистис - означает прежде всего веру в какой-то факт, который становится побудительной причиной для дальнейших действий человека. В христианстве таким фактом является воскресение Христа. Руководствуясь эмуной, человек совершает действие ради самого действия, пистисом - только для того, чтобы получить награду или избежать наказания.
Еврейский образ веры, по Буберу, присутствовал в Ветхом Завете, фарисействе, учении Христа и хасидизме. Греко-христианский образ возник у апостола Павла и закрепился в христианстве. Можно сказать, что изначально эмуна была верой Богу, а пистис - верой в Бога. При этом два образа давно смешались - многие иудеи следуют «одеревеневшей» вере (в этом можно усмотреть критику противников хасидизма - Литваков), среди христиан находятся те, кто избежал «паулинизма». Описывая эмуну, Бубер, по сути, говорит о вере хасидов. Он не отрицает того, что «борьба за веру» сохранилась в хасидизме («И хасиды - во всяком случае, хасиды первых поколений - испытывали близость Владычества Божьего, но такую близость, которая требовала не все изменяющей готовности, но продолжения жизни в вере, равно пылкой и ревностной, как и исполненной трудов, ради связи поколений» [1, с. 280]), но при этом говорит, что очень отчетливо она проявилась уже в фарисействе.
Таким образом, связь Бубера с хасидизмом представляется очень крепкой. Главное желание Бубера - вернуть вере ее живое, чувственное, начало и побороть «одеревенение» религии - уже во многом напоминает мотивы и стремления хасидских учителей. Тем не менее, самого Бубера нельзя считать хасидским мыслителем - скорее мы имеем дело с интерпретацией хасидской мысли, осуществляющейся с опорой на европейские интеллектуальные традиции. Однако Бубер -первый мыслитель, сделавший хасидизм частью своей философии и открывший это яркое учение миру Мартин Бубер проявил себя и как выдающийся мыслитель, и как первооткрыватель и интерпретатор хасидизма.
В XX в. философское переосмысление иудаизма осуществлялось не только в Европе, но и по ту сторону Атлантики. Американская неортодоксальная еврейская мысль также богата яркими именами и учениями, однако на этом фоне особенно выделяется фигура Мордехая Каплана - оригинального мыслителя, философия которого легла в основу реконструктивистского направления в иудаизме. Парадоксальным является тот факт, что несмотря на то, что Каплан в целом сохранил более крепкую связь с еврейской религией (имел титул раввина и, по сути, возглавил новую деноминацию), чем Бубер, в некоторых аспектах его версия реконструкции иудаизма представляется даже более радикальной, чем проект Бубера. Учение Мордехая Каплана остается в пространстве еврейской религиозной мысли, но полностью разрывает связь с традицией. Однако, даже несмотря на этот разрыв, философия Каплана содержит несколько важных элементов, восходящих к традиционной еврейской мистике. Этот момент мало исследован в научной литературе, так как в большинстве работ Каплан рассматривается как подчеркнуто неортодоксальный мыслитель.
Учение Каплана представляет собой синтез иудаизма и американского прагматизма. Важнейшей установкой Каплана является принцип, согласно которому любой объект, имеющий физическую или духовную природу, обретает сущность и существование благодаря функции. Существует только то, что функционирует, а по характеру функции можно установить то, чем является изучаемый объект. Потеря функции означает уничтожение предмета, а изменение характера инициируемых им практических следствий означает, что предмет в сущности становится чем-то иным. Религия для Каплана не является каким-либо исключением - ее целью является избавление (salvation), вследствие чего она представляет собой не более чем совокупность инструментов и средств, используемых для реализации этого идеала. В случае, если какие-то элементы религии перестают функционировать должным образом (чаще всего это происходит в связи с изменениями интеллектуального и социального фона), они должны быть переосмыслены или заменены. Таким образом, Каплан ни много ни мало утверждает, что любой элемент (будь то важный концепт, заповедь, молитва или верование) религии в перспективе имеет временный и преходящий характер. Подобная установка, вне всякого сомнения, вступает в очевидный конфликт с ортодоксальной версией иудаизма. Тем не менее, не все так однозначно.
Вернемся к уже упомянутому понятию «избавление», которое является для Каплана вечной целью религии, условием ее существования и осмысленности. Каплан трактует это понятие весьма своеобразно, синонимичным ему оказывается термин «самосовершенствование» (selffulfillment). Под избавлением, таким образом, Каплан понимает всестороннее (духовное, интеллектуально, нравственное) совершенствования личности и человечества, установление справедливых порядков, освобождение от всех форм рабства (будь то реальное отсутствие прав или метафорическое «рабство греха»): «Избавление означает освобождение от тех зол, внешних и внутренних, что препятствуют человеку реализовать максимум своих возможностей» [14, с. 127]. Каплан выделяет коллективный и личностный уровень избавления, при этом установление справедливых порядков, равенства и взаимоуважения в обществе и общине (коллективный уровень) является необходимым условием для совершенствования индивида (личностный уровень) [18, с. 296].
Несмотря на то, что каплановское избавление выглядит очень жизненным, земным и тяготеет к светскому гуманизму, его аналог обнаруживается в еврейской мистике. Вспомним космогонический сюжет из лурианской каббалы - разбитие Божественных сосудов, приведшее к несовершенству мира. Хорошее пояснение этому сложному мотиву дает украинский исследователь И. Туров: «На раннем этапе эманации сосуды, созданные для нисхождения в них божественного света, не выдержали его силы и разрушились. В результате этого созданный мир несовершенен и нуждается в исправлении — тикун......в сотворенном Им [Богом] мире идет непрестанная борьба сил добра и зла, причем победа над последними будет достигнута в результате освобождения плененных искр» [10, с. 73]. Самое же важное состоит в том, что тикун олам - исправление мироздания (а именно борьба со злом и скверной путем воспитания и распространения праведности) становится миссией человека. Также стоит отметить, что концепт тикуна вышел далеко за рамки лури-анской каббалы и впоследствии интегрировался во многие еврейские учения, в частности, - в хасидизм. Шнеур Залман из Ляд (основатель лю-бавического хасидизма), практически полностью заимствующего этико-онтологический сюжет Лурии, говорит следующее: «Цель творения человека в том, чтобы он стал подмогой Богу Это можно объяснить так: передача в нижние миры божественной благодати через много ступеней самоограничения должна была служить прелюдией к возвращению ее наверх, чтобы превратить тьму в свет. Именно для этой роли Бог создал человека на земле» [9, с. 36].
В концепции лурианского тикуна и капланов-ского избавления обнаруживается немало общего - оба концепта признают несовершенство мира и возлагают на человека миссию исправления мира, уничтожения всяких зол и страданий. При этом нет сомнений в том, что Каплан был хорошо знаком с каббалической концепцией - в одном из своих произведений он напрямую касается этой темы и дает следующий комментарий: «Наряду со следованием заповедям (мицвот), еврейский мистицизм постоянно подчеркивал важность изучения Торы и вовлеченности человека в молитву. Все, что вносило вклад в избавление отдельного человека или тикун ха-нэфеш (приведение души в порядок), признавалось вносящим вклад в тикун ха-олам (приведение мира в порядок). Тикун ха-олам был равнозначен восстановлению изначальной гармонии во Вселенной -между высшими и низшими мирами, между Израилем и Богом» [16, с. 127]. В этой же работе Каплан подчеркивает, что именно мистицизм в еврейской традиции акцентировал проблему борьбы со злом в этом мире. Исходя из всего вышесказанного, есть основания полагать, что понятия избавления в философии Каплана является интерпретацией каббалической концепции тикун олам. Американо-еврейский мыслитель погружает тикун в чуть более социальный контекст, но в целом сохраняет смысл каббалического сюжета. Интерпретация тикуна как изменения мира путем социально-политической и гражданской активности в целом широко распространено среди американского еврейства [13, с. 15].
Философия Каплана известна прежде всего своей теологической составляющей - мыслитель создает совершенно удивительную концепцию Бога, имеющую много общего с религиозным натурализмом, процесс-теологией, учениями Спинозы и Бергсона. Каплан дает множество определений Бога, исследователи суммируют их следующими образом: «... Бог есть созидательная жизнь Вселенной, совокупность всех сил, что создают космос из хаоса» [21, с. 274]; «Бог (для Каплана - прим, авт.) и закон природы, и онтологическое равновесие, и созидательный потенциал в природе, и сам процесс созидания в природе. Термин “Бог” в теологии Каплана соответствует каждому из этих значений» [19, с. 278]. Не вдаваясь в подробности отметим, что Каплан понимает Бога как единство различных созидательных процессов в физической и культурной реальности. В природе Бог проявляется в некой мировой гармонии, согласованности и порядке различных природных явлений, в сфере истории и духа - в развертывании идеалов, установлении все более благих и справедливых отношений между людьми. Несложно понять, что Бог Каплана, по сути, представляет собой возведенный в абсолют и обретший фундаментальный онтологический смысл процесс избавления, в связи с чем совершенно неудивительно, что Каплан также называет Бога «силой, осуществляющейся для Избавления» [17, с. 40].
Исследователи часто связывают теологию Каплана с процесс-теологией [23, с. 283-293] и учением Бергсона [19, с. 279]. Однако, нельзя не отметить, что процессуальные и пантеистические аспекты учения Каплана находят свои аналоги в традиционной еврейской мистике. Концепция эманации Божества, предполагающая последовательное развертывание Бога через 10 ступеней (сфирот) восходит к самым ранним каббалическим текстам (Сефер-йецира, Багир и т.д.), и играет важнейшую роль во всех еврейских мистических учениях, включая лурианскую каббалу и хасидизм. Идеи непрекращающегося творения мироздания и Божественного присутствия на всех уровнях тварного мира, в том числе в открывающейся человеческому глазу гармоничной природной красоте - значимые элементы хасидизма. Учитывая то, что Каплан был прекрасно знаком с еврейской мистикой, можно предположить, что он позаимствовал многие ее элементы или, как минимум, попытался с ее помощью придать своему учению образ, тяготеющий к традиционным еврейским источникам и способный заретушировать разрыв с ортодоксальным иудаизмом.
Рассмотрев формы рецепции идей иудаизма в учениях Бубера и Каплана, можно заключить, что обе неортодоксальные концепции удивительным образом совершенно немыслимы без своих традиционных оснований. Онтология «Я-Ты» Бубера, избавление Каплана - эти важнейшие элементы рассмотренных концепций представ- ляют собой интерпретации известных еврейских мистических концептов. Однако, что немаловажно, традиционные идеи в работах современных мыслителей реконструируются при помощи западного философского инструментария. Подход Бубера представляет собой синтез экзистенциализма и дильтеевской герменевтики, Каплан опирается на американский прагматизм. Оба мыслителя обращаются к еврейской проблематике и закрепленному в традиции материалу с позиции представителей западных интеллектуальных течений. Этот общий принцип может лечь в основу понимания историко-философского понятия «современная еврейская мысль», споры вокруг которого ведутся уже не одно десятилетие.
Список литературы Рецепция еврейской мистики в учениях М. Бубера и М. Каплана
- Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995.
- Бубер М. Затмение Бога. Мысли по поводу взаимоотношения религии и философии//Два образа веры. М.: Республика, 1995. С. 341-420.
- Бубер М. Образы добра и зла//Два образа веры. М.: Республика, 1995. С. 125-156.
- Бубер М. Хасидские истории. Первые учителя. М.: Гешарим, 2006.
- Бубер М. Хасидские истории. Поздние учителя. М.: Гешарим, 2009.
- Бубер М. Я и Ты//Два образа веры. М.: Республика, 1995.С. 15-92.
- Вавилонский Талмуд. Трактат Санэдрин.
- Лифинцева Т.П. Философия диалога Мартина Бубера. М.: ИФ РАН, 1999.
- Мудрость каббалы/сост. Дэн Кон-Шербок. М.: ACT: Астре ль, 2009.
- Туров И.В. Ранний хасидизм: История. Вероучение. Контакты со славянским окружением. Киев: Дух i Лiтера, 2003.
- Хасидская мудрость/сост. В.В. Лавский. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
- Шолем Г. Основные течения в иудейской мистике. М.: Мосты культуры, 2004.
- Cooper, L., 2013. The assimilation of Tikkun Olam. Jewish Political Studies Review, vol. 20, no. 3/4, pp. 10-42.
- Goetschel, W., 2012. The discipline of philosophy and the invention of modem Jewish thought. New York: Fordham University Press.
- Kaplan, M., 1956. Questions Jews ask: Reconstructionist answers. New York: The Reconstructionist Press.
- Kaplan, M., 1960. The greater Judaism in the making. A study of the modem evolution of Judaism. New York: The Reconstructionist Press.
- Kaplan, M., 1994. The meaning of god in modem Jewish religion. New York: Wayne University Press.
- Kaplan, M., 1971. The purpose and meaning of Jewish existence. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America.
- Kaufman, W., 1990. Kaplan’s Approach to Metaphysics. In: Goldsmith, E.S., Scult, M. and Seltzer, R.M. eds., 1990. The American Judaism of Mordecai M. Kaplan. New York: New York University Press, pp. 271-293.
- Marmur, M., 2012. Are you my Witness? The use of sources in modem Jewish thought. Modem Judaism, vol. 32, no. 2, pp. 155-173.
- Scult, M., 2014. The radical American Judaism of Mordecai M. Kaplan. Indianapolis: Indiana University Press.
- Seeskim, K., 1990. Jewish Philosophy in a secular age. New York: SUNY Press.
- Staub, J., 1990. Kaplan and process theology. In: Goldsmith, E.S., Scult, M. and Seltzer, R.M. eds., 1990. The American Judaism of Mordecai M. Kaplan. New York: New York University Press, pp. 283-293.