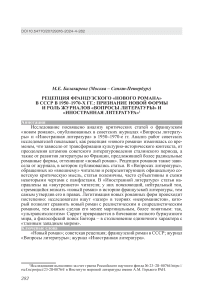Рецепция французского "нового романа" в СССР в 1950-1970-х гг.: признание новой формы и роль журналов "Вопросы литературы" и "Иностранная литература"
Автор: Балакирева М.Е.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено анализу критических статей о французском «новом романе», опубликованных в советских журналах «Вопросы литературы» и «Иностранная литература» в 1950-1970-е гг. Анализ работ советских исследователей показывает, как рецепция «нового романа» изменялась со временем, что зависело от трансформации культурно-исторического контекста, от преодоления штампов советского литературоведения сталинского периода, а также от развития литературы во Франции, предложившей более радикальные романные формы, оттенившие «новый роман». Рецепция романов также зависела от журнала, в котором публиковались статьи. В «Вопросах литературы», обращенных ко «внешнему» читателю и репрезентирующих официальную советскую критическую мысль, статьи полемичны, часто субъективны и схожи некоторыми чертами с памфлетами. В «Иностранной литературе» статьи направлены на «внутреннего» читателя; у них поясняющий, нейтральный тон, стремящийся вписать «новый роман» в историю французской литературы, тем самым утвердив его в правах. Легитимация новых романных форм происходит постепенно: исследователи ищут «зазор» в теориях «неороманистов», который позволит сравнить новый роман с реалистическим и соцреалистическим романом, тем самым сделав его менее маргинальным, более понятным: так, «ультрапсихологизм» Саррот превращается в бичевание мелкого буржуазного мира, а философский поиск Бютора - в столкновение единичного характера с «тленным западным миром».
«новый роман», советская рецепция, французский роман в ссср, журнал «вопросы литературы», журнал «иностранная литература»
Короткий адрес: https://sciup.org/149147195
IDR: 149147195 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-282
Текст научной статьи Рецепция французского "нового романа" в СССР в 1950-1970-х гг.: признание новой формы и роль журналов "Вопросы литературы" и "Иностранная литература"
“Nouveau roman”; soviet critical reception; French novel in USSR; magazine “Voprosy Literatury”; magazine “Inostrannaya literatura”.
Едва появившийся во Франции «новый роман» сразу привлек к себе внимание советской критики. Исследователи окрестили новое явление сначала литературой «нейтрализма» [Плоткин 1964], «эстетического софизма» [Капустин 1964] и «потерянного поколения холодной войны» [Зонина 1962] в 1960-е гг., затем литературой «анархистского отчаяния» [Матвеев 1971] и «декадентского мировосприятия» [Машинский 1971] в 1970-е гг. Осторожное, порою насмешливое отношение к новой форме, однако, неизменно сопровождалось попытками вписать новое явление в общий контекст мировой литературы, понять тот вектор развития, который избрали для себя некоторые французские литераторы после Второй мировой войны.
Безусловно, интерес к новой романной форме был обусловлен разными факторами, в частности, «сменой вех» внутри страны. Появление «нового романа» совпало с провозглашенной Н. Хрущевым оттепелью, послаблениями и переосмыслением перегибов – в частности, в литературной критике; осмысление и принятие новой формы проходили на фоне критики «нового нового романа» (или «новейшего романа» – так называли советские критики С. Вели- ковский и Л. Зонина экспериментальную литературу авторов журнала «Тель Кель», например, Ф. Соллерса или П. Гийота). К тому же, все критические выпады или примирительные речи в отношении «нового романа» непременно сопровождались размышлениями о социалистическом реализме и советском романе, что, по всей вероятности, свидетельствует также о кризисе романного жанра в самом СССР и стремлении к его обновлению (особенно острой стала полемика после публикации на русском книги Роже Гароди «Реализм без берегов» в 1966 г.).
Усугублял наметившийся диалог тот факт, что отчасти «новые романисты» и в большей степени «новые новые романисты» считали себя политически ангажированными, революционными писателями и апеллировали к той же идеологической базе, что и советские критики. Поэтому часто в советских статьях обсуждается теоретическое новаторство французских авторов: споры о форме превращаются в споры о верности идеологий, а советский читатель чаще знакомится с мнениями писателей, но не с текстами. И если «новый роман» переводится, хоть и фрагментарно первое время (переводы отрывков из романов Н. Саррот, А. Роб-Грийе и М. Бютора в статье С. Великовского обозначены как «литературные иллюстрации»), то последователи «новых романистов» – экспериментаторы «новейшего романа» – для советской критики не переводимы в принципе, ибо слишком радикальны, слишком экспериментальны, слишком «дегуманизированы».
Интерес данной статьи, продолжающей серию публикаций о рецепции «нового романа» в СССР, сосредоточен главным образом на стратегиях легитимации новой формы и поисках ответа на вопрос о том, как «новый роман» «приживается» в советском литературоведении, почему публикации переводов и критических статей в принципе становится возможным – при общем негативном отношении к явлению.
Стоит отметить, что немаловажную роль в рецепции «новых романистов» играют журналы, в которых публикуется та или иная критическая заметка. Так, в «Вопросах литературы» статьи более хлесткие, памфлетные, а суждения – резкие, в то же время в «Иностранной литературе» критические обзоры тяготеют к пояснительному нейтральному тону. Вероятно, разделение критических стилей на более и менее агрессивные связано с характером самого журнала, его центральной или периферийной позицией, направленности вовне (внешний читатель) или вовнутрь (внутренний читатель).
В данной статье, на примере публикаций советских исследователей о «новом романе» в журналах «Вопросы литературы» и «Иностранная литература», будет показано, как меняется рецепция новой формы в СССР, как постепенно новые имена встраиваются в советскую историю французской литературы и как разные подходы к «новому роману» в двух журналах позволяют судить о разных целях и разных адресатах журнальных публикаций в СССР.
Рецепция «нового романа»: поиск зазора
Признание «нового романа» советским литературоведением происходит постепенно. Несомненно, важную роль здесь играют новомодные французские течения – структурализм и «новый новый роман», прозванные критиками «леворадикальным экстремизмом». На фоне «генерирующих текстов» и «текстов-сообщений» произведения Саррот и Бютора выглядит крайне притягательно. А вот Роб-Грийе, как ранее отмечалось, критиками не признается, поскольку сам уходит в «литературный анархизм». Однако сравнение с «новейшим романом» происходит в 1970-е гг., попытки же признать законность нового течения возникают уже в 1960-е гг.
Каждый «новый романист» определяется критиками через уникальный метод построения текста, ибо «новый роман» не воспринимается как что-то цельное в своей программе (если не считать «дегуманизацию» повествования программой), а следовательно, он не сводим к набору тем и впечатлений. Саррот становится в статьях поборницей «сверхпсихологического реализма», Роб-Грийе – адептом позитивистского «вещизма», Бютор – метафизиком частной души. Определение «нового романа» через метод – общее место также для французского литературоведения, находками которого советские критики вдохновляются (например, марксистским анализом Андре Соважа и Эдуарда Лопа в № 4 «Вопросов литературы», 1962 г.).
При этом интересными кажутся стратегии, которые позволяют ввести романы в советское критическое поле. Основная критика «нового романа» распределяется по нескольким осям: сложность читательской рецепции, разрушение романной структуры и отказ от ангажированной (в ранних статьях – «завербованной») репрезентации реальности. И по этим же осям выстраивается риторика оправдания.
Проще всего воспринимается Бютор, в романах которого усматривается социальная проблематика и продуманная структура. Интерес писателя – в сфере взаимодействия «индивида и группы», цель его – «течением «обычных» обстоятельств [раскрыть] душ[у] героя». Советские критики считают Бютора наиболее социально вовлеченным, наиболее сознательным из всех «неороманистов» (метод его «счастливо отличается и от холодного пессимизма Алена Роб-Грийе, и от смущения Натали Саррот «реальностью»» [Балашова 1963]) – вместе с тем еще и наиболее успешным (так как наиболее понятным для читателя) [Ваксмахер 1966].Технология Бютора – «сложнее и многограннее», а новаторские приемы (например, повествование на «ты» в романе «Изменение») не столь радикальны, чтобы испортить общее впечатление от текста (в послесловии к переводу в «Иностранной литературе». Мотылева Т. говорит о «гипнотическом» влиянии этой техники на читателя, эмпатическом вовлечении в судьбу героя [Мотылева 1970]). Вероятно, хвалебная статья Балашовой Т. из № 12 «Вопросов литературы» (1963) позволила создать фон, благоприятный для последующей рецепции и перевода данного романа. Парадоксальным образом Бютор в советской рецепции становится ангажированным писателем.
Саррот же становится писательницей, обличающей мещанство. Хотя ее и обвиняют в излишней психологизации («ультрапсихологизм»), доходящей до психологической абстракции, схожей с геометрической абстракцией Роб-Грийе, все же ее техника «подразговора» позволяет показать узость мещанского мира; «тропизмы» же «убедительнее, чем любое социологическое исследование, обнажают кризис цивилизации, требующий – в том числе от читателя романа – своего разрешения. Улучшает образ Саррот и ее последующее столкновение с Роб-Грийе, обвинившим писательницу в «репрезентативной ереси» [Зонина 1974], в использовании материала действительности для конструирования содержания романа. Иными словами, Саррот становится в глазах критиков исследователем, «инженером» души, правда, рискующим стать и «фальсификатором», если продолжит упорствовать в своей «специализации». Дальнейшие романы только подкрепляют сложившееся мнение: если публикация «Золотых плодов» оправдывается в статьях «критикой мещанства» [Т.К.
1967], то роман «Вы их слышите?» и вовсе подхватывает излюбленную русской классикой тему отцов и детей, а главный персонаж обретает «вопреки всему личность на страницах романа» [Канторович 1972]. Публикация романа «Детство» окончательно закрепляет за Саррот образ писателя-психолога, а Андреев Г. в 1980-е гг. даже позволяет себе назвать ее самой радикальной из всей группы (хотя ранее роль экстремиста доставалась разве что Роб-Грийе), и данная оценка критика является явно положительной (обстоятельный анализ рецепции романов Н. Саррот в СССР дает Евгения Молкова [Molkova 2023]).
Анализируя творчество «неороманистов», исследователи как будто ищут зазор в безупречной теории и методе, дабы оправдать «новый роман», подготовить его рецепцию широкой публикой, не забывая схлестнуть новые воззрения с марксистским подходом и с мыслями о соцреализме – необходимость критики новой школы оправдана радикальным (даже для французов) характером изучаемых текстов. Но кажется, будто статьи в «Вопросах литературы» и в «Иностранной литературе» отличаются внутренним накалом, принятой исследователями позой, особым для каждого журнала тоном, словно у них разные адресаты и разные цели.
Особенности рецепции: между внешним и внутренним читателем
Сравнение статей в журналах «Вопросы литературы» и в «Иностранная литература» позволяет выявить некоторые закономерности в отражении «нового романа», связанные, по всей видимости, с особенностями анализируемых журналов. При общем критическом настрое исследователей статьи в «Вопросах литературы» кажутся более хлесткими и ироничными, напоминающими памфлет. Именно здесь советские критики позволяют себе яркие сравнения (медицинская сфера – «неоперабельные» размышления и «мутации» романного жанра, авангардистское «косноязычие», «бесплодие» лабораторной прозы; религиозная сфера – «еретики», «собор» французского авангарда, «священные структуралистские тексты», «апостолы «нового романа»», «инквизитор» (о Роб-Грийе); встречается и макабрическое – «могильщики романа»), резкие суждения («взгляд читателя неумолимо прикован к художественным «лесам»», «измельчение авторского идеала», «но упорно играют на одной струне представители школы «нового романа»»; «экстремизм антикультуры»; «окостенение жанра «нового романа»»; условно научная сфера – «духовная алгебра», «а-литература», «аннигиляция», «антипод коммерческого стиля»; «культурно-исторический процесс, что стоит за спиной всех «авангардистских» философско-литературных школ и школок») и категоричные заявления («Конечно, в нашем литературоведении такие суждения невозможны»; «Очевидно, что эта упрощенная модель вовсе не соответствовала сложному опыту прозы XIX века, особенно русской (Толстой, Достоевский, Чехов)»; «По сравнению с этим бредом – благородные попытки прогрессивной литературы, а именно попытки большого идейного осмысления действительности, идущие в плане развития лучших реалистических традиций»).
В «Вопросах литературы» явно прослеживаются оппозиции свой / чужой и правильный / неправильный, что наводит на мысль о внешнем адресате, противопоставленном советскому обществу. В «Иностранной литературе» статьи нейтральные, обобщающие и поясняющие (жанр послесловий или предисловий к переводам нацелен на объяснение метода и знакомство с авторами). Без- условно, они не лишены метафор и оценок («а-литература» – и порожденные по той же модели «а-творчество», «а-читатель»; или же внедрение в статью медицинских терминов – «оздоровление» литературы, «экспериментальные лаборатории» для «излечения» больного, «стерилизация» художественного творчества), но в них отсутствует явная оппозиция мы / они, что свидетельствует о камерном характере критики, написанной для своего, внутреннего читателя.
Таким образом, нацеленность на разного читателя позволяет называть «Вопросы литературы» журналом открытой формы, а «Иностранную литературу» – журналом закрытой формы [Diaz 2009, 2010]. Разделение журналов на открытый и закрытый тип в социокритике напрямую зависит от характера групп, их издающих: чаще всего журнал закрытого типа нацелен на «своих», на камерность, непроницаемость для других; открытый же тип подразумевает размытые границы, широкую публику, возможность трансляции мыслей группы за пределы привычного ей поля.
Так, «Вопросы литературы» можно воспринимать как трибуну официальной мысли, передающей позицию советских исследователей зарубежной литературы. Именно здесь печатаются отчеты о круглых столах, о визитах иностранных писателей в СССР; здесь публикуются критические разборы зарубежных литературоведческих трудов, здесь же разбираются основные новые течения зарубежной литературы. Реакция чаще всего касается официально признанных произведений – получивших премии, удостоенных пространных статей в известных изданиях типа «L’Europe», ставшие частью литературной жизни Франции, – и свидетельствует о желании включиться в общие дебаты, вписаться в общее поле литературоведческой критики и противопоставить новой критике достойную идеологическую и аналитическую базу. «Иностранная литература» – журнал камерный, направленный на внутренний рынок и на внутреннего читателя, подобный антологиям и сборникам, нацеленным на знакомство читателя с внешней литературной жизнью. Потому статьи кажутся скорее поясняющими и иллюстрирующими, нежели полемическими, поскольку перед авторами не стоит задачи отстоять свою точку зрения.
Например, один и тот же критик может писать статьи разной тональности, в зависимости от публики: Л. Зонина и С. Великовский будут резче в суждениях в своих статьях в «Вопросах литературы» и менее резкими в «Иностранной литературе». Наблюдение это как будто подхватывает размышления критиков, осмысляющих свой советский опыт позже, в постсоветском пространстве: так, весь опыт критического мышления в зарубежном литературоведении С. Великовский называет «подменным иноговорением» [Великовский 1999, 665], когда слово «реализм», например, подразумевало «гуманистическую направленность» и пр. Деление журналов на «внешние» и «внутренние» позволяет подчеркнуть, как «иноговорение» функционировало на разных уровнях и какие нюансы приобретало, в зависимости от адресата.
***
Советские литературоведы сразу обращают внимание на французский «новый роман», но принимают его нововведения постепенно, пытаются апробировать на новых текстах свои методы анализа, словно настраивают оптику. Разбор критических статей показывает, как одни аргументы сменяются другими, как крайне негативное отношение сменяется примирительно-при-нимающим и как усложняется критический аппарат исследователей, словно советские ученые перенимают методы зарубежных коллег. Усложнение крити- ческого дискурса в статьях о «новом романе» и параллельная рецепция идей структуралистской и постструктуралистской школ (так, в одной из работ романы Франсуазы Саган анализируются в терминах, взятых из «Мифологий» Р. Барта) делает возможным предположение о трансформации советского критического аппарата под влиянием французской «новой критики», дающей ключи к дешифровке и пониманию «нового романа».
«Новая критика» делает возможным обновление и изменение советского литературоведческого метода, пребывающего в кризисе в 1960 – 1970е гг., и влияние, пусть и неявное, новой французской критической школы представляется возможной альтернативой в поисках новых техник и методов анализа. Именно данное влияние стоит, как нам кажется, изучить подробнее в последующих публикациях, посвященных рецепции «нового романа» в СССР.
Список литературы Рецепция французского "нового романа" в СССР в 1950-1970-х гг.: признание новой формы и роль журналов "Вопросы литературы" и "Иностранная литература"
- Балашова Т.В. Споры о «новом романе» // Вопросы литературы. 1963. № 12. C. 96112.
- Ваксмахер М. Человек и история (Заметки о современном французском романе) // Вопросы литературы. 1966. № 5. C. 124-146.
- Великовский С.И. Умозрение и словесность: Очерки французской культуры. М., СПб.: Университетская книга, 1999. 710 с.
- Зонина Л. А. Марксистский анализ «нового романа» // Вопросы литературы. 1962. № 4. C. 131-136.
- Зонина Л.А. «Новый роман»: вчера, сегодня // Вопросы литературы. 1974. № 11. C. 69-104.
- Канторович М. Снова отцы и дети // Иностранная литература. 1972. № 10. С. 271273.
- Капустин М. Критика буржуазной эстетики // Вопросы литературы. 1964. № 5. C.210-212.
- Матвеев В. 60-е годы в литературах мира // Вопросы литературы. 1971. № 6. C. 182190.
- Машинский С. О романе вообще и современном романе в частности // Вопросы литературы. 1971. № 8. C. 105-111.
- Мотылева Т. Что же изменилось? // Иностранная литература. 1970. № 9. С. 101-102.
- Плоткин Л. Обобщая опыт... // Вопросы литературы. 1964. № 9. C. 18-34.
- Т.К. Сторонники и противники (Мишель Бютор и Арман Лану в «Иностранной литературе») // Иностранная литература. 1967. № 4. С. 254-257
- Diaz J.-L. Les sociabilités littéraires autour de 1830: le rôle de la presse et de la littérature panoramique // Revue d'Histoire littéraire de la France. 2010. № 3. P. 521-546.
- Diaz J.-L. Sociabilités littéraires vs «socialité» de la littérature // Romantisme. 2009. № 1. T. 143. P. 47-61.
- Molkova E. La réception de l'œuvre sarrautienne par la critique soviétique et russe // Nathalie Sarraute aujourd'hui. Les impensés d'une écriture / A. Jefferson (Ed.). Paris: Hermann, 2023. P. 6574.