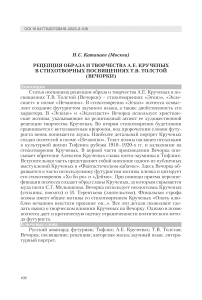Рецепция образа и творчества А.Е. Крученых в стихотворных посвящениях Т.В. Толстой (вечорки)
Автор: Катанаев Н.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рецепции образа и творчества А.Е. Крученых в посвящениях Т.В. Толстой (Вечорки) - стихотворениях «Эскиз», «Эклесиаст» и поэме «Нечаянно». В стихотворении «Эскиз» поэтесса осмысляет создание футуристом заумного языка, а также двойственность его характера. В «Эскизе» и «Эклесиасте» Вечорка использует христианские мотивы, указывающие на религиозный аспект ее художественной рецепции творчества Крученых. Во втором стихотворении будетлянин сравнивается с ветхозаветным пророком, под пророческим словом футуриста вновь понимается заумь. Наиболее детальный портрет Крученых создан поэтессой в поэме «Нечаянно». Текст поэмы насыщен отсылками к культурной жизни Тифлиса рубежа 1910-1920-х гг. и аллюзиями на стихотворения Крученых. В первой части произведения Вечорка описывает обретение Алексеем Крученых славы поэта-заумника в Тифлисе. Вступительная часть представляет собой описание одного из публичных выступлений Крученых в «Фантастическом кабачке». Здесь Вечорка обращается к часто используемому футуристом мотивы плевка и цитирует его стихотворения «Хо бо ро» и «Деймо». При помощи приема персонификации поэтесса создает образ славы Крученых, за которым скрывается муза поэта С.Г. Мельникова. Вечорка использует неологизмы Крученых (стихины, поюзги) и И. Терентьева (зиятельство). Финальная строфа поэмы имеет общие мотивы со стихотворением Крученых «Опять влюблен нечаянно некстати произнес он.». Все эти детали позволяют сделать вывод о творческом влиянии Крученых на Вечорку. Однако в поэме поэтесса дает и критическую оценку ограниченности поэтического метода футуриста.
Русский авангард, футуризм, тифлис, а.е. крученых, т.в. толстая, вечорка, посвящение, рецепция, авторская маска, заумный язык, литературный портрет
Короткий адрес: https://sciup.org/149143528
IDR: 149143528 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-108
Текст научной статьи Рецепция образа и творчества А.Е. Крученых в стихотворных посвящениях Т.В. Толстой (вечорки)
Russian avant-garde futurism; Tiflis; Aleksey Kruchenykh; Tatiana Tolstaya; Vechorka; dedication; reception; author’s mask; zaum; literary portrait.
Творчество А.Е. Крученых (1886–1968) и сама личность будетляни-на, создателя заумного языка и собирателя редких книг и рукописных материалов, ставили перед поэтами-современниками вопросы о границах и сущности таких понятий, как поэзия и поэт. Среди множества стихотворений, посвященных Крученых, отдельную группу составили тексты рубежа 1910–1920-х гг. В эти годы были написаны стихотворения Вели-мира Хлебникова («Алеше Крученых», «Кто-то дикий, кто-то шалый…» и Замороженный Озирис»), а также посвящение Игоря Терентьева
(«Зудесник»). Одними из наиболее ранних текстов, посвященных Крученых, можно считать стихотворения Т.В. Толстой (Вечорки) (1892–1965), которые, однако, до сих пор подробно не рассматривались в рамках литературоведческих исследований. Анализ данных посвящений позволит получить представление о восприятии Вечоркой образа Крученых и его поэзии в конце 1910-х гг., а также оценить степень творческого влияния футуриста на молодую поэтессу.
Знакомство Крученых и Вечорки состоялось в Тифлисе в 1918 г. За несколько лет до этого, в начале 1915 г., А.Е. Крученых уехал из Москвы на Кавказ. Проработав около года учителем рисования в женской гимназии Баталпашинской станицы, он был призван на военную службу в качестве чертежника для строительства Эрзерумской военной железной дороги в Сарыкамыше. В окрестностях Сарыкамыша в тот период не только велись ожесточенные бои, но и пытались найти убежище армянские беженцы. По дороге в прифронтовую зону Крученых впервые остановился в относительно спокойном Тифлисе [Циглер 1982, 232].
В период Гражданской войны на Кавказе и, в частности, в Тифлисе нашли убежище многие русские поэты: С.М. Городецкий, В.В. Каменский, О.Э. Мандельштам и другие. Крученых, обосновавшийся в Тифлисе в 1917 г., и братья Зданевичи были первыми представителями русского футуризма на Кавказе. На рубеже 1917–1918 гг. они организовали «Синдикат футуристов», который впоследствии перерос в группу «41°». Свои произведения и доклады участники группы читали в поэтической студии «Фантастический кабачок». Крученых был одним из лидеров собраний творческой молодежи в этой студии. Об этом упоминается во многих стихотворениях, описывающих атмосферу кабачка, например, у А. Порошина и Н.Н. Васильевой, приведенных в монографии Т.Л. Никольской «“Фантастический город”. Русская культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921)», самом значительном исследовании культурной жизни Тифлиса рубежа 1910–1920-х гг. [Никольская 2000, 63–69].
В «Фантастическом кабачке» собирались и другие поэтические группы, например, в первой половине 1918 г. там проходили вечера «дружества» «Альфа-Лира», основанного Т.В. Ефимовой (Вечоркой) [Никольская 2002, 90]. В период с 1913 по 1917 гг. поэтесса жила в Петрограде, где общалась с А.А. Ахматовой, А.А. Блоком, М.А. Кузьминым, публиковалась в либерально-патриотическом журнале «Лукоморье», там она и взяла псевдоним Вечорка. Бывала она и в «Бродячей собаке», а значит, имела представление о футуризме. Но все же раннее творчество Вечорки сформировалось под влиянием идей позднего символизма и акмеизма. Однако в конце 1910-х гг. в результате тесного общения и сотрудничества с Алексеем Крученых Вечорка обратилась к футуристической поэтике.
Творческое сотрудничество Крученых и Вечорки началось практически сразу после знакомства и продолжалось вплоть до 1930-х гг. Первым его результатом был сборник 1920 г. «Мир и остальное» (третьим автором выступил Хлебников). В сборник «Записная книжка Велимира Хлебникова» (1925) Крученых включил статью Вечорки. В ней поэтесса описыва- ет, как в 1921 г. в Баку она, Крученых, Вяч. Иванов, С. Городецкий поддерживали Хлебникова, боготворя его творчество. Однако Вечорка подчеркивает, что «русским футуризмом для кавказцев был Крученых» [Вечорка 1923, 27]. Ее статья «Слюни черного гения» (1920–1922), посвященная Крученых, была включена будетлянином в сборник «Бука русской литературы» (1923).
Крученых и Вечорка посвящали друг другу стихотворения. Стихотворения Вечорки «Эскиз» и «Эклесиаст» вошли в ее сборники «Магнолии» 1918 г. и «Соблазн афиш» 1920 г., а поэма «Нечаянно» – в сборник Крученых «Замауль» 1921 г. (в самом сборнике название написано с одной н – «Нечаяно»). Крученых, в свою очередь, посвятил поэтессе сборник «Цветистые торцы» (1919) и стихотворения «С чисто бумажно-женским терпением…», «Татьяне Вечорке», «Вечорки тень накладывает лапу…». Личное общение и дружба между Крученых и Вечоркой продолжались вплоть до последних лет жизни поэтессы, умершей в 1965 г. Например, свой день рождения в 1963 г. Крученых отмечал в доме Лидии Лебединской, дочери Вечорки. На этом вечере поэты вместе с Анной Ахматовой «вспоминали времена “Бродячей собаки”» [Тименчик 2014, 488].
Название стихотворения «Эскиз», первого из посвященных Крученых, подчеркивает, что в нем представлена лишь первая попытка создать образ Крученых, подобрать наиболее верную точку зрения для его описания. Вечорка пытается не создать детальный потрет будетлянина, а передать свои впечатления.
Лирический герой стихотворения пытается добиться от Бога и мудрецов слова, которое могло бы «выразить неистовый исход» [Толстая 1918, 22]. Однако ответа он получить не может. Видится, что за образом вопрошающего скрывается Крученых, который утверждал невозможность выражения всей полноты чувств имеющимися словами. В результате футуристом был создан заумный язык, который он определял как «язык личный (творец индивидуален) <…> не имеющий определенного значения (не застывший)» [Крученых 2006, 287]. Заумь и есть та «звонкая монета», которую герой швыряет толпе.
В «Эскизе» Вечорка дает лирическому герою полярные оценки. С одной стороны, ему свойственна почти святая возвышенность: он сравнивается с юродивым и назван бессребреником. С другой стороны, он же назван шакалом и иезуитом , что, бесспорно, имеет негативную коннотацию. Видится, что Вечорка определяла сочетание противоположностей, высокого и низкого, как основную черту характера Крученых. Эту двойственность поэтесса усматривает и в отношении футуриста к классической поэзии, которая скрывается за полярными образами «скелетов» и «мощей», однако и те и другие лирический герой уничтожает в попытке найти ответ на свой вопрос.
Религиозно-христианскими элементами, которые встречаются и в «Эскизе» (создание Богом слова, юродство лирического героя, сравнение его с иезуитом), в большей мере насыщено второе стихотворение – «Экле-сиаст». Данное произведение завершает сборник «Соблазн афиш» 1920 г., предлагавший галерею литературных портретов, а значит, имело для Ве-чорки большое значение.
Краткий анализ стихотворения «Эклесиаст» представлен в статье Т.Л. Никольской «Творческий путь Татьяны Вечорки» (2002). Исследователь делает акцент на формальных особенностях текста: использовании архаизованных прилагательных эпитетов, звукописи и аллитерации, а также нетрадиционной рифмовки. Никольская справедливо указывает на то, что в стихотворении Вечорка «пытается постигнуть внутренний мир создателя заумного языка» [Никольская 2002, 94-95].
При этом содержание стихотворения представляет не меньший интерес, чем его форма. Исходя из названия, можно предположить, что лирический герой, прототипом которого был Крученых, сравнивается Вечоркой с автором самой печальной книги Ветхого Завета. Характерной особенностью книги Екклесиаста принято считать фаталистический образ мыслей ее автора. Вечный круговорот вселенной и человека Екклесиаст называет «суетой». Подобные размышления присутствуют и в стихотворении Ве-чорки: «Остановится солнце. Ослепнет луна…» [Толстая 1920, 16] и т.д. Однако «очищенный» человек все равно «восстает» и желает услышать некое пророчество. Под пророчеством может пониматься буквально слово пророка. Однако, если допустить используемое Вечоркой возвышенное сравнение Крученых с пророком, то пророчеством может быть заумное, новое слово футуриста. Добавим, что в стихотворении, как и в книге Екклесиаста, присутствует мотив разочарования в мудрости. Она сравнивается с ржавчиной, которая в Библии, в книге пророка Иезекииля служит метафорой порока и нечестия [Толстая 1920, 16]. Отказ от рациональности и мудрости прослеживается и в идее заумного языка.
На наш взгляд, наибольший интерес представляет посвященная Крученых поэма «Нечаянно» с подзаголовком «Жизнь А. Крученых». Поэма разделена на три части. С учетом литературного контекста, в первую очередь, поэтического творчества самого Крученых, поэма действительно обретает черты биографического жанра. Каждая из трех частей посвящена определенному периоду творческой биографии футуриста.
В первой части поэмы Вечорка описывает обретение Алексеем Крученых славы поэта-заумника в Тифлисе. Вступительная часть представляет собой описание, вероятно, одного из публичных выступлений Крученых в «Фантастическом кабачке». При этом поэтесса в каждой строке приводит отсылки либо на стихотворения Крученых, либо на явления творческой жизни города конца 1910-х гг. О том, что действие происходит в Тифлисе и, конкретнее, в «Фантастическом кабачке», мы узнаем из первых трех строк: «Выдернув перо // Из фонтана зеленой шляпы // Божественной гусарки» [Толстая 2007, 158]. Ссылаясь на мемуары Н.А. Макашвили, жены поэта Т.Ю. Табидзе, участника группы «Голубые Роги» и одного из наиболее активных деятелей грузинского авангарда, Т.Л. Никольская полагает, что речь здесь может идти о музе футуристов – грузинской актрисе В.И. Анджапаридзе, приходившей в «Фантастический кабачок» «в закрытой зеленой кофте и в шляпе с зеленым пером» [Никольская 1990, 592].
Далее Татьяна Вечорка описывает собственно чтение стихов футуристом: «Слюною вместо чернил, // Обругался публично» [Толстая 2007, 158], – и цитирует его заумные стихотворения. Мотив «слюны» регулярно использовал сам Крученых (стихотворения «Я плюнул смело на ретивых…», «Зудивец» и проч.). Вероятно, этот мотив имеет в виду поэтесса, сравнивая чтение стихов Крученых с руганью. Здесь также стоит вспомнить, что написанная позднее статья Вечорки о Крученых получила название «Слюни черного гения».
Цитируемые же заумные строки в поэме «Нечаянно» взяты Вечоркой из стихотворений «Хо бо ро» и «Деймо». Первое вошло в сборник «Учитесь худоги» 1917 г. и со временем стало визитной карточкой Крученых, сравнимой разве что с «Дыр бул щыл». Стихотворение «Деймо» 1913 г., вошедшее в сборник «Возропщем», судя по названию, было написано в одно время с «Победой над солнцем» и, вероятно, исполнялось автором именно в силу того, что было связано со знаменитой оперой.
В конце первой части Вечорка делает вывод, что именно «в этот день ему подмигнула слава // в цветущем трико!..» [Толстая 2007, 158], взаимоотношениям Крученых с персонифицированной славою посвящена вторая часть поэмы. Свою славу футурист называет Музкой. Этим уменьшительно-ласкательным прозвищем будетлянин называл актрису тифлисского Театра миниатюр С.Г. Мельникову, также выступавшую в «Фантастическом кабачке» с чтением футуристических стихотворений, в том числе и самого Крученых. В 1919 г. участниками группы «41°» и близкими к ней поэтами был выпущен сборник, посвященный Мельниковой. Там были в том числе и стихотворения Вечорки и Крученых. Раздел стихотворений последнего был назван именно «Музкой», в него было включены стихотворения «Я поставщик слюны аппетит на 30 стран...» [Курсив наш – Н.К. ] и «Я прожарил свои мозг на железном пруте…», в которых есть обращение к «Музке» [Софии Георгиевне Мельниковой… 1919, 101, 104]. Первое из названных стихотворений Вечорка впоследствии цитировала в статье «Слюни черного гения». Оно иллюстрирует тезис Вечорки об утверждении Крученых нового отношения к музам: «Не поэт должен служить девяти сестрам, а наоборот, Музы поэту должны завязывать башмак» [Жив Крученых! 1925, 26].
Далее в поэме описываются отношения лирического героя и Музки. Заумник приводит ее на диспуты, «всучив ей морковку // и позолотив нос» [Толстая 2007, 158]. Речь, конечно, идет о многочисленных собраниях футуристов, куда они приходили с раскрашенными лицами и цветком или морковкой в петлице. В контексте группы «41°» нельзя не вспомнить манифест М. Ларионова и И. Зданевича «Почему мы раскрашиваемся» (1913). Используемое Вечоркой олицетворение сбивает читателя с толку, заставляя по-новому прочитать последние строки первой части. Окончательно нельзя сказать, о ком идет речь: о славе или о Мельниковой как живой персонификации славы. «Цветущее трико» может быть намеком на работу Мельниковой в Петроградском театре «Фарс», а также несерьезные сценки и интермедии, разыгрываемые ею в «Фантастическом кабачке» [Никольская 1990, 590, 593].
В этой же части Вечорка называет Крученых «приват-доцентом по женской красоте и прямым челюстям» [Толстая 2007, 158]. Здесь содержится очередная аллюзия на культурную жизнь Тифлиса, которую разнообразил Крученых по своем приезде. В 1917 г. в здании тифлисской консерватории он прочел лекцию «О женской красоте».
Следующая строка поэмы содержит сразу две отсылки к творчеству Крученых: «Кормил ее стихинами корморана» [Толстая 2007, 158]. «Сти-хины» – неологизм Крученых, обозначающий стихи и созвучный названию яда «стрихнин». Однако отметим, что в стихотворениях футуриста это слово появляется позже (например, в сборнике «Зудесник» и альбоме «ззЗУДО» 1922 г.). Тем не менее, мы склонны полагать, что Вечорка в поэме все-таки использует неологизм своего старшего товарища. На это указывает слово «корморан». Корморан – другое название птицы большой баклан (lat. Phalacrocorax carbo), помет которой является ядовитым и губит растения в местах гнездования. Все в том же сборнике, посвященном Мельниковой, будетлянин публикует цикл стихотворений о «Яде Кормо-ране». Впоследствии Крученых поместит данный цикл и в сборник «Мир и остальное». Соответственно, герой поэмы «кормит» Музку ядом своих стихотворений.
Сюжет второй части поэмы оканчивается тем, что Музка становится больше самого Крученых. Действительно, в определенный момент изобретенная футуристом заумь стала популярнее его самого. В «Автобиографии дичайшего» поэт сам отмечал, что строка «Дыр бул щыл» стала «гораздо известнее меня самого» [Крученых 1928, 59]. Зависимость Крученых от собственного имиджа поэта-заумника Вечорка передает с помощью очередного олицетворения с элементом гиперболы: «И потом, как здоровенная няня // С кастрюлей, // Посадила к себе на ладонь…» [Толстая 2007, 158].
Третья, последняя, часть поэмы, в свою очередь, состоит из двух строф. В первой рассказано о том, как Крученых заскучал от собственной славы. Начало этой строфы, подобно двум предыдущим частям, насыщенно аллюзиями на творчество Крученых. В первой строфе используется очередной неологизм футуриста «поюзги», тоже обозначающий стихи. Однако, как и в случае со «стихинами», в печатной поэзии самого будетлянина это слово появится позже, в стихотворении «И будет жужжать зафрахтованный аэроплан…», вошедшем в сборник «Зудесник» (1922). В этот же сборник будет включено и стихотворение Игоря Терентьева «О зудесни-ке». В первой строке этого стихотворения Терентьев называет Крученых «Его зиятельством». В поэме же Вечорки упоминается, что Крученых уже получил этот титул в 1919 г. Таким образом, вновь встает вопрос либо об авторстве неологизма, либо о датировке стихотворения Терентьева.
Упомянутый титул Крученых в поэме получает не только за «поюзги», но и за «прожаренные мозги» [Толстая 2007, 159]. Здесь, судя по всему, поэтесса вновь отсылает читателя к сборнику, посвященному С.Г. Мельниковой, а именно – к стихотворению «Я прожарил свой мозг на железном пруте…» [Софии Георгиевне Мельниковой… 1919, 104].
В продолжении поэмы Татьяна Вечорка не использует неологизмы Крученых и открытые аллюзии на его творчество. Это объясняется содержанием текста: лирический герой заскучал от собственной славы за-умника, «надзирательницы», названной «надоевшей, // Как замусоленная туристами // Статуя Свободы // В Нью-Йорке» [Толстая 2007, 159]. Соответственно, использование приемов, принесших будетлянину эту славу, видится здесь нецелесообразным.
Наиболее затруднительной для анализа предстает последняя строфа поэмы, описывающая попытку лирического героя скрыться от собственной славы. Для этого ему «для публики, // Пришлось нечаянно удавиться, Завязывая шнурки // Полусапожек, // А самому уползти // В заумный ящик // И гулять по проспекту // Только в дождь» [Толстая 2007, 159]. Как и в первой строфе третьей части, здесь, на первый взгляд, нет аллюзий на творчество Крученых. Однако данная часть сюжета имеет общие мотивы со стихотворением «Опять влюблен нечаянно некстати произнес он…». Во-первых, лирические герои обоих произведений скрываются от окружающего мира: в поэме – от славы; в стихотворении – от женщины. Скрывшись, они начинают заниматься творчеством; например, в стихотворении Крученых: «Я спрятался от солнцев, чтоб не сглазили и // увлекся таки своими бумагами…» [Крученых 1913, 5]. При этом в стихотворении добровольное изгнание тоже называется «ящиком» [Крученых 1913, 6]. Допускаем, что «заумный ящик» может быть метафорическим описаем «Фантастического кабачка», помещавшегося в помещении бывшей столярной мастерской: «Это была длинная узкая комната с низкими потолками и неглубокими нишами, расписанными футуристической живописью» [Никольская 1990, 592].
Второй мотив, встречающийся в обоих текстах, – удушение. В поэме «Нечаянно», как было процитировано выше, лирический герой подстраивает собственное удушение «шнурками полусапожек». В стихотворении Крученых герой, размышляя о причине плохого самочувствия, допускает, что его «душил ночью спрятаные под тюфяк сапоги» [Крученых 1913, 5] (Орфография сохранена).
Стоит упомянуть и то, что в этом стихотворении Крученых использует излюбленный мотив слюны, о рецепции которого уже было сказано выше, а также то, что стихотворение вошло в сборник «Возропщем» (1913) и следует сразу за стихотворением «Деймо», которое цитировалось в первой части поэмы. Наконец, отметим то, что в названиях обоих текстов встречается слово «нечаянно».
Итак, стихотворения и поэма Татьяны Вечорки, посвященные Алексею Крученых, указывают на определенное творческое влияние футуриста на поэтессу в конце 1910-х гг. Это влияние определяет и наличие в ее стихотворениях рецепции самопрезентативных образов футуриста: новатора-создателя заумного языка, дикаря и душевнобольного, пророка. Однако Татьяна Вечорка сохранила независимую, самодостаточную позицию в отношении и футуризма, и его пропагандиста, указывая на ограниченность его творческой деятельности. Независимость Вечорки объясняется тем, что самые ранние стихотворения, включенные в сборник «Магнолии», датированы 1915 г., то есть были написаны задолго до знакомства с Крученых. Конечно, он познакомил Вечорку, как и других поэтов Тифлиса, с радикальным футуризмом, стал их проводником в авангард, но ее собственная творческая биография началась значительно раньше. Безусловно, Крученых вызывал творческий интерес Вечорки, но ее наставником и поэтическим ориентиром он так и не стал.
Список литературы Рецепция образа и творчества А.Е. Крученых в стихотворных посвящениях Т.В. Толстой (вечорки)
- Вечорка Т. Воспоминания о Хлебникове // Записная книжка Велимира Хлебникова / сост., примеч. А. Крученых; обл. В. Кулагиной-Клуцис. М.: Всероссийский союз поэтов, 1923. С. 21–30.
- Жив Крученых!: сб. ст. / обл. Г. Клуциса. М.: Изд-е Всероссийского союза поэтов, 1925. 44 с.
- Крученых А.Е. 15 лет русского футуризма 1912–1927 гг. М.: Изд-е Всероссийского союза поэтов, 1928. 67 с.
- Крученых А.Е. Возропщем / рис. Розановой и Малевича. СПб.: Тип. т-ва «Свет», 1913. 12 с.
- Крученых А.Е. К истории русского футуризма. Воспоминания и документы. М.: Гилея, 2006. 496 с.
- Никольская Т.Л. Муза футуристов // Ново-Басманная, 19. М.: Худож. лит., 1990. С. 590–598.
- Никольская Т.Л. Творческий путь Татьяны Вечорки // Авангард и окрестности. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. С. 89–97.
- Никольская Т.Л. «Фантастический город». Русская культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921). М.: Пятая страна, 2000. 192 с.
- Софии Георгиевне Мельниковой. Фантастический кабачек: сб. Тифлис: 41°, 1919. 192 с.
- Тименчик Р.Д. Последний поэт. Анна Ахматова в 1960-е годы. Т. 2: Сноски и выноски. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2014. 632 с.
- Толстая Т.В. Магнолии: Стихи. Тифлис: Кольчуга, 1918. 27 с.
- Толстая Т.В. Портреты без ретуши: стихотворения, статьи, дневниковые записи, воспоминания / вступ. ст., публ., подгот. текста к воспоминаниям и автобиографии, коммент. и примеч. А.Е. Парниса; сост. и подгот. текста Н.А. Громовой, Т.А. Тепляковой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. 318 с.
- Толстая Т.В. Соблазн афиш: Третья книга стихов. Баку: [Б. и.], 1920. 16 с.
- Циглер Р. Поэтика А.Е. Крученых поры «41°». Уровень звука // L’avanguardia a Tiflis. Venezia: Venezia: Università degli Studi di Venezia, 1982. С. 231–258. (Quaderni del Seminario di Iranistica, Uralo-Altaistica e Caucasologia dell’Università degli Studi di Venezia, 13).