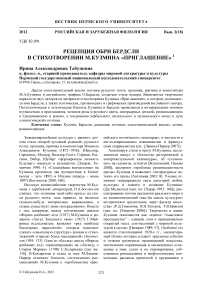Рецепция Обри Бердсли в стихотворении М.Кузмина «Приглашение»
Автор: Табункина Ирина Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Дается сопоставительный анализ поэтики русского поэта, прозаика, критика и композитора М.А.Кузмина и английского графика О.Бердсли, создателя стиля модерн. Выявляются творческие параллели двух авторов на материале стихотворения Кузмина «Приглашение», в котором упоминается имя Бердсли, а также поэтических, прозаических и графических произведений английского автора. Поэтологическая и эстетическая близость Кузмина и Бердсли проявляется в интерпретации мотивов путешествия и приглашения, мотивов розы и розового цвета, интерьерных деталей, реминисценциях к Средневековью и рококо, в соединении вербального, визуального и музыкального начал в духе «синтетической» поэтики.
Кузмин, бердсли, рецепция, поэтика, сопоставительный анализ, мотив, реминисценция
Короткий адрес: https://sciup.org/14729103
IDR: 14729103 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Рецепция Обри Бердсли в стихотворении М.Кузмина «Приглашение»
Западноевропейская культура с раннего детства стала «второй духовной родиной» русского поэта, прозаика, критика и композитора Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936): Шекспир, Сервантес, Мольер, Вальтер Скотт, Гофман, Россини, Вебер, Шуберт «формировали личность будущего писателя и музыканта» [Лавров, Ти-менчик 1990: 4]. «Сильнейшее впечатление» на Кузмина произвели два путешествия в Египет (весна – лето 1895) и Италию (апрель – июнь 1897) [Богомолов 2000: 160].
Исследуя взаимодействие творчества М.Куз-мина с зарубежной литературой, Н.А.Богомолов считает, что «влияние чьей-либо прозы» на стихи русского поэта, «как правило, не является сколько-нибудь материально выраженным, а скорее существует лишь опосредованно». Вместе с тем, например, между поэтическим циклом «Форель разбивает лед» (1927) М.Кузмина и романом «Ангел Западного окна» (1927) Г.Май-ринка исследователь выявляет «ряд наиболее бесспорных параллелей», которые помогают сделать «смысловую структуру» романа и стихотворений «гораздо более насыщенной» [Богомолов 1993: 133]. Одна из «баллад» цикла «Форель разбивает лед» «ориентирована» на «Легенду о Старом Моряке» (1798) С.Кольриджа [там же: 136]. В.Кондратьев и вслед за ним М.Левина-Паркер отмечают близость «эстетических размышлений» М.Кузмина к «проблематике евро- пейского поэтического авангарда», в частности к англо-американским имажинистам и французским сюрреалистам (см.: [Левина-Паркер 2007]).
Анализируя стихи и прозу М.Кузмина, исследователи пишут о «богатстве риторической и интертекстуальной клавиатуры», об «установках» на гедонизм, эстетизм [Жолковский, Панова 2008], заостряют «проблемы реминисцентности прозы» Кузмина и выявляют «литературные истоки» его прозы [Антипина 2003: 8]. Ученые отмечают «неразрывную связь категорий любви, культуры и памяти в сознании Кузмина» (Дж.Малмстад) (цит. по: [Харер 1993: 166]), рассматривание поэтом предметов реального мира и их взаимоотношений «как бы сквозь культурноисторическое средостение, через фильтр искусства» (Р.Д.Тименчик, В.Н.Топоров, Т.В.Цивьян) (цит. по: [Хитрова 2006]). Творчество и жизнь Кузмина понимаются как «единое “смысловое пространство” – единый, хотя и принципиально открытый текст, соотнесенный с мировой культурой в целом» [Паперно 1989: 57]. Особенно это касается стихотворений 1920-х гг., «неповторимый облик» которых создают «реальные события и отзвуки различных произведений искусства, мистические переживания и насмешливое отношение к ним, слухи и их опровержения, собственные размышления и мифологические коннотации, рассказы приятелей и кружащиеся в
голове замыслы, воспоминания о прошлом и предчувствие будущего» [Богомолов 2000].
Литературоведы заявляют о методологической «полезности» сопоставительных анализов стихотворений Кузмина с «русскими и западными текстами, которые могли стать для него предметом творческой полемики или, напротив, своего рода текстом-образцом, или текстом-источником», чтобы «уяснить взаимоотношения Кузмина с поэтической традицией» [Магомедова 2004: 169]. В этом смысле интересно выявить творческие параллели между родившимися в один год Михаилом Кузминым и Обри Бердсли ( Aubrey Vincent Beardsley, 1872–1898). Материалом исследования в данной статье послужило стихотворение М.Кузмина «Приглашение» (май 1921) из цикла «Путешествие по Италии» (книга «Параболы»2).
Этот поэтический цикл и входящие в него стихотворения литературоведы неоднократно комментировали [Малмстад, Марков 1977: 680; Лавров, Тименчик 1990: 541-542; Марков 1994; Морев 1998; Богомолов 2000; Константинова 2005, 2006; Панова 2005; Medarić 2007 и др.]. Упоминание в стихотворении «Приглашение» имени английского графика отмечают Дж.Малм-стад и В.Марков, указывая, что Кузмин «любил рисунки Обри Бердсли и переводил его стихи» [Кузмин 1977: 680]. В комментариях А.Лаврова и Р.Тименчинка содержится общеизвестная информация о том, что Бердсли – «английский художник-график и писатель, характерный выразитель стиля “модерн”» и Кузмин «перевел на русский язык его стихотворения “Три музыканта” и “Баллада о цирюльнике”» [Кузмин 1990: 541]. Однако сопоставительный анализ поэтики Куз-мина и Бердсли, насколько нам известно, не проводился.
Особенностью культуры начала XX в. называют «ее принципиальную плюралистичность» и «огромную внутреннюю свободу» [Богомолов 1990: 25]. В этом смысле поэзия Кузмина отражает характер своего времени, будучи пропитана его духом, – это «поэзия протекания, красочной фактуры и свободы» [Марков 1994: 145]. Такие качества поэзии объясняются тем, что Кузмин «без труда делает свое частью универсального» и его «верность себе не находится в конфликте со способностью вбирать иное и делать его “нечужим”» [там же: 146, 145]. В творчестве этого русского поэта отмечается тяготение к «духовному и культурному синтетизму»: «мотивы переклички, противопоставления и симбиоза различных культурных, мифологических и художественных образов и представлений с годами занимают все большее место в его творчестве»
[Лавров, Тименчик 1990: 8]. Кузмина называют «гражданином вселенной», который жил «в царстве культуры»: «его фантазия в стихах и прозе легко путешествует по разным странам и эпохам…» [Савельева 2009: 23].
Подобные наблюдения применимы и к Обри Бердсли. А.Басманов пишет, что англичанин соединил в своем творчестве «греческие вазы, итальянские примитивы, китайский фарфор, фризы Возрождения, старинную французскую и английскую мебель, средневековые миниатюры, помпейские фрески», произведения «таких мастеров, как Мантенья, Рафаэль, Дюрер, Клод Лоррен, Ватто, Хогарт» [Бердслей 1992: 6]. Бердсли в графике и литературных произведениях воплотил основной принцип стиля модерн – многоуровневый синтез литературных традиций романтизма и символизма, античности и Средневековья, Запада и Востока, разных видов искусства, художественных стилей и национальных культур, искусства и быта. Стремление к синтетичности, обусловленное самой эпохой [Бочкарева 2010: 14], определило эстетикопоэтологическую близость творчества М.Кузмина и О.Бердсли.
В начале XX в. в российских журналах «Мир искусства», «Весы», «Современный мир» и других изданиях были опубликованы графические и литературные работы Бердсли, очерки его жизни и творчества, критические высказывания о его творческом методе. Графика и личность молодого талантливого англичанина оказали огромное влияние не только на русских художников (существовал даже «культ Бердсли в России» [Стернин 1984: 99]), но и на поэтов и писателей. Драматическая актриса О.Н.Гильдебрандт (1897– 1980) в 1956 г. вспоминала, что в начале XX в. М.Кузмин, Ю.Юркун и она сама («мы все трое») «часто говорили о Бердсли, которого все очень любили» [Кузмин 1998: 162].
Согласно дневниковым записям М.Кузмина за октябрь 1906 г. К.Сомов, наряду с «обожженной дамой, рисунками XVIII в.», показывал ему «издания Beardsley» [Кузмин 2000: 236]. Через 25 лет Кузмин упоминает Бердсли в связи с определением собственного мировоззрения. В «Дневнике» 1931 г. он записывает: «Нужно точку зрения. Иначе ничего не выйдет. Не Бердсли, так хоть Ходасевич. Иллюзию дела, и притом “красивого”» [цит. по: Шумихин 1994: 163]. В «Дневнике» 1934 г. Кузмин указывает, что читал «Бердсли письма и “Тангейзера”» [Кузмин 1998: 31], имея в виду, очевидно, эпистолярное наследие графика и роман «Под Холмом, или История Венеры и Тангейзера» (1894-1898). Задумывая в 1934 г. произведение «Троя»3, Кузмин предпола- гал, что в него «вольется, или влилось уже, и Бердсли, и Оксфорд» [там же: 30].
В стихотворении М.Кузмина «Приглашение» непосредственно упоминается имя Бердсли, ассоциациями с творчеством английского графика проникнуто все стихотворение. Здесь важен не только биографический контекст, связанный с Ю.Юркуном [Шаталов 1996] и обозначенный в посвящении, но и эстетическая составляющая, анализ которой особенно интересен на фоне «становления новых форм советской жизни» [Богомолов 2000: 158].
Поэтической основой цикла «Путешествие по Италии» 1921 г. стало реальное путешествие в Италию в 1897 г. Оно обогатило поэта множеством «впечатлений, живущих в душе по крайней мере до 20-х гг.» [Богомолов 2000]. «Ностальгия по Италии» постепенно «переросла в пожизненный сон об Италии и личное мифотворчество» [Medarić 2007]. Из далекого 1921 г. Кузмин воссоздает итальянское путешествие, посвящая поэтические воспоминания близкому другу Ю.Юркуну4, знакомство с которым длилось с 1913 г. до смерти Кузмина в 1936 г. Уже в первом стихотворении цикла под названием «Приглашение» соединяются разные хронологические пласты и культурные эпохи. О характере путешествия, к которому «приглашает» стихотворение, исследователи пишут как о «мысленном паломничестве» в Италию [Морев 1998; Шаталов 1996], как об «иллюзии реального путешествия», с одной стороны, и, с другой стороны, как о путешествии «“внутреннем”, “духовном”, позволяющем от стороннего взгляда, позиции туриста перейти к позиции “странника”», ведомого не туристическим путеводителем («Бедэке-ром»), а «“вожатым”» [Константинова 2006]5.
Интерпретация Кузминым мотива путешествия как странничества оказывается близка философской лирике Бердсли 1891–1898 гг. В стихотворениях «Данте в Изгнании» ( Dante in Exile , 1891), «Строки, написанные в Неопределенности» ( Lines Written in Uncertainty , 1891), «Здравствуй и прощай» ( Ave atque Vale , 1896) поэт «в рамках сущностных, общечеловеческих категорий жизни и смерти, общении с Богом» размышляет о поиске пути (см.: [Бочкарева, Табункина 2010: 74]). В стихотворении «The Ivory Piece» (1898), созданном Бердсли в год смерти, лирический герой «уходит в мир искусства, напоминающий одновременно сады Эдема и “Элизиум теней”» [там же].
Стихотворение Кузмина «Приглашение» открывается настроением неги, которое подчеркивает трехсложный размер (ударный через два безударных) с вариацией анакрузы. Лирический сюжет стихотворения организован развитием мотива путешествия: от утреннего пробуждения в кровати (движение солнца в интерьере – первая строфа) к путеводителю (книга как практическое руководство в пути – вторая строфа) и затем к почтовому рожку (соединение реального и воображаемого приключения – третья строфа). В следующих стихотворениях цикла герои путешествуют по Колизею, катакомбам, по Флоренции, Мантуе, Ассизи и Венеции.
Мотив путешествия является ведущим и в романе Бердсли «Под Холмом» ( Under the Hill , 1894–1898). В предисловии автор отмечает, что после приключений в царстве Любви ( the adventures of Tannhäuser in that place ) рыцарь Тангейзер собирается совершить путешествие в Рим ( journeying to Rome ) и затем вернуться обратно ( return to the Loving Mountain ) [Beardsley 1996: 65]6. Воплотить в романе эпизод возвращения Бердсли не успел. Пребывание Тангейзера в гроте Венеры представлено как путешествие-странствование героя по садам и паркам, павильонам и будуарам ради наслаждений и чувственных удовольствий (см. подробнее: [Бочкарева, Пикулева 2005: 37–39]).
Путешествие героя начинается у недр Холма Венеры. Приглашением к этому служит причудливое движение дремлющих на столбах ворот огромных сонных бабочек «со столь богатой окраской крыльев», что, казалось, они накинули дорогие вышивки и парчи: «Тангейзер увидел в этом приглашение войти» [Бердслей 2001: 43]. В оригинальном тексте романа мотив приглашения заявлен в слове со значением ‘сигнал (реплика, намек)’: «Tannhäuser felt it was his cue for entry» (p.76).
«Приглашение» Кузмина напоминает виньетку и, по закону этого жанра, создает «приятную картину» (a pleasing picture) утреннего пробуждения в Италии, «краткое впечатление» (a brief impression) [Shaw 1972: 286] от этого приятного события. В изобразительном искусстве виньетка – ‘украшение в виде рисунка, орнамента в конце или в начале книги, текста’ [Ожегов, Шведова 1999: 84]. Как художник книги Бердсли был мастером изящных виньеток, например к книге С.Смита и Р.Шеридана «Острословия» ( Bon-Mots by S.Smith, R.Sheridan). Правда, здесь очевиден гротеск, отсутствующий в стихотворении Куз-мина. В прозаическом произведении Бердсли «Рассказ об Исповедальном Альбоме» модное увлечение виньетками, автографами, записями в альбомах разрушило помолвку героя (см. об этом: [Бочкарева, Табункина 2010: 125–129]).
В первой строфе стихотворения Кузмина создано визуальное пространство утренней комна- ты через упоминание цвета, света, предметов интерьера, имени графика Бердсли:
Понежилось солнце на розовом кресле, Перебралось на кровать.
Хоть вы и похожи порою на Бердсли,
Все же пора вставать.
[Кузмин 1990: 255]
Введение таких «“простых предметов”» в поэзию, как кресло и кровать, «нарочитая эстетизация мелочей современной жизни» [Гаспаров 1998] подчеркивают акмеистическую тенденцию поэзии Кузмина. Мотив путешествия солнца находит опору в ритмико-синтаксическом параллелизме первой строфы («Понежилось солнце на розовом кресле, / Перебралось на кровать») и постановке глаголов «понежилось» – «перебралось» в начало строк как особо значимое место. Глаголу «понежилось» семантически близок эпитет «розовый», обозначающий цвет.
В романе Бердсли «Под Холмом» розовый цвет приближается к красному в описании одежды («pink muslin», p.80; «rose satin»; «shoes <…> red», «pair of blood-red maroquin», p.82; «pink tights», p.86; «red vest»; «red shoes», p.96), лица («scarlet lips», «scarlet sash», «red sandals», p.97) и тела («pink pearl under the water», p.109), цветов («red roses», p.80, 87). График раскрашивал розовым и красным некоторые свои рисунки: «Туфельки для Золушки» (иллюстрация для альманаха «Желтая книга», 1894), «Портрет мадам Режан» (1894), «Плакат для книжной серии “Детская популярная библиотека”» (1894), «Мессалина и ее спутница» (1895), «Изольда» (1895), рекламный постер для журнала «Желтая книга» (1895), иллюстрация к роману Дюма-сына «Дама с камелиями (опубликована в «Желтой книге», № 3). Современники графика (Р.Росс) и критики (Н.Евреинов) считали эти опыты неудачными [Бердслей 1992: 234, Бердслей 2001: 17]. На наш взгляд, это попытка внести живописность, теплоту, объем в линейные черно-белые образы.
Кресло как атрибут интерьера, его розовый цвет вызывают аллюзию к культуре рокайльного XVIII в., особенно любимого Кузминым и Бердсли. Исследователи пишут о «притягательном интересе Кузмина к Франции XVIII в., роднившем его с художниками “Мир искусства”» [Лавров, Тименчик 1990: 8]. Среди культурных влияний на графический стиль Бердсли С.Маковский указывает эпоху последних Людовиков и прямо говорит об «увлечении стилем rocaille со всей обольстительной искусственностью быта, которым он создан» [Бердслей 2001: 325].
Н.Евреинов называет иллюстрации графика к «Похищению локона» (1712–1717) А.Поупа
«ультрасубъективными композициями из эпохи Regence» [там же: 15].
В графике Бердсли изображение кресла представлено на фронтисписе 1895 г. к книге «Злое материнство» У.Рединга и на рисунке «Портрет Ф.Мендельсона» (1896). Как и в стихотворении Кузмина, на рисунках Бердсли этот предмет интерьера очень удобен, связан с чтением и отстранением от реальности мира, но персонажи совсем другие. На фронтисписе, по словам А.Сидорова, в «реальном изображении интерьера» представлен «трагично-жалобный» молодой человек в «его удобном кресле» [цит. по: Бердслей 2002: 98]. Книга выпала из рук, взгляд юноши устремлен в никуда или внутрь себя. На втором рисунке в кресле перед камином изображена карикатурная фигура Мендельсона с гротескно увеличенной головой.
В стихотворении Кузмина настроение неги первого двустишия, ассоциированное с креслом и кроватью, противоположно значению слова «кровать» в контексте эпистолярного наследия Бердсли. Неизлечимый в XIX в. туберкулез, его утомительные приступы приковывали Бердсли к постели и ограничивали работу (см., напр.: [The Letters … 1970: 435–436]). Находясь в Ментоне, своем последнем пристанище, график сравнивает себя как единственного инвалида («the only inva-lid») с сидящими на велосипедах, пышущими здоровьем жителями («on a bicycle and bursting with health») [ibid.: 407]). Последний приступ туберкулеза, случившийся в январе 1898 г., надолго уложил Бердсли в постель. В его письмах этих дней неизменно присутствует слово ‘кровать’ и производные от него («my bed», «I am still bed-ridden», «sent to bed again», «three weeks in bed» – [ibid.: 431–434, 436]).
Упоминание кровати и кресла не встречается в литературном наследии Бердсли. Однако эти предметы интерьера появляются в его графике, где эротика и трагедия соединяются гротескноиронически. По словам А.Сидорова, «бесконечная фантастическая постель» с крошечной фигуркой человека представлена на гротескном автопортрете «Клянусь Диоскурами – не все чудовища водятся в Африке» (1894 г.) [Бердслей 1917: 3]. Болезненность изображенного человека противопоставлена роскошному балдахину кровати, украшенному большими кистями и соцветиями, фигурой с обнаженными женскими формами: «детская беспомощность <…> образа среди перин слишком большой кровати имеет в себе нечто бесконечно трогательное, несмотря на весь задор художника» [там же].
Ближе к кузминскому значению слова «кровать» оказывается сделанная Бердсли заставка
1896 г. к поэме А.Поупа «Похищение локона»7. В утренней неге изображена Белинда, читающая записку от поклонника. По сравнению со схематично обозначенными руками и лицом героини, витиеватая спинка в рокайльном стиле, растительный орнамент обоев представлены более подробно. Бисер мелких точек создает воздушную атмосферу, настроение нежности и неспешности.
Совсем в иной тональности выполнен рисунок «Смерть Пьеро», настроение которого продолжает автопортрет 1894 г. На постели умерший Пьеро, а рядом персонажи дель-арте. Двое из них поднесли палец к губам, дабы не разбудить умершего. Авторская подпись к рисунку подчеркивает самоиронию графика: «Когда взошла зря, Пьеро уснул последним сном. И тогда, на цыпочках, тихонько вверх по лестнице, молчаливо, в комнату пришли комедианты: Арлекин, Панталоне, Доктор и Коломбина, которые с большой любовью унесли на своих плечах одетого в белое клоуна из Бергамо; а куда – мы не знаем» [Бердслей 2002: 119]. Снятые одежды Пьеро, безжизненно висящие на стуле, уныло повторяют очертания своего умершего хозяина. Создавая рисунок «Смерть Пьеро», Бердсли, по словам А.Сидорова, был «крайне болен»: «его друзья отчаялись в выздоровлении, и, хотя ему было суждено прожить еще два года, это время было для него медленным умиранием» [цит. по: Бердслей 2002: 119].
В первой строфе стихотворения Кузмина «Приглашение» имя Бердсли8 помещено в радостную, мажорную атмосферу утра. Лирический герой призывает своего спутника9 «вставать», несмотря на его сходство с Бердсли, который большую часть своей жизни лежал в постели: «Хоть вы и похожи порою на Бердсли, Все же пора вставать». Обозначается сходство и одновременно противопоставление спутника лирического героя (прототип – Ю.Юркун) и английского графика. По мнению одного из исследователей, Бердсли выступает символом первой стадии любви Кузмина с Юркуном – стадии «эротической чувственности», предшествующей той стадии, на которой невозможно жить без человека [Шаталов 1996].
Позже сходство Юркуна и Бердсли Кузмин отмечает в «Дневнике» 1934 г., сравнивая своего молодого друга с художественными образами английского графика и даже с ним самим: «Когда [Юркун. – И.Т.] спал в новой ночной рубашке, молоденький, был похож на Христа Бердсли, или на самого Обри» [Кузмин 1998: 31]. По мнению Г.Морева, имеется в виду рисунок Бердсли «Поцелуй Иуды» (1893) [там же: 194]. На этом листе, выполненном как иллюстрация к одно- именному рассказу, который был опубликован в журнале «Pall Mall Magazine» и подписан инициалами X.L. [Бердслей 2002: 45], изображена женственная фигура в черном платье, остроносых туфлях, с роскошной шевелюрой и закрытыми глазами. Этот же женоподобный образ Христа видим на листе «Платоническое оплакивание» (1893) на смертном ложе рядом с кустом роз [Бердслей 1991: 11, 20]. На обоих листах узнаваемый лик персонажа с закрытыми глазами изображен в профиль.
И Юркун, и Бердсли были молоды. Оба, скорее всего, не избежали внутренних противоречий, связанных с эротическими и любовными страданиями. После прочтения изданных писем Бердсли и его незаконченного романа «Под Холмом»10 Кузмин отмечает, что в творчестве Юркуна и Бердсли «общего много», однако «насколько у Юр. все теплее, шире и человечнее» [Кузмин 1998: 31].
В первой строфе стихотворения Кузмина имя Бердсли и мотивы, связанные с ним, а также оригинальная (кресло – Бердсли) и богатая (кровать – вставать) рифма, побудительная интонация последней строки подчеркивают торжество жизни и любви над смертью и болезнью. Строка «Все же пора вставать» усиливает заявленное ранее противопоставление интимного пространства утренней комнаты и движения в мир, путешествия. Глаголы «понежилось», «перебралось», замедление ритма при пропуске метрического ударения в начале второй строки (трибрахий), значение приставки «пере–», акцент на бытовых подробностях, нежность розового цвета, широкие ударные гласные [а, о, э], связь третьей и четвертой строк внутренней рифмой11 (порою – пора), аллитерация [р], [л], [с], [н], [в] подчеркивают томно-мажорную атмосферу и негу в эмоциональном тоне строфы.
Последняя строка первой строфы «Все же пора вставать» словно «запускает» ритмический механизм движения тем и мотивов в последующих двух строфах. Во второй строфе мотив путешествия разворачивается под знаком путеводителя Бедэкера:
В Бедэкере ясно советы прочтете:
Всякий собравшийся в путь,
С тяжелой поклажей оставь все заботы, Леность и грусть забудь.
Ритмико-лексическая связь первой и второй строф стихотворения закреплена «следами» слоговой акромонограммы12: «Бедэкер» в первой строке второй строфы и «Бердсли» в третьей строке первой строфы. Оба слова расположены в сильных позициях строк (конец и начало), сходны по звучанию Бердсли – Бедэкер и внешнему виду (с большой буквы и без кавычек). В поэтический текст Кузмин вводит деталь времени13. В стихотворении речь идет, скорее всего, о путеводителе по Центральной и Южной Италии, изданном сыновьями Карла Бедэкера («Mittelitalien und Rom», 1866; 6-е изд. 1880).
Во второй строфе художественное развертывание темы происходит в одном предложении. Нетерпеливость, напряженность от предвкушаемого путешествия может выражаться в появлении в строфе йотированных гласных в сильной (ударной) позиции (ясно, всякий, тяжелой). Спешка и эмоциональное напряжение предстоящего путешествия подчеркиваются повелительной формой глаголов («оставь», «забудь») и последней побудительной строкой («Леность и грусть забудь»). «Тяжелая поклажа», которую призывает оставить словарь Бедэкера, тяжела не столько физически, сколько духовно – это «заботы, леность и грусть». В ассонанс второй строфы, кроме звуков [а], [о], [э], что были в первой строфе, добавляется [у]. Появляясь во второй строке (путь), этот звук дважды повторяется в четвертой строке (грусть забудь), словно своим протяжным характером усиливая тяжесть поклажи. В консонантную структуру добавляется глухой [т], который тоже подчеркивает тяжесть ноши. Внутристрочные (лено сть и гру сть ) и межстрочные ( за боты, за бу дь ) созвучия создают эмоциональное и музыкальное единство стихотворения.
В первых двух строфах стихотворения словарь обытовлен. Предельно конкретно названы детали интерьера, даны советы путешественнику. В третьей строфе параболически, т.е. с изменениями, повторяются мотивы первой строфы в музыкальном контексте. Создаваемая здесь картина весеннего утра, звук почтового рожка и слова, оформленные прямой речью при помощи метафоры, кажутся в духе символизма неопределенными и странными:
Весеннего утра веселый глашатай
Трубит в почтовый рожок:
«Поспеете ночью поспать на кровати, Розу мой луч зажег».
В первой строке возникает фигура глашатая как веселого вестника весеннего утра. Слово «глашатай», расположенное в сильной позиции строки, Кузмин выделяет звуковой парономазией «весеннего» – «веселый». Мотив глашатая можно обнаружить в романе Бердсли «Под Холмом»: в посвящении Высокопреосвященному Принцу автор в средневековой традиции прославляет его, упоминая о «благородных качествах (хотя о них знает весь мир)», «вкусе и уме», «любви к наукам» и «истинном преклонении перед искусством» [Бердслей 2001: 39–40].
Фигура глашатая и упоминаемый во второй строке музыкальный инструмент рожок напоминают о жанре куртуазной поэзии – альбе:
Боярышник листвой в саду поник,
Где донна с другом ловят каждый миг: Вот-вот рожка раздастся первый клик! Увы, рассвет, ты слишком поспешил!
– Ах, если б ночь господь навеки дал,
И милый мой меня не покидал,
И страж забыл свой утренний сигнал...
Увы, рассвет, ты слишком поспешил! <…> (анонимная альба, пер. В.Дынника).
[Лирика трубадуров 1974: 159]
Образ стража, обязательного действующего лица альбы, которым мог выступать сторож замка или друг рыцаря [там же], у Кузмина трансформирован в глашатая, а рожок назван почтовым: «Весеннего утра веселый глашатай / Трубит в почтовый рожок…». Созвучие слова «трубит» со словом «трубадур», обозначающим прованского поэта, подчеркивает ассоциацию со Средневековьем. Вторичное использование приема параномазии, характерного для всего XX в. [Марков 1994: 90], усиливает музыкальное начало кузминского стиха в третьей строке (« Посп еете ночью посп ать на кровати»). Симметричное повторение слова «кровать» (как и корня роз-) соединяет первую и третью строфы, подчеркивает круговую композицию стихотворения, усиливает противопоставление и сопоставление ночи и дня, лености и бодрости, сна и реальности.
В последней строке «Розу мой луч зажег» обнаруживается бесконечное содержание, сконцентрированное в метафоре. «Скромность и сдержанность» их употребления Кузминым отмечал В.Жирмунский в статье «Метафора в поэтике русских символистов» (1921) (см.: [Жирмунский 2001: 164]). Роза на языке Кузмина – символ грядущего путешествия. Слово подчеркнуто ритмически ударным слогом (–UU–U–). Прямая речь: «Поспеете ночью поспать на кровати, / Розу мой луч зажег», – воспринимается как принадлежащая глашатаю, который трубит в почтовый рожок. Мотив розы одновременно отсылает к средневековой культуре (см., например, комментарий к названию романа У.Эко «Имя розы» [Эко 1988: 89]) и к незаконченному роману Бердсли [Бочкарева, Табункина 2010: 172–173 и др.].
В романе «Под Холмом» роза обладает многозначным, но одновременно конкретным смыслом: в цветке подчеркивается его декоративная, ароматическая и эротическая функции, а также мифологические и литературные аллюзии. Как и в стихотворении Кузмина, роза у Бердсли – символ грядущего путешествия, приглашение в царство Венеры. Когда Тангейзер остановился у ворот Холма, «отважный» цветок «дерзко посягнул» на «нежные» кружева рыцаря. Шевалье как романтический герой придает событию особый смысл, что выражено в несобственно-прямой речи и подчеркнутой эмоциональности: «в первом порыве гнева он хотел отшвырнуть прочь и строго наказать нахальный цветок», «было что-то столь восхитительно дерзкое в посягательстве отважного цветка на нежные кружева», он «поклялся, что <…> оставит розу там, где она висела, как своего рода пропуск из верхнего мира в низший» [Бердслей 2001: 44]. Мотив приглашения в мир любви, природы и искусства звучит в третьей строфе стихотворения Кузмина, связывая его одновременно со всем циклом и с творчеством Бердсли.
Ритуальная функция розы проявляется и тогда, когда внутри Холма толпа девушек забросала розами прибывшего Тангейзера (p.80). Декоративная функция цветка проявляется в украшении им шляпы маникюрши миссис Марсапл («red roses»). Роза – постоянный атрибут интерьеров (цветы разбросаны на столах), садов и парков Венеры. Форма розы использована в архитектуре фонтана на пятой террасе. Роза привлекает своим ароматом (p.102). Сексуальное значение цветка подчеркивается связью с эпизодом о «маленькой Розалии» («little Rosalie» – p.117). Многозначность, смысловая двойственность выражается в упоминаемых «Романе о Розе», который вспоминает Тангейзер, и легенде о Святой Розе из Лимы. Розы Бердсли помещает на фронтисписе «Венера между божествами жизни и смерти» ( Venus , 1894–1895), на листы «Таинственный розовый сад» (1895), «Разносчики фруктов» (1896).
Итак, имя Бердсли в стихотворении «Приглашение» дано в контексте обстановки (интерьера) утренней комнаты, в которой выделяются кресло и кровать – предметы, ассоциативно связанные с графиком. Сравнение Бердсли с Юркуном, которому адресовано стихотворение, акцентирует их различие14, но соединяет мажорную и минорную интонации, прошлое и настоящее, реальность и воображение, встречу и расставание. Мотив грядущего (состоявшегося и несостоявшегося) путешествия у Кузмина через роман Бердсли «Под Холмом» актуализирует мотивы любви и розы, поэзию трубадуров и стиль рококо. Русский поэт эпохи модерна, как и Бердсли, творит в духе «синтетической» поэтики, которая проявляется в восприятии мира через комплекс впечатлений. Виньеточный характер стихотворения Кузмина, в котором соединяются вербальное (словесное), визуальное и музыкальное начала, подчеркивает близость к литературному и графическому творчеству Бердсли.
-
1 Выполнено при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации в рамках научного исследования «Поэтика русской и английской литературы рубежа XIX-XX вв.: традиции, рецепция, интерпретация», грант №МК– 2181.2012.6, а также при поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Экфрастические жанры в классической и современной литературе», №12-34-01012а1.
-
2 Первый раз книга была издана за границей: «Параболы: Стихотворения 1921–1922» (Петербург; Берлин: Петрополис, 1923 [декабрь 1922]. 115 с.) [Тимофеев 2007: 184].
-
3 Об этом замысле, как указывает Г.А.Морев, «на сегодняшний день ничего не известно» [ http://az.lib.ru/k/kuzmin_m_a/text_0370.shtml ]
-
4 Настоящее имя Иосиф Юркунас (17.09.1895–21.09.1938).
-
5 Цикл «Путешествие по Италии» строится на развитии мотива путешествия двух влюбленных беззаботных поэтов: «…Влюбленное замедлим странствие…» («Родина Вергилия»); «Мы живем не как туристы, / Как лентяи и поэты, / Не скупясь и не считая, / Ночь за ночью, день за днем» («Колизей», 1921). Чувство влюбленности делает лирического героя цикла восприимчивым к внешнему миру, который он познает через обонятельные, звуковые, осязательные, вкусовые впечатления и ощущения. Они возникают как сиюминутная реакция или отголоски прошлых событий. Памятники культуры воспринимаются в контексте культурного времени, природы, телесных удовольствий, запахов, предметов повседневности. Образы итальянских городов, культурных объектов – в целом мир – в цикле «Путешествие по Италии» построены на «синтетическом» [Medarić 2007] восприятии их лирическим героем. В стихотворениях создаются телесноэротический ряд: «В густые травы сладко броситься, / Иного счастья не ища!» («Родина Вергилия»); «Воздух свеж и волен после / Размори-тельных простынь…», «…Плечи пахнут теплым медом…», «Дома сладко и счастливо / Ляжем и потушим свет, Выполнив благочестивый / И любовный наш обет» («Поездка в Ассизи»); «…Не смеемся, только дышим, / Обнимаем да целуем...» («Венецианская луна»), предметные ряды звуков, зрительных образов, тактильных ощущений и запахов («Веточку, только веточку / В петлицу вдень <…> В большой столовой / Звенит
хрусталь, / Улыбки новой / Сладка печаль! <…> Блестят соломенно / Обложки книг <…> Свежо и приторно... / Одеколон? / Тележка подана, / Открой балкон!» («Утро во Флоренции»). На фоне памятников культуры создаются фигуры влюбленных и их наслаждения от любви. Кажется, что сама природа испытывает состояние влюбленности: «Вожделенья полнолуний, / Дездемонина светлица... / И протяжно, и влюблено / Дух лимонный вдоль лагун...» («Венецианская луна») [Кузмин 1990: 256–258].
-
6 В дальнейшем ссылки на это издание даны в круглых скобках с указанием страницы: Beardsley A. Under the Hill // Wilde O. Salome. Beardsley A. Under the Hill. L.: Creation Books, 1996. P.65– 123.
-
7 Кроме иллюстрированных Бердсли изданий поэмы А.Поупа «Похищение локона», рисунок «Любовная записка» (заставка) был воспроизведен в «St. Paul’s» 2 апреля 1898 г. [Бердслей 2002: 189].
-
8 Имя Бердсли также упоминается в стихотворениях Кузмина «Fides apostolika» (цикл «Пути Тамино», 1921) из книги «Параболы» (1921– 1922), «Слоновой кости страус поет…» (цикл «Северный веер», 1925) и «Тот» (цикл «Для августа», 1927) из книги «Форель разбивает лед» (1925–1927).
-
9 Говоря о цикле «Путешествие по Италии» (1921), необходимо упомянуть цикл «Стихи об Италии» (1919–1920) в книге «Нездешние вечера», где отсутствует спутник, к которому обращены слова поэта. В «Стихах об Италии» представлены в большей степени живописные картины (карнавал, природа, искусство, литература), а в цикле «Путешествие по Италии» лирический сюжет составляет странствие влюбленных поэтов в итальянской культуре и природе, созерцание которых сопровождается чувственными удовольствиями.
-
10 С таким названием произведение Бердсли было впервые частично и с объемными купюрами опубликовано на русском языке в журнале «Весы» [Бердслей 1905: 30–49]. Интересно, что через год в этом журнале появился первый роман М.Кузмина «из современной жизни “Крылья”, содержащий своего рода опыт гомосексуального воспитания» и произведший «эффект литературного скандала» [Лавров, Тименчик 1990: 6].
-
11 Кузмин как наследник традиций символизма чутко относился к звучанию слова («работал со звуком, как композитор»), и в его творчестве наблюдается «тончайшая инструментовка (разного рода звуковые повторы – аллитерации, ассонансы, паронимия)» [Бирюков 2001: 58, 57]. Музыку и рисунок стиха создают повторы –
Кузмин был «одним из непревзойденных мастеров поэтического повтора» [Марков 1994: 72]. Это повторы не только ритмического рисунка, слов (на кровать, на кровати), но и корней (роза, розовый), слогов и звуков. Музыкальность стиха обеспечена звуковыми, слоговыми, пронизывающими все стихотворение повторами. Повторение «как бы подчеркивает эмоциональное волнение, создает эмоциональное ударение на повторяющихся словах» [Жирмунский 2001: 59].
-
12 В данном случае повтор последних слогов и звуков осуществлен не «на стыке смежных строк» [Квятковский 1966: 13], как в слоговой акромонограмме, а через строку, в другой строфе. Это, на наш взгляд, подчеркивает ритмикокомпозиционное единство стихотворения Куз-мина.
-
13 Бердсли также вводил в свои произведения вымышленные и реальные знаки культуры (книги, имена): Delavau’s Dictionary (p.83), Fetes d’Armailhacq (p.86), Jones’s «Nussery Numbers», Mentzelius (p.76), Cluny (p.82), Claude in Lady Delaware’s Collection (p.106) в романе «Under the Hill» и др.
-
14 О.Гильдебрандт отмечает глубокое различие между эфирно-весенней атмосферой рисунков Юркуна и инфернальностью графики Бердсли. Если рисунки первого («Юрочки») «все в движении и в воздухе, – как листья, носящиеся по ветрам», «дневные» и «в них много света», то у Бердсли «мир совсем другой» – «вне жизни и движения улицы и воздуха весны». «Живопись» Юркуна «в эфире и эфирна, будто вовсе невесома: игра зайчиков, переливы радужных брызг, веселые, весенние миражи, танцующие – гротесковые или лирические – воплощенные в фигурок, чувства человеческие, сматериализовавшие-ся в вербных чертиков – “мечты управхоза”, – в современных нимф – “мечты художника”, – огромный светлый рой очень реальных нереальных существ, которых никак нельзя назвать “нечистью”, потому что они по сверхземному чисты и, несмотря на вечные плутни и будни, почти непорочны». По контрасту у Бердсли «ритуально-театральный мир, мир больших страстей, тяжелый запах зрелых роз и густой пудры, настоящее inferno». Поэтому его «маленькие графические рисунки» производят «впечатление больших, как Рубенс и венецианцы, полотен, – и даже фресок»: «Через альковный 18<-й> век преломленная эллинистическая культура, первобытные и жестокие культы каким-то божествам сладострастия, сохраняющиеся в орнаменте пудрениц и флаконов. Восточная Астарта или Кибела, а м<ожет> б<ыть>, какая-то Венера Атлантиды, передавшая через мавров испанскому като-
лицизму черные кружева и жестокое изящество, – недаром религиозный Обри хотел сжечь перед смертью свои работы» [цит. по: Кузмин 1998: 162].
Perm State National Research University
Список литературы Рецепция Обри Бердсли в стихотворении М.Кузмина «Приглашение»
- Антипина И.В. Концепция человека в ранней прозе Михаила Кузмина: дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2003. 201 с.
- Бердслей О. Избранные рисунки/предисл. и послесл. А.А.Сидорова. М.: Венок, 1917. 220 с.
- Бердслей О. Многоликий порок: История Венеры и Тангейзера, стихотворения, письма/сост. Л.Володарская. М.: Эксмо-пресс, 2001. 368 с.
- Бердслей О. Под холмом: Романтическая новелла//Весы. 1905. №11. С.30-49.
- Бердслей О. Рисунки. Проза. Стихи. Афоризмы. Письма. Воспоминания и статьи о Бердслее/сост. А.Басманов. М.: Игра-техника, 1992. 288 c.
- Бердслей О. Шедевры графики/сост. И.Пименова. М.: Изд-во Эксмо, 2002. 216 с. (Сер. «Шедевры графики»).
- Бердслей О. 66 избранных рисунков/сост. В.В.Айтуганов. М.: Ренессанс, 1991. 10 с., 66 л. ил.
- Бирюков С.Е. Интермеццо. Михаил Кузмин//Бирюков С.Е. Поэзия русского авангарда. М.: Лит.-изд. агентство «Р.Элинина», 2001. С.54-60.
- Богомолов Н.А. В зеркале «серебряного века». Русская поэзия начала XX века. М.: О-во «Знание» РСФСР, 1990. 40 с. (В помощь лектору. Секция пропаганды художественной культуры).
- Богомолов Н.А. «Отрывки из прочитанных романов»//НЛО. 1993. №9. С.133-141.
- Богомолов Н.А. «Любовь -всегдашняя моя вера»//Кузмин M. Стихотворения. СПб., 2000. (Новая библиотека поэта). URL: http://az.lib.ru/k/kuzmin_m_a/kuzmin0_1.shtml. (дата обращения: 03.07.2011)
- Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М.: Новое лит. обозрение, 2000. 560 с.
- Бочкарева Н.С. Формы выражения кризисного сознания в литературе и культуре рубежа веков//Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып.2(8). С.111-118.
- Бочкарева Н.С., Пикулева И.А. Мотив странствий в новелле О.Бердслея «Под холмом»//XVII Пуришевские чтения: «Путешествовать -значит жить (Х.К.Андерсен). Концепт странствия в мировой литературе: сб. материалов междунар. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Андерсена (4-8 апреля 2005). М.: МПГУ, 2005. С.37-39.
- Бочкарева Н.С., Табункина И.А. Художественный синтез в литературном наследии Обри Бердсли/Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 254 с.
- Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного века»//Русская поэзия «серебряного века», 1890-1917: антология. М.: Наука, 1998. С.5-44. URL: http://destructioen.narod.ru/gasparov_ser_vek.htm. (дата обращения: 03.03.2012).
- Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб.: Азбука-классика, 2001. 496 с.
- Жолковский А., Панова Л. Самоубийство как прием: «Сладко умереть…» Михаила Кузмина//Звезда. 2008. №10. URL: http://www.magazines. russ. (дата обращения: 03.03.2012).
- Квятковский А. Поэтический словарь. М.: Сов. энцикл., 1966. 369 с.
- Константинова С.Л. «Итальянский текст» русской литературы XIX-XX вв. Псков: ПГПУ, 2005. 160 с.
- Константинова С.Л. Цикл М.Кузмина «Путешествие по Италии»:к вопросу о структуре и функциональности образа катакомб//Toronto Slavic Quarterly: academic electronic journal in slavic studies. Co-editor K.Lantz. 2006. №17. Toronto: Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto. URL: http://www.utoronto. ca/tsq/17/konstantinova17.shtml. (дата обращения: 03.03.2012).
- Кузмин М.А. Дневник 1905-1907/предисл., подг. текста и коммент. Н.А.Богомолова и С.В.Шумихина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000. 608 с.
- Кузмин М.А. Дневник 1934 года/под ред., со вступ. ст. и примеч. Глеба Морева. СПБ.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1998. 413 с.
- Кузмин М.А Избранные произведения/сост., подг. текста, вступ. ст., коммент. А.В.Лаврова, Р.Д.Тименчика. Л.: Худож. лит., 1990. 576 с.
- Кузмин М.А. Собрание стихов. Munchen, 1977. Т.III.
- Лавров А., Тименчик Р. «Милые старые миры и грядущий век». Штрихи к портрету М.Кузмина//Кузмин М. Избр. произв. Л.: Худож. лит., 1990. С.3-16.
- Левина-Паркер М. «Две крайние точки» Михаила Кузмина//НЛО. 2007. №87. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2007/87/le6.html (дата обращения: 30.06.2011).
- Лирика трубадуров//Зарубежная литература средних веков. Латин., кельт., скандинав., прованс., франц. литературы/сост. Б.И.Пуришев. М.: Просвещение, 1974. С.159-175.
- Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения: учебник. М.: Академия, 2004. 192 с.
- Малмстад Дж., Марков В. Примечания//Кузмин М. Собрание стихов. Munchen, 1977. Т.III.
- Марков В.Ф. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. 368 с.
- Морев Г. Казус Кузмина//Кузмин М.А. Дневник 1934 года/под ред., со вступ. ст. и примеч. Глеба Морева. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1998. 413 с. http://az.lib.ru/k/kuzmin_m_a/text_0370.shtml (дата обращения: 30.06.2011).
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
- Панова Л. «Звезда Афродиты» Михаила Кузмина//Die Welt der Slaven. L., 2005. P.201-214. URL: http://www.magazines.russ (дата обращения: 30.06.2011).
- Паперно И. Двойничество и любовный треугольник: поэтический миф Кузмина и его пушкинская проекция//Studies in the Life and Works of Mixail Kuzmin/ed. By John E. Malmstad. Wien, 1989. P.57-82.
- Савельева Л.В. Слово и музыка в лирике Михаила Кузмина//Русская речь. 2009. №3. С.22-26.
- Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX -начала XX века. М.: Сов. художник, 1984. 296 с.
- Тимофеев А.Г. «…У дорогих моему сердцу немцев…»: материалы к библиографии прижизненных немецких изданий М.Кузмина//Рус. лит. 2007. №1. С.183-203.
- Харер К. К 120-летию со дня рождения М.А.Кузмина (1872-1936). Библиогр. обзор изд. и исслед.//НЛО. 1993. №3. С.161-176.
- Хитрова Д. Кузмин и «смерть танцовщицы»//НЛО. 2006. №78. URL: http://magazines.russ. ru/nlo/2006/78/hi14.html (дата обращения: 30.06.2011).
- Шаталов А. Предмет влюбленных междометий. Ю.Юркун и М.Кузмин к истории литературных отношений//Вопр. лит. 1996. №6. http://magazines.russ.ru/voplit/1996/6/shatalov.html (дата обращения: 30.06.2011).
- Шумихин С.В. Три удара по архиву Михаила Кузмина//НЛО. 1994. №7. С.163-169.
- Эко У. Записки на полях «Имени розы»/пер. с ит. Е.Костюкович//Иностр. лит. 1988. №10. С.88-104.
- Beardsley A. Under the Hill//Wilde O. Salome. Beardsley A. Under the Hill. L.: Creation Books, 1996. P.65-123.
- Medarić M. Аромат Рима. Заметки на полях «итальянского текста» Михаила Кузмина//Toronto Slavic Quarterly: academic electronic journal in slavic studies. Co-editor K.Lantz. 2007. №21. Toronto: Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto. URL: http://www.utoronto. ca/tsq/21/medaric21.shtml (дата обращения: 03.03.2012).
- The Letters of Aubrey Beardsley/ed. by H. Maas. L.: Rutherford, Fairleigh Dickinson University Press, 1970. 472 p.