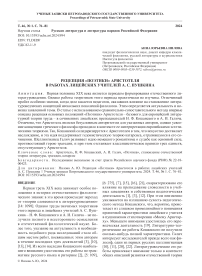Рецепция «Поэтики» Аристотеля в работах лицейских учителей А. С. Пушкина
Автор: Нилова А.Ю.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 1 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Первая половина XIX века является периодом формирования отечественного литературоведения. Однако работы теоретиков этого периода практически не изучены. Отмеченный пробел особенно значим, когда дело касается педагогов, оказавших влияние на становление литературоведческих концепций нескольких поколений филологов. Этим определяется актуальность и новизна заявленной темы. В статье с использованием сравнительно-сопоставительного метода впервые описана рецепция основных положений «Поэтики» Аристотеля - базового для европейской литературной теории труда - в сочинениях лицейских преподавателей Н. Ф. Кошанского и А. И. Галича. Отмечено, что Аристотель являлся безусловным авторитетом для указанных авторов, однако усвоение концепции греческого философа проходило в контексте ее интерпретации европейскими эстетическими теориями. Так, Кошанский солидаризируется с Аристотелем в том, что искусство доставляет наслаждение, и эта идея поддерживает гедонистическую теорию катарсиса, отразившуюся в его сочинении. Шеллингианец Галич развивает идею немецкого романтизма о судьбе как основной силе, противостоящей герою трагедии, и при этом отстаивает классицистическое правило трех единств, отсутствующее у Аристотеля.
Аристотель, н. ф. кошанский, а. и. галич, «поэтика», становление отечественной теории литературы, трагедия, катарсис
Короткий адрес: https://sciup.org/147242933
IDR: 147242933 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.994
Текст научной статьи Рецепция «Поэтики» Аристотеля в работах лицейских учителей А. С. Пушкина
Первая треть XIX века занимает особое положение в истории отечественного филологического знания: в это время происходит переход от «теории словесности к литературоведению» [14: 1098]. Однако труды значимых теоретиков этого периода и лицейских учителей А. С. Пушкина – Н. Ф. Кошанского и А. И. Галича – не получили полного и всестороннего осмысления в отечественной филологической науке. Более того, указание на актуальность и необходимость подобного рода исследований стало общим местом работ, посвященных этим авторам в течение последних трех десятилетий [3], [10], [13], [14]. Из всего наследия Кошанского наибольшего внимания удостоились его работы по грамматике русского языка и риторике [2], [5: 109],
[6: 275], [7], [15], [16], [21], охарактеризовано его влияние на преподавание словесности в учебных заведениях и собственная педагогическая деятельность [1], [3], [12]. При этом неизменно указывается на излишнюю сухость педагогического метода Кошанского, что, вероятно, проистекает из слишком прямолинейного понимания ироничной характеристики лицейского учителя в пушкинском стихотворении «Моему Аристарху». Меньшего внимания удостоилась его переводческая деятельность [19]. Литературно-теоретические же работы Кошанского не получили сколько-нибудь полной характеристики. Галич интересует исследователей прежде всего как философ, один из первых русских шеллингианцев [10], [11], [20], [22]. Литературоведческие его работы привлекают внимание только в контексте общих описаний развития отечественной теории литературы [8] или отдельных литературоведческих вопросов [9: 44]. Актуальность изучения именно литературно-теоретических концепций Н. Ф. Кошанского и А. И. Галича представляется особенно значимой еще и потому, что они оказали влияние на образование Пушкина, его поэтическое творчество и формирование литературоведческих идей: сухие риторические схемы, усвоенные на уроках «педанта» Кошанского, под пером гения превращались в такие поэтические шедевры, как стихотворение «Цветок» [17: 6–19], а идеи из работ Галича нашли отражение в литературной теории Пушкина. Целью настоящей статьи является попытка описать рецепцию некоторых положений основополагающей для европейской литературной теории «Поэтики» Аристотеля в работах лицейских учителей Пушкина Кошанского и Галича.
***
Первый русский перевод «Поэтики» Аристотеля появился только в 1854 году, однако русский читатель был знаком с содержанием трактата и раньше по школьным курсам поэтики, отражению теории Аристотеля в сочинениях Ф. Прокоповича, В. К. Тредиаковского, А. Д. Кантемира, А. П. Сумарокова и др., переводам на европейские языки и откликам на теорию драмы в трагедиях русских драматургов. В 1821 году был издан «Словарь древней и новой поэзии», в котором его автор, Н. Остолопов, ссылался на Аристотеля как на безусловный авторитет и часто близко к тексту пересказывал важнейшие положения «Поэтики». Фрагменты Словаря на протяжении 1810-х годов печатались в журналах «Санкт-Петербургский вестник», «Вестник Европы», «Труды Общества любителей российской словесности». В это же время в журналах активно обсуждались вопросы теории драмы. Можно сказать, что первая треть XIX века стала периодом активного освоения и осмысления наследия афинского философа, которое оказало влияние и на литературно-теоретические работы филологов пушкинского круга.
Н. Ф. Кошанский (1785(?)–1831) – выпускник Московского университета, доктор философии. С 1811 по 1828 год был профессором латинской и русской словесности в Царскосельском лицее. Известен как поэт и переводчик, однако «наибольшую славу ему принесли его педагогические труды» [3: 290]. Его учебники русской и латинской грамматики, «Частная риторика» и «Общая риторика» выдержали множество изданий, а их содержание сохраняло актуальность и во второй половине XIX века [3: 290].
В 1811 году Кошанский опубликовал обширный труд «Цветы греческой поэзии», название которого восходит к античным антологиям. Книга включала в себя идиллии, эпиграммы и отдельные фрагменты стихов Биона и Мосха на греческом языке, а также их переводы, выполненные самим Кошанским. Греческие тексты сопровождались биографиями поэтов и подробными комментариями. Кроме стихов Мосха и Биона в книгу входили переводы шестой песни «Одиссеи» Гомера и фрагмента трагедии Софокла «Антигона». Поэтической части был предпослан обширный вступительный раздел «К читателям», в котором автор предлагает краткое описание греческой культуры. По замечанию современного исследователя, это издание делало честь «не только его составителю, но и вообще филологическому образованию того времени» [15: 104].
«Цветы греческой поэзии» не содержат последовательного изложения литературно-теоретической концепции их составителя. Во вступительном разделе Кошанский дважды упоминает имя Аристотеля, в обоих случаях без сколько-нибудь подробного комментария «Поэтики». Однако влияние теории Стагирита на восприятие Кошанским античной культуры хорошо заметно, когда последний говорит о воздействии трагедии на зрителя. По утверждению Аристотеля, трагедия изображает «ужасное» и совершает «путем сострадания и страха очищение подобных аффектов» [4: 56]. Кошанский говорит о воздействии трагедии на зрителей и эмоциях, ею вызываемых, следующее:
-
1. «Сердца зрителей колеблются, движутся, и Греки платятъ дань жестокости предковъ своихъ слезами. Такъ нравы ихъ смягчаются и дѣлаются добрѣе; такъ души ихъ научаются чувствовать сожалѣніе. Вдругъ все ис-чезаетъ, остаются только слезы не глазахъ и впечатлѣніе въ сердцѣ»1.
-
2. «Ужасъ на лицѣ зрителей и удовольствіе въ сердцѣ. О чудо искусства! кто не восхищенъ твоимъ чародѣйствомъ» (Кошанский: XXI).
Он согласен с Аристотелем в том, что трагедия показывает страшные или ужасные события и воздействует на эмоции зрителей. Она не только смягчает чувства, «научаетъ чувствовать сожалѣніе», но и доставляет удовольствие. Вероятно, на восприятие катарсиса Кошанским повлияли эстетическая теория Лессинга и гедонистическая Баттё. В пользу влияния последней свидетельствует и то, как Кошанский характеризует отношение греков к жизни. По его мнению, целью жизни греков было именно наслаждение: «Представьте народъ, посвятившій себя важ- ной наукѣ наслаждаться жизнію; народъ, коего воображеніе очаровывало все, къ чему прикасалось» (Кошанский: X). Удовольствие читателей было и целью самого Кошанского при работе над «Цветами греческой поэзии» (Кошан-ский: X).
А. И. Галич (1783–1848) в 1808–1812 годах обучался в Германии, где проникся идеями Шеллинга. С 10 мая 1814 года по 1 июня 1815 года, заменяя заболевшего Кошанского, преподавал русскую и латинскую словесность в Царскосельском лицее. На занятиях молодой преподаватель выходил за темы своего предмета и обсуждал с учениками вопросы современной немецкой философии [10: 16]. В 1825 году Галич опубликовал работу «Опыт науки изящного», в которой «дал первое в России систематическое изложение романтической эстетики, представлявшей собой одну из ведущих форм мировой эстетической мысли XIX века» [10: 131]. Трактат состоит из «Предисловія», «Вступленія» и двух частей: «Часть общая или чистая. Теорія изящного» и «Часть прикладная или особенная. Теорія изящныхъ искуствъ». Первая часть трактата, общеэстетическая, подробно проанализирована в работе З. А. Каменского [10]. Исследователь отметил влияние на сочинение Галича не только Шеллинга, но и Канта и Гегеля [10: 132–133]. Вторая часть, в которой автор обращается к теории литературы, осталась вне поля исследовательского интереса.
«Теория изящных искусств» Галича, так же как и «теория изящного», демонстрирует очевидное влияние философии немецкого романтизма и, в первую очередь, его интерес к антиномично-сти мира. Аристотеля автор трактата упоминает всего один раз, когда во Введении излагает историю «теории изящного». Аристотель, по мнению Галича, относится к первому периоду развития «науки изящного» – периоду «простыхъ чувственныхъ наблюденій»2, за ним следуют период «смысла и логическихъ его соображеній», представителями которого являются Баумгартен, Дидро и Кант, и период «полного владычества разума», к которому Галич относит Платона, Винкельмана, Лессинга, Гегеля и Шлегелей (Галич: 6). Тем не менее теория Галича развивается в русле традиции, заложенной греческим философом.
Исходным тезисом первой части трактата, демонстрирующим ориентацию автора на эстетическую программу немецкого романтизма, является утверждение двойственной природы человека:
«…человѣкъ есть гражданинъ двухъ міров, – види-маго и невидимаго. Первому принадлежитъ онъ своею чувственно-органическою стороною, второму – духовно-нравственною» (Галич: 9).
Во второй части Галич возвращается к тезису о двойственности человеческой природы и отмечает:
«…изящное искуство, само по себѣ нѣчто единое, нераздѣльное, безконечно разнообразно въ способахъ, употребляемыхъ человѣкомъ, какъ духовно-нравствен-нымъ существомъ, для изображенія своихъ мыслей или, лучше, видѣній» (Галич: 77).
На основании двойственной природы человека он выделяет «изящные искуства внеш-нихъ чувствъ, или художества» и «изящное искусство, принадлежащіе чувству внутреннему, или поэзію». Все «художества» Галич разделяет на
«а) художества, преимущественно относящіеся къ пространству, – образовательныя; b) художества, преимущественно относящіеся ко времени, – тоническія; с) художества, преимущественно относящіеся и къ пространству и ко времени – театральныя, сценическія» (Галич: 82–83).
Поэзию он разделяет на эпопею, лирику и драму, которые называет «формами» поэзии. Такое традиционное деление поэзии на «формы» восходит к Аристотелю, но если греческий философ в основу деления ставил принцип подражания, то Галич основывается на романтическом принципе изображения: в эпопее поэт
«изображаетъ видѣнія, раскрывющіеся предъ умственными его очами, повѣствуя объ нихъ, какъ о совершившихся событіяхъ», в лирике «изливается въ поэтиче-скихъ ощущеніяхъ своего сердца», в драме «заставляетъ насъ быть свидѣтелями производимаго дѣянія» (Галич: 158–159).
Большая часть «Поэтики» посвящена описанию трагедии, которую Аристотель определяет следующим образом:
«…трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, [подражание] при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов» [4: 56].
Аристотель выделяет шесть частей трагедии: фабулу, характеры, разумность, сценическую обстановку, словесное выражение и музыкальную композицию [4: 58], важнейшими из них он называет фабулу и характеры и особо отмечает, что «трагедия есть подражание не людям, но действию и жизни» [4: 58]. Внутри фабулы Аристотель выделяет перипетию и узнавание. Под характером философ понимает «то, в чем обнаруживается направление воли» [4: 60].
Он очень кратко оговаривается о сходстве трагедии и комедии, заключающемся в способе подражания (трагедия и комедия «представляют людей действующими, причем драматически действующими» [4: 46]), и не говорит специально о драме как о роде искусства, объединяющем трагедию и комедию. Галич же говорит о драме как о форме самостоятельной поэзии и определяет ее как искусство, в котором поэт «заставляетъ насъ быть свидѣтелями производимаго дѣянія» (Галич: 158–159). Затем он дает более подробное определение драмы:
«…въ Драмѣ видимъ отдѣльное дѣяніе съ его побудительными причинами и перемѣнами, постепенно раскрываемое, т. е. предъ нашими глазами совершаемое свободнымъ лицемъ въ его бореніи съ общимъ порядкомъ вещей или со враждебнымъ духомъ цѣлаго» (Галич: 179–180).
В качестве важнейших элементов драмы, от которых зависит красота драматических произведений, Галич называет свойства действия, характер лиц, узлы и развязки, что восходит к описанию важнейших частей трагедии у Аристотеля. К Аристотелю восходит и требование естественности, логичности и цельности драматического действия, ограниченного количества событий, а также раскрытия характера «не въ разсужденіяхъ или рѣчахъ, а въ живомъ приложеніи или на дѣлѣ» (Галич: 184). Однако, когда Галич переходит к рассуждениям об ограничениях, которые накладывает на драму ее представление в форме зрелища, он отдает дань уже, казалось бы, отошедшему классицизму и говорит о классицистических трех единствах. Аристотель, как известно, настаивал только на единстве действия и допускал единство времени («трагедия старается, насколько это возможно, вместить свое действие в круг одного дня или лишь немного выйти из этих границ» [4: 54]). По замечанию Н. И. Новосадского, единство времени –
«не принцип, не требование, а вывод, вытекавший из наблюдений над греческой трагедией, при постановке которой на сцене необходимо было подчиняться несовершенству технических условий» [18: 14].
Требования единства места у Аристотеля не было и быть не могло, потому что оно не соблюдалось греческой трагедией. Таким образом, в формулировании требования «трех единств» Галич исходит из той же посылки, что и Аристотель, но действует в контексте классицистической теории.
Аристотель сопоставлял трагедию и комедию по способу подражания, однако противопо- ставлял их по предмету подражания: «комедия <…> есть воспроизведение худших людей» [4: 53], трагедия же «подражание действию важному» [4: 56]. Для Галича трагедия и комедия – это виды драмы, содержанием которой является «бореніе одной воли съ другими, отдѣльной съ общей» (Галич: 187). Именно это «борение» и различает трагедию и комедию. Комедия представляет борьбу «произвола со случаемъ, причудами и глупостями» (Галич: 188), трагедия – борьбу «свободы съ необходимостію или судьбою» (Галич: 188). Таким образом, в основе видового (жанрового) деления драмы лежит тип конфликта, о котором Аристотель не говорил.
Аристотель также не упоминал о судьбе как о части трагедии или той силе, которая оказывает какое-либо действие на ее героев. Источником страдания трагического героя и поворота «из счастья в несчастье» [4: 80], по его мнению, должна быть ошибка героя, то есть его самостоятельное действие, только в этом случае зритель будет испытывать сострадание и страх. Таким образом, если при описании драмы как сценического произведения Галич сближался с классицистическим учением о трех единствах, то в осмыслении источника страдания трагического героя он следовал за немецкой романтической эстетикой, теоретики которой, и в первую очередь Фр. Шлегель, видели в судьбе силу, противостоящую человеку как в античном искусстве, так и в современной трагедии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ранний, предшествующий В. Г. Белинскому, период отечественного литературоведения практически не отрефлексирован филологической наукой. Эта лакуна особенно значима, когда дело касается педагогов, сформировавших несколько поколений отечественных теоретиков. Работы Кошанского и Галича содержат оригинальные литературоведческие концепции и фиксируют интересный период развития российской теории словесности, когда романтическая теория поэзии прорастала сквозь традиции классицизма и просвещения. Однако общей основой всех стилистических и эстетических инвариантов европейской и русской литературной теории – понимания поэзии как творческого восприятия и подражания жизни, осмысления родовой дифференциации поэзии на основании предмета и способа подражания, оптимизирующей функции искусства, – является «Поэтика» Аристотеля, который всеми воспринимается как безусловный авторитет.
Список литературы Рецепция «Поэтики» Аристотеля в работах лицейских учителей А. С. Пушкина
- Аннушкин В. И. Н. Ф. Кошанский - учитель, ученый, ритор, филолог // Кошанский Н. Ф. Риторика / Ред. В. И. Аннушкин, А. А. Волков, Л. Е. Макарова. М.: Русская панорама: Кафедра, 2013. С. 273-286.
- Аннушкин В. И. О национально-культурном своеобразии русских филологических дисциплин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2018. Т. 16, № 1. С. 27-49. DOI: 10.22363/2313-2264-2018-16-1-27-49
- Аннушкин В. И. «Трезвый Аристарх». Н. Ф. Кошанский - филологический учитель А. С. Пушкина // Московский пушкинист-XI. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 284-294.
- Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. М.: ГИХЛ, 1957. 184 с.
- Виноградов В. В. О языке художественной прозы: Избранные труды. М.: Наука, 1980. 360 с.
- Виноградов В. В. Очерки истории русского литературного языка XVII-XIX в. М.: Высшая школа, 1982. 528 с.
- Волков А. А. Риторика Н. Ф. Кошанского в истории культуры слова и мысли // Кошанский Н. Ф. Риторика / Ред. В. И. Аннушкин, А. А. Волков, Л. Е. Макарова. М.: Русская панорама: Кафедра, 2013. С. 263-272.
- Дворецкий А. В. Проблема литературных жанров в русской критике «накануне Белинского» // Жанр и композиция литературного произведения. Историко-литературные и теоретические исследования: Межвузовский сборник. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 1989. С. 22-31.
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики: Этнологические аспекты. М.: Индрик, 2012. 264 с.
- Каменский З. А. И. А. Галич. М.: ИФРАН, 1995. 229 с.
- Лисицин Б. Б. «Философская империя» А. И. Галича как единство онтологии, гносеологии и этики // Социальная онтология и философия образования. СПб.: ООО «Изд-во ВВМ», 2022. С. 96-109.
- Макарова Л. Е. Биография и научно-педагогические труды Н. Ф. Кошанского // Н. Ф. Кошанский Риторика / В. И. Аннушкин, А. А. Волков, Л. Е. Макарова. М.: Русская панорама: Кафедра, 2013. С. 287-310.
- Макарова Л. Е. Николай Федорович Кошанский (1875 (?) - 1831) // Русская речь. 2013. № 1. С. 82-87.
- Макарова Л. Е. Риторическое учение Н. И. Греча как инструмент анализа текста // Вестник Кемеровского государственного университета. 2020. № 22 (4). С. 1098-1106.
- Макарова Л. Е. Труды Н. Ф. Кошанского // Русская речь. 2013. № 2. С. 101-110.
- Макарова Л. Е. Труды Н. Ф. Кошанского // Русская речь. 2013. № 3. С. 93-102.
- Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина. Кн. 1. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1997. 196 с.
- Новосадский Н. И. Введение // Аристотель. Поэтика. Л.: ACADEMIA, 1927. С. 7-37.
- Потапова А. М. Эллинистическая эпиграмма: перевод и рецепция жанра в русской литературе в первой трети XIX века // Русский язык и культура в зеркале перевода. 2021. № 1. С. 357-366.
- Резник Н. Галич - учитель Пушкина // Высшее образование в России. 2003. № 2. С. 121-126.
- Сат К. А. Стилистические особенности «Общей реторики» Н. Ф. Кошанского // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. 2020. № 5 (79). С. 99-107. DOI: 10.25587/a0752-9719-5534-j
- Тальзи О. А. Антропологический аспект философии русского романтизма // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2009. Т. 2, № 1. С. 37-43.