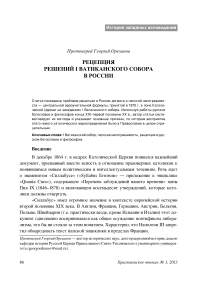Рецепция решений I Ватиканского собора в России
Автор: Ореханов Георгий
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История западных исповеданий
Статья в выпуске: 3 (50), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме рецепции в России догмата о папской непогрешимости — центральной вероучительной формулы, принятой в 1870 г. в лоне Католической Церкви на заседаниях I Ватиканского собора. Используя работы русских богословов и философов конца ХIХ–первой половины ХХ в., автор статьи систематизирует их взгляды и указывает основные причины, по которым восприятие этого нового католического вероопределения было в Православии в целом отрицательным.
I ватиканский собор, папская непогрешимость, рецепция в русском богословии и философии
Короткий адрес: https://sciup.org/140190008
IDR: 140190008
Текст научной статьи Рецепция решений I Ватиканского собора в России
В декабре 1864 г. в недрах Католической Церкви появился важнейший документ, призванный внести ясность в отношение правоверных католиков к появившимся новым политическим и интеллектуальным течениям. Речь идет о знаменитом «Силлабусе» («Syllabus Errorum» — приложение к энциклике «Quanta Cura»), содержащем «Перечень заблуждений нашего времени» папы Пия IХ (1846–1878) и включающем восемьдесят утверждений, которые католики должны отвергать.
«Силлабус» имел огромное значение в контексте европейской истории второй половины ХIХ века. В Англии, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Польше, Швейцарии (т.е. практически везде, кроме Испании и Италии) этот документ однозначно воспринимался как общее осуждение понтификом либерализма, что бы ни стояло за этим понятием. Характерно, что Наполеон III запретил обнародовать текст папской энциклики в пределах Франции.
Публикация папской энциклики означала, что столь значимые понятия, как «свобода», «братство», «свобода совести», «терпимость», «справедливость», «равенство перед законом», «всеобщее избирательное право», «свобода научного исследования» папой либо прямо отвергались, либо требовали серьезного уточнения с точки зрения религиозного мировоззрения. Другими словами, создавалось впечатление, что сами основы гражданского строя исповедующих католицизм европейских государств подвергаются осуждению в своих фундаментальных основах. Очень характерно, что выход в свет «Силлабуса» воспринимался многими современниками, по замечанию известного русского публициста И.С. Аксакова, как акт отлучения от Церкви современной цивилизации 1 . Характерно также, что в названных странах часто мнение папы воспринималось именно как нравственное заблуждение. Известный французский историк проф. Ш. Сеньобос писал по поводу «Силлабуса»: «Он был радостно встречен всеми врагами Церкви, которые называли его объявлением войны со стороны папы всему современному обществу; он раздосадовал правительства, пытавшиеся помешать его опубликованию, и явно смутил либеральных католиков» 2 .
Таким образом, проблема стояла для католической Европы следующим образом: можно ли примирить либерализм и католическую доктрину? Английский исследователь О. Чедвик подчеркивал, что многие важные политические инциденты в Европе этого периода проходили именно под знаком этого вопроса: ирландский конфликт, проблема образования в Бельгии, «Kulturkampf» в Германии, социальные движения во Франции после 1871 г. 3
Представляется, что именно на этом фоне следует рассматривать решения I Ватиканского собора, в рамках которого 18 июля 1870 г. был провозглашен догмат о папской непогрешимости. Учитывая сложную ситуацию в Европе и рост антиклерикальных настроений, особенно в Германии, в политических кругах соответствующей направленности этот догмат получил соответствующую окраску и однозначно был воспринят как своеобразный вызов всему европей- скому общественному мнению. На самом соборе против него выступили многие немецкие епископы, позже изменившие свою точку зрения. В этом смысле характерна реакция Бисмарка, который указывал в одном из циркуляров (14 мая 1872 г.): «Постановления Ватиканского собора превратили епископов в орудие папы, в безответственные органы государя, который в силу догмата о непогрешимости располагает гораздо большей полнотой абсолютной власти, чем какой-нибудь другой монарх в мире»4.
Как же воспринимались решения I Ватиканского собора в России? В рамках представленной статьи важно указать на главные «идейные маяки», те принципиальные аргументы , которые лежали в основе рецепции главных постановлений I Ватиканского собора в России, русском богословии и русской культуре в целом. Хронологические рамки статьи охватывают период около 100 лет — от конца 1860-х годов до первой половины ХХ века.
Русская богословская наука
Русская богословская печать уже в конце 1860-х годов, когда началась непосредственная подготовка к предстоящему собору, проявила большой интерес к главному вопросу, который планировалось на нем обсуждать 5 . Для примера достаточно взять материалы «Христианского чтения» за конец 1869 г. и за весь 1870 г., когда продолжались деяния I Ватиканского собора: практически в каждом номере присутствуют публикации на интересующую нас тему. Каков их характер? В основном это публикация справочно-полемических материалов, связанных с первой реакцией на проекты решений собора и сами решения (в частности, публикация выступлений в печати самых известных противников принятия догмата — кардинала Деллингера, епископов Штроссмайера и Гефе-ле, немецких, английских, голландских протестантов и т. д.).
Кроме того, очень характерно, что даже тогда, когда та или иная статья не имела непосредственного отношения к вопросу о папской непогрешимости, в ней могли встречаться материалы, косвенно связанные с этой проблемой. Ана- лиз материалов русской богословской периодической печати однозначно свидетельствует об огромном интересе к вопросу не только после того, как соответствующее решение на Соборе было вынесено, но и на подготовительной стадии, и в ходе предварительных слушаний.
В целом, можно утверждать, что русские богословы отнеслись к решениям собора (планируемым и реальным) крайне отрицательно. Для примера можно сослаться на одну из первых публикаций, в которой вопрос разбирался с оригинальной точки зрения, это статья прот. Тарасия Серединского в третьем номере «Христианского чтения» за 1870 г. Статья носила характерное название, претендовавшее, по мнению автора, на всеобъемлющую универсальность в охвате вопроса: «Непогрешимость римского папы в учении веры и нравственности христианской перед судом Священного Писания и Священного Предания, церковной истории, самих епископов римских, латинских богословов, западных соборов и здравого смысла» 6 . Автор статьи демонстрирует великолепное знакомство с источниками и историографией вопроса. С точки зрения богословской и церковно-исторической науки, учение о папской непогрешимости:
-
1) не имеет твердого основания в Св. Писании;
-
2) опровергается фактами из церковной истории первых веков христианства;
-
3) было оспариваемо многими латинскими богословами, некоторыми римскими папами и западными соборами в теории, и не оправдано римскими епископами на деле;
-
4) несостоятельно по неопределенности и многоразличности отличительных признаков или условий непогрешимости 7 .
Однако по прошествии нескольких лет отношение к данной проблеме несколько изменилось. И вызвано это было, в первую очередь, опубликованием работ В.С. Соловьева, в которых вопрос о смысле решений I Ватиканского собора был поставлен на несколько иную основу. Принципиальное значение имел следующий аспект проблемы: должна ли Православная Церковь с момента провозглашения догмата о папской непогрешимости воспринимать католицизм именно как ересь?
И здесь следует заметить, что в русских богословских журналах был представлен практически полный спектр мнений на этот счет. В этом смысле очень характерна редакционная заметка в журнале «Вера и разум», опубликованная в 1885 г., в которой указывается: «В самом ли деле мы, восточные христиане, подобно западным, впадаем в ту узкую односторонность, по которой исключительно свою лишь восточную Церковь считаем вселенской? Решительно нет. Мы очень хорошо знаем, что в этом отношении надобно различать два взгляда: взгляд допетровского времени и взгляд после Петра Великого. Если первый взгляд, основывавшийся на недостаточном знакомстве с римской Церковью, считал ее еретической, арианской, несторианской, саввелианской и даже жидовской, то кто же в наше время держится подобных воззрений» 8 .
Именно потому, что обсуждение вопроса о папской непогрешимости реально привело к необходимости рассматривать вопрос в более широком контексте, полемика по поводу выступлений в печати В.С. Соловьева стала столь актуальной в указанное время.
В.С. Соловьев и критика его взглядов на папство в работах Н.Я. Данилевского
Хорошо известно, что восприятие В.С. Соловьевым католицизма неоднократно менялось и в целом было противоречивым и сложным. Следует указать, что до 1881 г. его взгляды на католицизм находились в русле известных концепций Ф.М. Достоевского. Однако после смерти писателя взгляды В.С. Соловьева начинают меняться. В рамках данной статьи нас будет интересовать именно период ярко выраженных симпатий В. С. Соловьева к католицизму, т.к. уже к концу 1880-х годов под влиянием парижских впечатлений и отрицательной реакции парижских иезуитов на его сочинения позиция философа претерпевает некоторую трансформацию. Незадолго до смерти, подводя своеобразный итог своих размышлений на тему церковного авторитета, В.С. Соловьев формулирует отношение к Риму следующим образом: папство — традиционный и законный центр христианского единства, но подчинение ему не должно носить «априорного» и безусловного характера — оно должно опираться на «веру Св. Духа», которая выше любых конфессиональных ограничений, любого «внешнего авторитета» и не закрывает глаза на «латинскую ограниченность», ошибки и недостатки католицизма9.
В первой половине 80-х годов ХIХ века в статьях, опубликованных в «Руси» и в «Известиях С.-Петербургского славянского благотворительного общества», а также в частной переписке, В.С. Соловьев, достаточно неожиданно для своих современников, выступил с энергичной апологией не только решений I Ватиканского собора, но и в целом позиции католической Церкви в истории т.н. «Великого раскола». Уже в 1882 г. в письме И.С. Аксакову В. Соловьев указывает, что, с его точки зрения, главная причина «домашнего недуга» Русской Православной Церкви (имеется в виду старообрядческий раскол) — «общее ослабление земного организма видимой Церкви», пропасть, которая вырыта не Божьими, а человеческими руками 10 . Далее в своих статьях 80-х годов философ намечает последовательную программу решения задачи ликвидации этой пропасти, т.е. преодоления раскола между Востоком (Православие) и Западом (Католицизм) с дальнейшим воссоединением с ними протестантизма. Очень характерно, что указывая на единство западных и восточных христиан в богочеловеческом союзе верующих со Христом и преемство апостольского служения, на единство веры и таинств, философ склонен рассматривать возникшие исторически противоречия как малозначительные эпизоды, которые не имеют принципиального значения по сравнению с фактом существования безусловного церковного авторитета, мощного вероучительно-административного центра (centrum unitatis), объединяющего всех христиан. С точки зрения В.С. Соловьева, восточное христианство явно недооценило значение этого центра, прельстившись искушениями т.н. «византизма». Очень важно также подчеркнуть, что Соловьев разделяет понятия «папство» как выражение в личности римского первосвятителя всей полноты познания богооткровенной истины, и «папизм» как совокупность исторических злоупотреблений в этом процессе 11 .
Эти мысли В.С. Соловьева получили свое логическое завершение в конце 80-х годов ХIХ века в контексте резкой критики Русской Церкви. Идеи В.С. Со- ловьева становятся понятны только с точки зрения его крайне негативного отношения к современной ему церковной действительности в России. Именно поэтому нужно отчетливо осознавать, что те или иные формулировки философа, связанные с его идеей церковного объединения Востока и Запада, вызваны стремлением остановить смерть разлагающегося тела Церкви, оживить «мертвую Церковь» и «казенное Православие»12.
С этой точки зрения вопрос о том, является ли догмат о папской непогрешимости «частным верованием» Католической церкви, или он отражает некие принципиальные пункты расхождения Запада и Востока, и был поставлен в центр полемики с В.С. Соловьевым.
Хорошо известно, что в ХIХ веке взгляды В.С. Соловьева на церковное единство были подвергнуты решительной критике в русской печати. Именно поэтому в одном из писем сам философ назвал себя «единственным защитником католичества» в России 13 . Не останавливаясь на частностях этой критики, отметим точку зрения только одного оппонента философа. Имеется в виду другой известный русский мыслитель — Н.Я. Данилевский. Дело в том, что в этом споре с В.С. Соловьевым Н.Я. Данилевский проявил себя как очень авторитетный и глубокий полемист. Важно также, что в своей критике позиции В.С. Соловьева его оппонент ставит вопрос радикально и по существу: как Православная Церковь должна воспринимать Католическую Церковь после принятия последней решений I Ватиканского собора: «будет ли он [римский католицизм — прот. Г.О. ] считаться нами ересью, расколом, или нераздельною частью вселенской церкви, отделенной от нас лишь прискорбным недоразумением»? 14
Н.Я. Данилевский подчеркивает, что, с его точки зрения, фактически провозглашение догмата о папской непогрешимости есть провозглашение восьмого, ранее неизвестного Церкви таинства, которое возникает на почве торжества западного рационализма. Реально же следует говорить о различии «между православным понятием о непогрешимости собора и между католическим поняти- ем о непогрешимости папы»15, причем первое — «непогрешимость собора» — есть выражение непогрешимости самой Церкви и никогда не дается никакому собору a priori, а подтверждается, быть может, по прошествии довольно продолжительного промежутка времени, в акте рецепции: решение любого собора должно пройти «процедуру» всецерковного признания16 которая фактически отвергается формулировками I Ватиканского собора: провозглашенные папой истины не требуют больше никакой церковной санкции. При этом Н.Я. Данилевский ссылается на хорошо известное «Окружное послание восточных патриархов» от 6 мая 1848 г., в котором подчеркивается, что в Православной Церкви ни патриарх, ни соборы не могли вводить каких-либо догматических новшеств без санкции «народа церковного», т.е. Церкви в ее полноте.
В конечном итоге Н.Я. Данилевский приходит к следующему выводу: «Римская Церковь не может уже теперь почитаться нераздельною частью вселенской Церкви; разделения Церквей, как невозможного, никогда не было, а было отпадение римской Церкви от вселенской, начавшееся с IХ-го века и завершившееся Ватиканским собором…» 17 .
Н.Я. Данилевский отвечает также на принципиальный вопрос, каким образом должно в дальнейшем идти преодоление тех препятствий, которые, как было очевидно и для В.С. Соловьева, существовали и для Православия, и для Католицизма во взаимном общении: нужно «пока стараться устранять эти препятствия к общению, а не закрывать на них глаза и не представлять их себе в ложном свете, ибо в таком же ложном свете будем смотреть тогда и на ту истину, причастниками которой сделались по милости Божией» 18 .
Следует заметить, что в полемике 70-80-х годов ХIХ века нашли отражение практически все важнейшие аргументы и точки зрения, которые впоследствии были в обобщенном виде представлены в сочинениях русских религиозных философов. Кроме того, вопрос о папском примате стал крайне актуальным в контексте зарождавшегося экуменического движения, к которому, как известно, большинство русских философов и богословов, оказавшихся в эмиграции, отнеслось с большим вниманием и участием.
В данной статье целесообразно остановиться на сочинениях трех выдающихся авторов ХХ века, относившихся к католицизму либо с откровенной симпатией, либо с большим интересом — это Л.П. Карсавин, прот. С. Булгаков и Н.С. Арсеньев.
Л.П. Карсавин
В своей небольшой по объему книге «Католичество» 19 , опубликованной в 1918 г., философ уделяет внимание, в частности, и вопросу папской непогрешимости. Подробно рассматривая в своей работе идею церковного единства и союза любви во Христе, которая, с точки зрения Л.П. Карсавина, нашла наиболее полное выражение именно в католицизме, философ указывает, что для последнего всегда был характерен поиск не только мистических, но и конкретных, «видимых» проявлений этого единства. Именно поэтому в католицизме возникает идея неповрежденного хранения Предания, которое осуществляется через конкретный орган , преемственно связанный с апостолами, и этот орган обладает «таинственной силой и властью учительства, властью толкования старых истин и обнаружения новых» 20 . Папство и является именно таким органом, фактически являясь «самим живущим апостольским духом Преданием» 21 . С самого начала существования римской кафедры для Католической Церкви уже фактически нет сомнений в непогрешимости кафедры св. Петра в вопросах веры. И уже в пятом веке в недрах католицизма возникает точка зрения, согласно которой мнение папы выше мнения даже Вселенского Собора. Л.П. Карсавин указывает в своей работе, что именно поэтому решение I Ватиканского собора было логическим выводом не только из традиции католичества, но и из самой католической идеи: «Раз существует видимо истинная Церковь, а в ней истинное учение и орган, хранящий его, необходимо, чтобы решения и мнения этого органа были непогрешимы» 22 .
По мнению Л.П. Карсавина, именно догмат о папской непогрешимости придает католицизму совершенно исключительную жизнеспособность и способность к дальнейшему развитию. Более того, философ само решение I Ватиканского собора на этот счет считал гениальным, а попытки его критиковать — отвлечениями в сторону «внешних и несущественных» сторон учения о непогрешимости папы в вопросах веры: «Догматом непогрешимости папства решается вековая проблема обоснования единой Вселенской Церкви на земле»23.
С.Н. Булгаков
Принципиальный интерес к проблеме папской непогрешимости проявлял также прот. С.Н. Булгаков, один из основателей и первых руководителей Православного богословского института прп. Сергия в Париже. Важно при этом иметь в виду, что сам отец Сергий, уже будучи православным священнослужителем, в начале 20-х годов ХХ века испытал достаточно сильное увлечение католицизмом, которое нашло отражение в его дневнике указанного времени. Именно поэтому для нас важно, как один из самых выдающихся русских богословов ХХ века осмыслил для себя проблему папского примата.
Итоговая позиция прот. С. Булгакова была изложена в его фундаментальной статье в журнале «Путь» в 1929 г. 24 , а затем в обширной работе «Православие. Очерки учения Православной Церкви» 25 .
В статье 1929 г. отец Сергий систематизировал обширную литературу европейских критиков решений I Ватиканского собора, а также материалы русской периодической печати. Общее отношение к месту Ватиканского собора в истории Католической Церкви прот. С. Булгаков выразил следующим образом, подчеркнув: «Последний есть грань в истории католичества, предел, к которому оно стремилось, развивая систему папизма. ‹…› Лишь после этого собора папизм перестал быть только фактом, но сделался догматом, — вопрос был закрыт. ‹…› Это событие имеет величайшую важность для католичества. В нем выявилась и великая сила дисциплины и организации, присущих католическому миру, и великая его слабость, — духовная скованность» 26 .
Выводы о. Сергия из статьи 1929 г. можно кратко обобщить следующим образом:
-
а) сама процедура принятия решения о папской непогрешимости на соборе носила антиканонический характер и противоречила духу соборности, провозглашаемому Символом веры; фактически, как показывают документы собора, опубликованные уже позже, его главные решения были навязаны Церкви анти-соборным путем;
-
б) дух соборного движения в XV веке в Католической Церкви (имеются в виду в первую очередь Базельский и Константский соборы) однозначно свидетельствует, что подобная доктрина была до определенного момента в католицизме одним из возможных мнений, которые подлежали обсуждению и пробле-матизации;
-
в) важно отметить, что о. Сергий подчеркивает не только недопустимость для восточного (т.е. православного) церковного сознания мысли о непогрешимости папы, но и положение об абсолютной, не имеющей никаких ограничений, власти папы над всей Церковью 27 ;
-
г) как исторически, так и догматически, главное решение I Ватиканского собора обладает неустранимыми дефектами, которые пытаются устранить хотя бы частично с помощью заведомо двусмысленных аргументов; самым главным из таких дефектов является как раз то обстоятельство, что догмат о папской непогрешимости, в отличие от ранних догматических определений, не является достоянием априорного опыта Церкви, наоборот, этому опыту противоречит, и поэтому никак не может быть провозглашен именно Вселенским собором;
-
д) ватиканский догмат стал последним и неизбежным выводом «церковного юридизма» и симптомом распада западного христианства, вызванного Реформацией; ватиканское определение является серьезным смещением баланса в идеальной форме «соединение христианской свободы и церковного послуша-ния» 28 ;
-
е) и, наконец, последнее, то, что можно считать аргументом «практического» характера: «До тех пор, пока стоит ватиканский догмат, для православного мира он есть непреодолимое препятствие к искреннему и подлинному движению к воссоединению с католичеством» 29 .
В более поздней работе прот. С. Булгаков формулирует свою точку зрения совершенно определенно: истина в Церкви принадлежит не «индивидуальному папизму» и не «коллективному папизму» (имеется в виду собор епископов), а всей Церкви в ее полноте: «Церковь непогрешительна как Церковь в своей церковности» 30 , а апостольское преемство актуально только для «сакраментального служения, для жреческого», но не для учительства и догматического самосознания, ибо последнее есть достояние всей церковной полноты 31 .
Наконец, большой интерес в исследовании проблемы русской рецепции «Ватиканского догмата» представляют работы известного богослова и философа эмиграции Н.С. Арсеньева. В статье «Православие. Католичество. Про-тестантизм»32 он достаточно подробно останавливается на этой проблеме. Эта статья Н.С. Арсеньева впервые вышла в свет в 1930 г., т.е. всего через год после рассмотренных выше статей прот. С. Булгакова и перед началом Второй мировой войны. Важно указать, что во втором издании книги, опубликованном в 1947 г., автор подчеркивал, что после беспощадной, бесчеловечной и жесточайшей войны, приведшей фактически к разрушению европейской культуры, перед христианским миром с особой силой ставится задача единений во Христе. В этой ситуации, заявляет автор книги, его взор в первую очередь «устремлен к тому, что объединяет христиан, — в большей мере, чем к тому, что их разъ-единяет»33. Н.С. Арсеньев указывает, что догмат о папской непогрешимости, с его точки зрения, является высшим проявлением законнического понимания благодати и самой сущности церковной жизни, и поэтому «отчетливо и определенно разделяет Рим от православного вероучения»34. Главная проблема здесь, с точки зрения автора, заключается в том, что бремя свободы Христовой, бремя соборной ответственности за жизнь Церкви заменяется ответственностью одного лица, а именно — папы. Такой подход превращает Церковь в церковное государство. На место благодатной жизни во Христе встает юридизм, более точно, «некое мистическое приписывание папе всех свойств Церкви», «тенден- ция к некоторому смешению папы со Христом»35. Н.С. Арсеньев подчеркивает, что хотя теория папской непогрешимости является действительно стройной, но она противоречит, с его точки зрения, самой сущности Церкви и является ярко выраженным стремлением «конкретизировать до крайних пределов истину церковную в лице живого папы»36.
Выводы
-
1. Рассмотрение отдельных элементов полемики по поводу решений I Ватиканского собора имело огромное историческое и богословское значение не только для самой Католической Церкви, нои для Православия. Это решение было своеобразным вызовом не только православному богословию, но и всей русской культуре, осознающей себя укорененной в Православии, и в поисках ответа на этот вызов уже в ХХ веке русская богословская наука пришла к важнейшим формулировкам, в первую очередь, связанным с осмыслением столь сложной категории, как понятие «соборность».
-
2. В целом представители русской богословской науки, философы, деятели культуры отнеслись к решениям I Ватиканского собора негативно. Этот негатив был, в первую очередь, связан с тем, что догмат о папской непогрешимости игнорирует реалии двухтысячелетней истории христианства, христианской традиции, не соответствует принципам соборности в ее характерно восточном понимании, игнорировании того обстоятельства, что вероучительная непогрешимость в Церкви принадлежит не одному лицу (папе) и даже не одному коллективному органу (собор), но всей церковной полноте. Попытка возложить бремя свободной ответственности в вопросах веры и нравственности на плечи одного человека, даже столь авторитетного, как римский первосвященник, есть серьезная аберрация фундаментальных принципов церковного бытия.
-
3. Характерно, что даже те авторы, которые могли относиться к католицизму на определенных этапах своей жизни с симпатией, часто выступали с жесткой критикой решений I Ватиканского собора, подчеркивая, что эти решения отныне становятся главным препятствием в деле созидания христианского единства между Востоком и Западом.
-
4. Исключение составляет лишь позиция В.С. Соловьева и Л.П. Карсавина, которые указывали, что догмат о папской непогрешимости дает надежную
основу для церковного единства. Однако здесь обращает на себя внимание определенная «политизированность» доводов В.С. Соловьева, для которого отправной посылкой в поддержке ватиканского догмата стали не столько аргументы богословского и церковно-исторического характера, сколько констатация глубокой ущербности церковно-государственных отношений в России и бессилия официальной церковной власти оказать сколько-нибудь значимое воздействие на церковную жизнь.
Список литературы Рецепция решений I Ватиканского собора в России
- Аксаков И.С. Сочинения. Т. 4: Общественные вопросы по церковным делам. Свобода слова. Судебный вопрос. Общественное воспитание. Статьи из «Дня», «Москвы» и «Руси» и три статьи, вышедшие отдельно. М., 1886.
- Арсеньев Н.С. Православие. Католичество. Протестантизм//Арсеньев Н.С. О жизни преизбыточествующей. Православие. Католичество. Протестантизм. М., 2009.
- Булгаков С., прот. Очерки учения о Церкви. 4. О Ватиканском догмате//Путь. 1929. №15 (февраль).
- Булгаков С., прот. Очерки учения о Церкви. 4. Ватиканский догмат//Путь. 1929. №16 (май).
- Булгаков С., прот. Православие. Очерк учения Православной Церкви. М., 2001.
- Вера и разум. 1885. №3.
- Данилевский Н.Я. Владимир Соловьев о православии и католицизме // Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи» // Сайт «Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи». URL: http://www.vehi.net/danilevsky/ soloviev.html (дата обращения: 07. 12. 2010).
- История ХIХ века. Под ред. профессоров Лависа и Рамбо. Т. 6. М., 1938; Т. 7. М., 1939.
- Карсавин Л.П. Католичество. Пг., 1918.
- Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990.
- Мюллер Л. Владимир Соловьев и католицизм//Мюллер Л. Понять Россию: историко-культурные исследования. М. 2000.
- Соловьев В.С. О христианском единстве. М., 1994.
- Соловьев В.С.Россия и Вселенская Церковь. М., 1911.
- Серединский Т., прот. Непогрешимость римского папы в учении веры и нравственности христианской перед судом Священного Писания и Священного Предания, церковной истории, самих епископов римских, латинских богословов, западных соборов и здравого смысла//Христианское чтение. 1870. №3.
- Chadwick O. The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century. Cambridge, 1975.