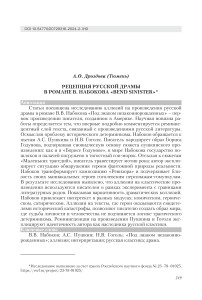Рецепция русской драмы в романе В. Набокова "Bend sinister"
Автор: Дроздова А.О.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию аллюзий на произведения русской драмы в романе В.В. Набокова «Под знаком незаконнорожденных» - первом произведении писателя, созданном в Америке. Научная новизна работы определяется тем, что впервые подробно комментируется реминисцентный слой текста, связанный с произведениями русской литературы. Осмысляя проблему исторического детерминизма, Набоков обращается к пьесам А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Писатель пародирует образ Бориса Годунова, подчеркивая сновидческую основу сюжета пушкинского произведения: как и в «Борисе Годунове», в мире Набокова государство пошляков и палачей погружено в тягостный сон-морок. Отсылая к сюжетам «Маленьких трагедий», писатель травестирует мотив рока: автор эксплицирует ситуацию обнаружения героем фантомной природы реальности. Набоков трансформирует композицию «Ревизора» и подчеркивает близость своих маниакальных героев гоголевским персонажам-гомункулам. В результате исследования выявлено, что аллюзии на классические произведения используются писателем в рамках эксперимента с границами литературных родов. Показывая вариативность драматических коллизий, Набоков привлекает интертекст в разных модусах: комическом, героическом, сатирическом. Аллюзии на тексты, где герои оказываются свидетелями исторической катастрофы, позволяют писателю создать образ мира, где судьба личности и человечества не подчиняется логике трагического детерминизма. Реминисценции на произведения Пушкина и Гоголя эксплицируют идентичность автора как наследника русской классики.
В.в. набоков, а.с. пушкин, н.в. гоголь, «под знаком незаконнорожденных», аллюзия, интерпретация, русская классика, драма
Короткий адрес: https://sciup.org/149146232
IDR: 149146232 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-319
Текст научной статьи Рецепция русской драмы в романе В. Набокова "Bend sinister"
Комментируя «псевдоцитаты» и «осколки» чужих строк в предисловии к роману «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных», 1945– 1946), В.В. Набоков акцентирует мирообразующую роль аллюзий в европейской и американской литературе. Иностранный интертекст романа подробно рассмотрен учеными [Sweeney 1994], [Karshan 2009/2011], тогда как отсылки к русской литературе до настоящего времени не являлись предметом самостоятельного исследования. Отдельные тематические переклички романа, связанные с творчеством К. Вагинова, Е. Замятина, М. Салтыкова-Щедрина, были отмечены Л. Геллером [Геллер 1997, 579].
Однако реминисцентный слой «Bend Sinister» гораздо обширнее, чем было выявлено исследователями. Его особенность состоит в том, что в англоязычном романе присутствуют аллюзии, которые могут быть распознаны русским читателем.
Цель нашего исследования – установить формы рецепции русской драматической традиции в романе «Bend Sinister» в контексте развития писательской историософии. Писатель интегрирует в произведение свой опыт 1) осмысления драмы в лекциях и литературно-критических работах 1940-х гг. («Трагедия трагедии», «Николай Гоголь»); 2) перевода и исследования пушкинских пьес [Shvabrin 2019, 193].
Методология работы опирается на интертекстуальный анализ. Аллюзии на произведения А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя рассматриваются как форма «реконструктивной интертекстуальной работы» [Смирнов 1995, 20]. Каноны трагедии и драмы осмысляются писателем в границах прозаического произведения. В экспериментах с интертекстом Набоков развивает свою поэтику «текстов-матрешек»: русский язык и аллюзии на русскую литературу образуют изнанку мира Падукграда и участвуют в формировании образа «антропоморфного божества»-автора [Набоков 2004, 202].
Пушкинский и гоголевский интертекст романа
История убийства восьмилетнего сына главного героя прислужниками злодея Падука восходит к «Борису Годунову» А.С. Пушкина. В. Деся-тов отмечает ономастические параллели в романе, напрямую отсылающие к пушкинской трагедии [Десятов 1997, 77].
Обращение к пушкинскому контексту связано с проработкой важной для Набокова проблемы «индетерминированности» исторического процесса (см. подробнее [Долинин 2004, 194]). В рецепции Набокова Пушкин является продолжателем шекспировской историософии: как и в «Гамлете» [Набоков 2008, 504], история в «Борисе Годунове» подчиняется не закономерностям трагического детерминизма, а логике сновидения-кошмара.
Чтобы воцариться, и Падуку, и Борису Годунову нужно закрепить свой статус, присвоив чужое слово и знаки власти. Так, географическая карта указывает на то, что владения Бориса необозримы: «Как с облаков ты можешь обозреть / Все царство вдруг: границы, грады, реки» [Пушкин 1948, 43]. Герой объявляет себя наследником царей и совершает символический жест – просит благословения у «почиющих властителей России».
Как и в «Борисе Годунове», в «Bend Sinister» сверхъестественную оптику правителя символизирует карта государства: «первая из показанных комнат вмещала выполненную в бронзе контурную карту страны» [Набоков 2004, 317–318]. Части подвластного правителю пространства отождествляются с органами его тела: стук сердца Падука с помощью специального устройства транслируется по комнатам дворца.
И Годунов, и Падук организуют народные гуляния, стремясь закрепить свое царствование в веках: «сзывать весь наш народ на пир, / Всех, от вельмож до нищего слепца» [Пушкин 1948, 16] – «по всей деревне висят плакаты, призывающие население непринужденно ликовать по случаю восстановления полного порядка» [Набоков 2004, 274]. В «Борисе Годунове» вытесненное за границы празднества событие – убийство царевича – существует как предание народной молвы. В «Bend Sinister» «торжественный» образ Падука противоречит воспоминаниям героев: в детстве он был жертвой издевательств и травли со стороны Круга.
У Пушкина слух, будучи вербализованным, обретает статус исторического события: «К нему толпу безумцев привлечет / Димитрия воскреснувшее имя» [Пушкин 1948, 46]. Также и в романе Набокова оскорбительное прозвище Падука табуировано для других персонажей («я не знаю, кто эта... к кому относится употребленное вами слово или прозвище» [Набоков 2004, 243]), оно звучит из уст Круга в ответ на последнее предложение подчиниться и, как имя царевича в «Борисе Годунове», может магическим образом изгнать правителя («убирайся к черту, грязная Жаба» [Набоков 2004, 391])
Герои, способные противостоять злодею, имеют двойственный статус: они принимают отстраненную позицию наблюдателей, но оказываются участниками исторических событий. Гришке Отрепьеву сулит продолжить дело Пимена – вести летопись. Идея воцарения, как и предвестие разоблачения Гришки, содержится в троекратно повторенном сне: «Мне виделась Москва, что муравейник; / Внизу народ на площади кипел / И на меня указывал со смехом» [Пушкин 1948, 19]. Соглашаясь принять сон за правду, Гришка воплощает и параноидальные кошмары Бориса, которому «тринадцать лет сряду» снится «убитое дитя» [Пушкин 1948, 49]. Весь мир «Бориса Годунова», включая интервентов и царя с его подданными, погружен в сон-морок.
В «Bend Sinister» совмещение ролей отстраненного наблюдателя и участника истории представлено через смену точек зрения рассказчика и героя. По наблюдению О. Ворониной, ключевым событием, «ходом коня» в романе является переход героя в реальность автора [Воронина 2023, 414]. В эпизоде, где Круг размышляет о новом философском труде, используется несобственно-прямая речь: «я смог бы начать писать ту неведомую мне вещь, которую я хочу написать; неведомую, если не считать нечеткого очерка, похожего формой на след ноги» [Набоков 2004, 332]. Овальный очерк имеет лужа за окном рассказчика, которая «просачивается» в мир Круга [Набоков 2004, 399]. Персонифицированный рассказчик, представляющийся в финале создателем Круга, перенимает фразеологическую, оценочную и пространственную точку зрения участника истории, героя.
И в «Борисе Годунове», и в «Bend Sinister» пробудить героев от забвенья способна возлюбленная. Готовясь к встрече с Мариной Мнишек, Отрепьев замечает, что утрачивает способность к притворству: «Любовь мутит мое воображенье» [Пушкин 1948, 58]. Пушкинская цитата разворачивается Набоковым в два автономных сюжета.
Во-первых, параллель с Мариной Мнишек прослеживается в имени любовницы Круга – Мариэтты или Марихен. Как и Гришка, соблазненный Круг лишается способности фантазировать. В 16 главе, после того как
Мариэтта флиртует с Кругом, герой теряет вдохновение: «к несчастью, потребность писать неожиданно расточилась» [Набоков 2004, 360]. Последующий арест Круга может интерпретироваться фаталистически – как его наказание за измену, и с точки зрения логики сновидения – как возвращение к подлинной возлюбленной Ольге.
Во-вторых, как и в «Борисе Годунове», в «Bend Sinister» любовь рассеивает иллюзии. В отличие от плотского чувства к Мариэтте, любовь к Ольге выходит за границы смертной жизни героя. В 9 главе Круг представляет Ольгу девочкой, которая несет на руках бражника. Образ бражника присутствует в последней главе и связывает гротескный мир Круга и «сравнительный рай» рассказчика («добрая ночь, чтобы бражничать» [Набоков 2004, 399]). Если у Пушкина любовь к Марине заставляет Гришку признать себя самозванцем, то любовь Круга высвечивает иллюзорность мира палачей и его подчиненность творческому замыслу автора.
В рецепции Набокова «Борис Годунов» Пушкина – гениальное произведение о том, как идея-фантом оказывает влияние на историю целого государства. Набоков не просто заимствует пушкинские сюжеты, но переосмысляет важную для классика тему человеческой страсти, нарушающей законы естества. С этой темой связаны отдельные образы и мотивы «Bend Sinister», отсылающие к «Маленьким трагедиям» Пушкина.
Чертами Барона из «Скупого рыцаря» и гоголевского Плюшкина наделяется второстепенный персонаж – бывший чиновник, скрывающийся в помещении лифта: «прежний чиновник, настоящий ancien regime старого закала, сумел избегнуть ареста, а то и чего похуже, улизнув из своей благопристойной плюшево-пыльной квартиры по улице Перегольм. <...> Он был барон» [Набоков 2004, 311]. Плюшкина, Барона и персонажа «Bend Sinister» объединяет страсть к стяжательству: проживая в лифте, барон «мог показать такие, к примеру, приспособления, как спиртовая лампа или брючный пресс» [Набоков 2004, 311]. В рецепции Набокова пушкинский Барон – такой же абсурдный персонаж, как и Плюшкин из сонма «раздувшихся мертвых душ, принадлежащих пошлякам и пошлячкам» [Набоков 2004, 454]
Героиней-пошлячкой в «Bend Sinister» является сестра Мариэтты Линда, участвующая в арестах друзей Круга. Как и ветреная актриса Лаура из «Каменного гостя», Линда связана с музыкой и актерством: Круг принимает Линду и ее любовника Густава за актеров. Фамилия Линды Бахофен является «гибридом» фамилий немецких музыкантов (Бах и Бетховен).
Роман содержит аллюзию на сцену поединка Дона Гуана с Доном Карлосом. И в трагедии Пушкина, и в романе Набокова убийство любовника происходит в доме героини, которая остается равнодушна к преступлению: «я говорю, парни, я не желаю смотреть, как вы это будете делать, и не желаю тратить весь день на уборку» [Набоков 2004, 371] – «Что там? / Убит? прекрасно! в комнате моей! / Что делать мне теперь, повеса, дьявол? / Куда я выброшу его?» [Пушкин 1948, 150]. И в произведении Пушкина, и в «Bend Sinister» появлению рокового «гостя» (комиссара Линды и Командора) сопутствует нарушение героями супружеской верности.
Набоков травестирует сюжет «Каменного гостя» и нивелирует трагическую тональность пьесы. У Пушкина судьбоносным оказывается явление Командора в дом изменницы Донны Анны; в романе Набокова, напротив, к героям для ареста приходят сами соблазнительницы. Если Дон Гуан, нарушая порядки куртуазного культа, навлекает на себя рок, то в «Bend Sinister» арест персонажей оценивается как обыденное происшествие. Набоков акцентирует абсурдность «рокового» события: в отличие от мира «Каменного гостя», в Падукграде не существует сил, которые могли бы уничтожить Круга.
Реминисцентный слой «Маленьких трагедий» Пушкина обнаруживается в финале романа, где Круг, подобно Вальсингаму из «Пира во время чумы», убеждает арестантов не бояться смерти.
Как и в пьесе Пушкина, где герои пируют на улице, в романе Набокова мир, лишенный равновесия, изображен посредством совмещения пространств: место расстрела у «закопченной стены» оказывается школьной детской площадкой («его свояченица сидела на качелях») и театральной сценой («несколько дурно одетых мужчин и женщин “представляли заложников”» [Набоков 2004, 393]). Знаком хаоса, нарушения мироздания у Пушкина и Набокова является мебель, оказавшаяся за границами дома: «в кресле, только что вынесенном для него из дома, сидел, раздвинув ляжки, Падук» [Набоков 2004, 396]. В трагедии Пушкина от мертвеца Джаксона остаются вынесенные на улицу стулья. Пушкинская аллюзия указывает на то, что Па-дук, восседающий посреди разрушающегося мира, является мертвецом (см.: «пусть похоронщик слегка его приукрасит» [Набоков 2004, 319]).
Перед смертью Круг, как и Вальсингам, ощущает, что вскоре воссоединится с умершими женой и сыном: «все, что он чувствовал, – это неспешное погружение, сгущение тьмы и нежности» [Набоков 2004, 391]. Валь-сингаму не остается ничего иного, как поддаться стихии чумы и восславить ее, проявив мужество. В отличие от пушкинского героя, Круг может спастись, остановив расстрел. Протест Круга против смерти заключается в том, что он отрицает возможность гибели своей личности.
Если у Пушкина «гимн чуме» – этап последовательного развития культурной истории, финальной точкой которой является хаос чумы, то Набоков высвечивает относительность не только культурной истории, но и категории темпоральности. В финале романа, после смерти Круга, синхронизируются два временных отрезка: время действия романа, составляющее около двух месяцев, и день из жизни рассказчика (более подробно нелинейное время романа анализирует [Grishakova 2000, 255]). Освободившись от оков смерти и презрев детерминизм истории, Круг обретает свою «метаисторическую судьбу» (см. понятие [Долинин 2004, 188]).
Временные парадоксы романа связаны не только с пушкинскими текстами, но и с гротескным миром «Ревизора» Н.В. Гоголя, реминисценции к которому образуют кольцевую композицию произведения. В первой главе реплику Городничего повторяет президент университета Азуреус: «я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам о некоторых пренеприятных обстоятельствах» [Набоков 2004, 241]. Как и в «Ревизоре», над героями нависла угроза: университет будет закрыт, если руководство не подаст Па-дуку ходатайство о возобновлении работы учреждения. Персонаж, которого чиновники Гоголя и ученые Набокова принимают за «государственного призрака», оказывается мошенником.
Аллюзия на гоголевского «Ревизора» присутствует в финале романа, где приводится «немая сцена» – фотография Падука среди подданных и заключенных. В «Ревизоре» центром сцены является фигура городничего, вокруг которого сосредоточены другие персонажи. Мимика и жесты героев передают реакцию на слова жандарма о приезде настоящего ревизора. Композиция экфрасиса в «Bend Sinister» организована по противоположному принципу. Присутствуют две точки фокусировки: с правой стороны – «малютка-диктатор» и окружающие его старейшины, слева – фигура «маячившего» Круга.
Переданная на фотографии сцена отличается эклектичностью [Набоков 2004, 396]. Торжественное изображение диктатора нарушает вошедшее в кадр граффити («уцелела надпись мелом, непечатное слово»). Совмещаются детали полотен супрематистов («лицо его <...> было как тускло-розовое пятно» – ср. К. Малевич «Торс (фигура с розовым лицом)») и парадного портрета («величественная особа в медном нагруднике и широкополой черного бархата шляпе»). Используются мотивы религиозной живописи: «босиком, словно древний святой, маячил Круг», «старик завалился, и жена его, встав на колени, обертывала ему ноги своей черной шалью» – поза, отсылающая к живописному сюжету положения Христа во гроб.
В книге «Николай Гоголь» (1944) В. Набоков характеризует сюжет «Ревизора» как «мгновение между вспышкой и раскатом» [Набоков 2004, 434]. В романе «Bend Sinister» писатель использует этот драматический принцип как композиционный прием: повествование начинается с мерцающего пейзажа, который Круг видит за окном («сияние солнца», «блеск лужи», «яркое холодное солнце» [Набоков 2004, 203]), и завершается вспышками фотоаппарата и выстрела («часть его головы <...> взорвалась языками пламени» [Набоков 2004, 398]). «Тень государственного призрака» у Гоголя и Набокова – пародия на трагедийный мотив «бога из машины», который восстанавливает нарушенный миропорядок. Как и «Ревизор», где в финале «возникает еще один фантом: гигантская тень настоящего ревизора» («Николай Гоголь», [Набоков 2004, 398]), «Bend Sinister» завершается появлением художника, истинного законодателя мира романа.
Заключение
Обращаясь к драматической традиции, писатель акцентирует в ней жанровый парадокс: не рок определяет судьбу героев, но авторское представление об устройстве судьбы и истории. Для того, чтобы показать вариативность развития драматической коллизии, Набоков обращается к литературному контексту в разных модусах: комическом («Борис Годунов», «Ревизор»), героическом («Пир во время чумы»), сатирическом («Каменный гость», «Скупой рыцарь»).
В рецепции Набокова историософская проблема «родового наследия» и «отпадения от рода» [Беляк, Виролайнен 1991, 95–96], актуальная для европейской традиции драмы, решается в границах индивидуального сознания. Историческая катастрофа, представленная в драматическом тексте как фатум, рок, воспринимается писателем как ситуация срыва покровов, высвечивающая неподвластность мира любым интерпретационным моделям – «хаос мнимостей» («Николай Гоголь» [Набоков 2004, 504]).
Пародируя драматические сюжеты о мире, лишившемся гармонии, Набоков утверждает индивидуальное сознание как культурную ценность. Опыт свидетельства исторической катастрофы и для Набокова, и для его героя Круга актуализирует проблему хрупкости человеческой жизни. В финале романа смерть Круга, не обрывающая повествования, но высвечивающая «отпечаток, который мы оставляем в тонкой ткани пространства» [Набоков 2004, 399], – доказательство свободы художника от исторического детерминизма.
Список литературы Рецепция русской драмы в романе В. Набокова "Bend sinister"
- Беляк Н.В., Виролайнен М.Н. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина как культурный эпос новоевропейской истории. (Судьба личности - судьба культуры) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 14. Л.: Наука, Ленинград. отделение, 1991. С. 73-96.
- Воронина О. Тайнопись: Набоков. Архив. Подтекст. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023. 584 с.
- Геллер Л. Художник в зоне мрака: «Bend Sinister» Набокова // В.В. Набоков: Pro et Contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. Т. 1. СПб.: Издательство РХГИ, 1997. С. 573-584.
- Десятов В.В. Сальваторы и вальтосары: автобиографический подтекст темы короля и самозванца в творчестве В. Набокова // Культура и текст. 1997. № 1. С. 77-79.
- Долинин А.А. Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове. СПб.: Академический проект, 2004. 400 с.
- Набоков В.В. Американский период. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. СПб.: «Симпозиум», 2004. 608 с.
- Набоков В.В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. СПб.: Азбука-классика, 2008. 640 с.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 7. Драматические произведения. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 395 с.
- Смирнов И. П. Порождение интертекста (Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака). СПб.: Языковой центр СПб-ГУ, 1995. 189 с.
- Grishakova M.V. Nabokov's "Bend Sinister": A Social Message or an Experiment with Time? // Sign Systems Studies. 2000. № 28. P. 242-263.
- Karshan T. Nabokov's "Homework in Paris": Stéphane Mallarmé, Bend Sinister, and the Death of the Author // Nabokov Studies. 2009/2011. Vol. 12. P. 1-30.
- Shvabrin S. Between Rhyme and Reason. Vladimir Nabokov, Translation, and Dialogue. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2019. 419 p.
- Sweeney S.E. Sinistral Details: Nabokov, Wilson, and Hamlet in Bend Sinister // Nabokov Studies. 1994. Vol. 1. P. 179-194.