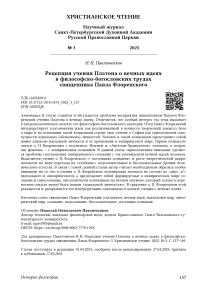Рецепция учения Платона о вечных идеях в философско-богословских трудах священника Павла Флоренского
Автор: Павлюченков Н.Н.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится и обсуждается проблема восприятия священником Павлом Флоренским учения Платона о вечных идеях. Отмечается, что особый интерес эта тема вызывает в антропологическом аспекте его философскобогословского наследия. Отец Павел Флоренский интерпретирует платоновские идеи как реализованный в вечности творческий замысел Бога о мире и на основании такой концепции строит свое учение о Софии как единосущной совокупности идеальных (обоженных) личностей. Человек в такой концепции представляет собой живое единство идеальной личности и ее проявления в эмпирическом мире. Первая отождествляется о. П. Флоренским с ноуменом, Именем и «АнгеломХранителем» человека, а второе, как феномен, — с эмпирическим сознанием. В данной статье первостепенное внимание уделяется проблеме соотношения эмпирического сознания с так понимаемой вечной идеей человека. Выделяется учение о. П. Флоренского о «потенциях сознания» и росте энергетической напряженности по мере перехода на «глубокие» подсознательные и бессознательные уровни человеческого естества. В связи с темой данной статьи автор считает необходимым обратить особое внимание на то, что в учении о. П. Флоренского человеческая личность не состоит из «двух „я“» (идеального и эмпирического), а представляет собой формируемые в эмпирическом мире сознание и самосознание, онтологически основанные на вечном ноумене, который только в переносном смысле может быть назван «идеальной личностью». В трактовке о. П. Флоренским этой реальности и раскрывается его интерпретация платонизма в аспекте учения о вечных идеях.
Священник Павел Флоренский, платонизм, вечная идея, идеальный мир, эмпирический мир, сознание, подсознание, бессознательное, потенции сознания
Короткий адрес: https://sciup.org/140312300
IDR: 140312300 | УДК: 1(470)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_157
Текст научной статьи Рецепция учения Платона о вечных идеях в философско-богословских трудах священника Павла Флоренского
17.05.2025.
Тема платонизма в философско-богословском наследии свящ. П. Флоренского, как кажется, уже исчерпывающим образом раскрыта и что-либо принципиально новое в этом отношении сказать уже почти невозможно. В исследовательской литературе обсуждались и многие частные аспекты этой темы, такие как, например, предельное сближение христианства и платонизма в трудах о. П. Флоренского [Хоружий, 2001, 540], «персонализация платонизма» [Шапошников, 2011], отношение Флоренского-платоника к экзистенциальной философии [Визгин, 2007], «мистическая связь» на основе платонизма между о. П. Флоренским и В. С. Соловьевым [Едошина, 2020].
Отец Павел Флоренский сам оставил немало свидетельств своего восприятия философии Платона и понимания той роли, которую она сыграла в духовной истории человечества. Платонизм для него — это прежде всего «могущественное духовное движение» (Флоренский, 1999, 68), «духовное устремление^ от земли к небу» (Флоренский, 1999, 70); отражающее и выражающее опыт причастности человека к вечной реальности, на уровне которой человеческое «я» преодолевает границы своего «эгоистического обособления» и ощущает себя «единым со всем миром» (Флоренский, 2000а, 146). Истоки платонизма, по мнению о. П. Флоренского, обнаруживаются в древних мистериях, в которых лежащие в основании бытия вечные ноумены оказывались непосредственно явленными и созерцаемыми (см.: (Флоренский, 1999, 132–134)). Придав платонизму образ «цветка народной души» (Флоренский, 2000а, 147), о. Павел тем самым выразил свое понимание его отношения к последующему историческому откровению христианства (образ цветка предполагает опыление для принесения плода и появления семян новой жизни) и сохранил это понимание на всем пространстве своих как ранних, так и самых поздних философско-богословских концепций (см. об этом: [Павлюченков, 2020]).
Но вместе с тем вся оригинальность интерпретации о. П. Флоренским платонизма представляется еще недостаточно оцененной, и это относится прежде всего к его трактовке платоновской идеи. Более всех на этот момент у о. П. Флоренского обратили внимание Н. О. Лосский и А. Ф. Лосев, но и они, по большому счету, ограничились достаточно краткими замечаниями. Н. О. Лосский, очевидно, нашел определенные созвучия своей концепции «субстанциональных деятелей» в том, как, по его мнению, о. П. Флоренский пытался представить идеи Платона, а именно — сверхчеловеческими «живыми конкретными личностями» [Лосский, 1991, 244]. «В Новом Завете, — писал Н. О. Лосский, — личные идеи воплотились в ангелов или в гениях отдельных церквей. Перед философией стоит жизненно важная задача, которая состоит в том, чтобы развить теорию о существовании таких сверхчеловеческих личностей на всех этапах вселенского бытия и в Божием Царстве» [Лосский, 1991, 245]. При этом, как известно, Н. Лосский нашел у о. П. Флоренского учение о человеческой личности как состоящей «из двух я», которые могут отделяться друг от друга и быть обреченными «одно… на вечное мучение, а другое — на вечное блаженство». «Но это, — заключал Н. Лосский, — совершенно невозможно» [Лосский, 1991, 246]. В таком восприятии персоно-логия о. П. Флоренского представлялась явно недоработанной, а ее связь с персонали-стической интерпретацией платоновской идеи до конца не продуманной.
А. Ф. Лосев также обращал внимание на выявленный о. П. Флоренским у платоновской идеи «живой лик», «внутреннюю сокровенную жизнь», что есть, по мнению А. Лосева, то «подлинно новое, почти небывалое», что о. П. Флоренский внес «в мировую сокровищницу различных историко-философских учений, старающихся проникнуть в тайны платонизма» [Лосев, 1993, 692–693]. Критика в данном аспекте сводилась к стремлению о. П. Флоренского распространить свою трактовку идеи как «лика личности» на христианскую икону [Лосев, 1993, 705], точнее — видеть в иконе не образ, возводящий внимание человека к первообразу , а явление самого первообраза , отождествляемого с платоновской идеей.
В обоих случаях, и у Н. О. Лосского, и у А. Ф. Лосева, наряду с восторженным восприятием платонизма о. П. Флоренского, критические оценки касались некоторых важных, и даже можно сказать основополагающих положений антропологии и онтологии. И с этой точки зрения остается возможность и даже необходимость продолжения обсуждения проблемы «платонической» трактовки о. П. Флоренским человеческой личности и, шире, — самого устроения человеческого естества.
Если платоновские идеи дают онтологическое основание всем реальностям этого мира, то идея как «живая конкретная личность» должна лежать и в основании человека. А следовательно, должно быть выяснено соотношение этой «сверхчеловеческой личности» с личностью феноменальной, т. е. личностью, явленной здесь, в этом видимом мире, и воспринимаемой как человеческое «я». Следует поставить и, насколько возможно, разрешить вопрос о допустимости в рамках онтологии и антропологии о. П. Флоренского говорить о «двух „я“» или даже (как может представляться на первый взгляд) о двух личностях («сверхчеловеческой» и «человеческой») в человеке.
I
Как представляется, в контексте данной темы прежде всего необходимо учесть важное христологическое указание о. П. Флоренского, сделанное им в процессе обоснования своей имяславческой позиции. Он предлагает различать Имя Христово и «Самого Христа», т. е., по всей видимости, историческую личность Богочеловека, возникшую на земле вследствие проявления из Божественной вечности Ипостаси Сына Божия. Безусловно, главное имяславческое положение для о. П. Флоренского справедливо и здесь: Имя Христово есть Сам Христос. Но вместе с тем он подчеркивает, что «Христианство есть проповедь Имени Христа и Евангелия, призыв исповедать Имя Христа. А мы подменяем это исповедание Имени исповеданием Самого Христа» (Флоренский, 1990б, 330). Такое указание может исходить только из убеждения в онтологической первичности Имени по отношению к носящей это Имя, сформированной в этом мире личности. Имя и носящая его «историческая» личность есть одно и то же, но при этом Имя — реальность гораздо более высокого онтологического порядка.
И с этой точки зрения то, что справедливо для исторически явленного на земле Богочеловека, может быть отнесено и к каждому человеку. В человеке есть то, что больше его сознания и самосознания. В «Столпе и утверждении Истины» эта реальность была обозначена как вечный «корень», которым не только человек, но и вся тварь уходит в «недра» Божественного бытия. В целом это — совокупность «тварных» триединств, «сотворенных» в вечности идеальных оснований всего видимого мира (Флоренский, 1990а, 91–94). Они онтологически связаны между собой причастием Божественной сущности (Любви) и «простроены» по образу Св. Троицы — «Троицы Абсолютной, которая силою своею, как магнит бахрому из железных опилок, сдерживает всё» (Флоренский, 1990а, 94). Это «едино-сущное целое» представлялось о. П. Флоренскому как существующая от вечности «Церковь или Тело Христово» (Флоренский, 1990а, 94), отождествляемая с «много-единым существом» (Софией), в котором «все — единосущно и все — разно-ипостасно». Это — «единство, осуществляемое вечным актом, подвижное равновесие ипостасей… это — неподвижное движение и движущийся покой» (Флоренский, 1990а, 325). Это — «первозданное естество твари», «Ангел-Хранитель твари, Идеальная личность мира» (Флоренский, 1990а, 326).
В более поздней «антроподицее» о. П. Флоренский не отказался от такой концепции Софии. Во всяком случае, уже после знакомства с богословием энергий свт. Григория Паламы в конце 1912 г. у него был почти ровно год для того, чтобы исправить содержащееся в «Столпе и утверждении Истины» утверждение о причастии Софии самой Божественной сущности. Отец Павел Флоренский принял учение свт. Григория о том, что для твари доступна не Божественная сущность, а только Божественная энергия, но в свое прежде изложенное учение об обожении идеальных оснований твари не внес никаких корректировок. По всей видимости, этот факт находит свое объяснение в трактовке Софии, данной о. П. Флоренским в тексте 1919 г., озаглавленном
«Небесные знамения»: София находится «на идеальной границе между Божественной энергией и тварной пассивностью»; она — «столь же Бог, как и не Бог, и столь же тварь, как и не тварь» (Флоренский, 1996а, 282).
Иначе говоря, обожение по энергии и обожение по сущности в таком случае не должны иметь между собой какой-либо качественной «границы», тем более, что речь идет об обожении в Божественной вечности, при котором, действительно, реальность тварного естества должна быть признана только номинальной (см. подр.: [Павлюченков, 2018]). В данном случае это важно постольку, поскольку все, сказанное о Софии, должно относиться и к составляющей ее системе «идеальных личностей» — ипостасей, объединенных в идеальные триединства. Это — реальности, в которых также нет четкой границы между нетварным и тварным естеством. Они «сотворены» в том же смысле, как в Божественном «Миротворческом Уме» появляются («творятся») мысли — идеи о тварном мире (см.: (Флоренский, 1990а, 328-330)). Реальный (т. е. не идеальный, а реализованный в эмпирии) мир образуется через их проявление из Божественной вечности во временное бытие, и здесь, в этом процессе проявления, уже можно говорить об энергии, которая раскрывает существо.
В поздних работах о. П. Флоренский уделяет особенное внимание онтологической реальности, соответствующей самому первому, энергетически наиболее напряженному уровню проявления. Это Имя — «тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность» (Флоренский, 2000г, 19). И очевидно, что это — то самое обоженное в вечности идеальное основание, о котором идет речь в «Столпе и утверждении Истины». Это — сущность, которая необходимо проявляет себя в своей энергии и только в этом проявлении обретает свою объективную реальность. За первым и энергетически наиболее мощным проявлением (в Имени) следуют другие, осуществляемые в сферах, которые о. П. Флоренский в одном месте перечисляет, представляя как «мистическую», «оккультную», «социальную», «психическую» и «физическую». Результат проявления в этих сферах он называет «телами», оформляемыми духовной сущностью (Флоренский, 2000г, 52-53). Они имеют разный уровень энергетической напряженности и, кроме того, на каждом из них энергия более «высокого» уровня (что, очевидно, соответствует более отрицательным «потенциям сознания») смешана, «срощена» с энергией более «низкого» порядка (Флоренский, 1990в, 287). Такие обозначения этих уровней проявления, как «мистический» и «оккультный», должны указывать на их нахождение где-то на подсознательной «глубине» человеческого естества. Обычное сознание в этой схеме, по всей видимости, должно формироваться где-то на «психической» и (или) «физической» сферах бытия, которые должны быть признаны носителями энергий самого низшего уровня и, соответственно, наименее энергетически напряженными.
II
В этом аспекте антропология о. П. Флоренского пересекается с областью исследований З. Фрейда и его последователей, но при этом сразу же расходится с их позицией в самих своих основах. Отец Павел Флоренский крайне негативно оценивал методику современного ему психоанализа, отмечая, что она относится к церковному таинству Исповеди как черная месса к Божественной литургии (см.: (Флоренский, 2000б, 419)). И есть основания полагать, что мотивирована такая оценка была не только (и даже не столько) соображениями христианского мыслителя и священника, обличающего измышляемые секулярным обществом суррогаты религиозно-культовых действий. Еще в «Столпе и утверждении Истины» о. П. Флоренский выразил свое понимание должного состояния человеческого естества, которое можно назвать его «упорядоченностью» и «слаженностью». В человеке есть нечто, чему не только «прилично», но и необходимо быть «во мраке» подсознательной (или вовсе бессознательной) области. И, соответственно, вмешательство в этот внутренний порядок, «подъем на вершину сознания всего того, чему прилично быть в полу-мраке подсознательной области, — или, что то же, — нисхождение сознания в таинственный сумрак корней бытия», приводит к формированию «развороченной» человеческой личности (Флоренский, 1990а, 181–182), которая не только не находит решения своих психологических проблем, но становится поврежденной на самом онтологическом плане своего бытия.
Возможно, не соглашаясь с самой интенцией исследований и практики З. Фрейда, о. П. Флоренский мог бы принять некоторые моменты, которые и через психоаналитические методики, в принципе, могли бы способствовать осознанию человеком определенных своих внутренних проблем. Но в данном случае, при неясности этих вопросов для психоаналитика, можно, по известной поговорке, вместе с водой выплеснуть и ребенка и нарушить (а в пределе — разрушить) то, что, с точки зрения о. Павла, является самим онтологическим «порядком» естества.
В этом очень важном моменте о. П. Флоренский проявляет себя как платоник, предостерегающий от невежественного вторжения в онтологические реальности, где идут скрытые процессы, обеспечивающие само существование и всю жизнь человека в этом мире. Эти процессы не поддаются рациональному осмыслению и становятся понятными только в том результате, в котором они сами вышли на уровень сознания. В записях «Воспоминаний», относящихся к концу 1923 г., свое представление об этом о. П. Флоренский передает в виде свидетельства о собственных личных ощущениях, испытываемые при размышлении над чем-либо. Вне зависимости от того, какие вопросы при этом занимали сознание, «на большой глубине», пишет он, шла сама собой работа некоей не логической мысли , подготавливающей свое облачение в слово . Когда такая глубокая внутренняя работа заканчивалась, слово, как ее результат, возникало в сознании внезапно, вне всякой логической связи с другими словами. «Оно, — пишет о. П. Флоренский, — возникало в сознании как чуждое ему и, вместе с тем, как заветное и защищаемое с гораздо большей искренностью, чем все остальное». «Оно было родным и хорошо знакомым» (Флоренский, 1992, 213).
Отец Павел Флоренский ничего не говорит здесь о непосредственной связи деятельности сознания с совершающейся в «глубине» человеческого естества работой и ее результатом. Но из его описания можно видеть, что от сознания требуется по крайней мере размышление , которое, начавшись, может пойти в какую угодно сторону. Результат внутренней работы, в принципе, от направления сознательных размышлений не зависит и являет собой нечто «чуждое» только для сознания как такового. Обусловленное реальностями, лежащими во внутренней «глубине», сознание без колебаний принимает полученное из этой «глубины» слово, которое, по процессу его получения, можно сравнить с откровением, очень близким к тому, какое имел в виду Н. А. Бердяев. Различие только в одном важном моменте, связанном с представлением Бердяева о развитии (не на индивидуальном, а на общечеловеческом уровне) религиозного опыта и развитии религиозной догматики. В этом смысле у Бердяева «антропологическое откровение» является новым , приносящим новое знание и дающим новый религиозный опыт, а у о. П. Флоренского все, что получает человек в эмпирическом мире, уже изначально дано в его собственном естестве и эта данность лишь постепенно им осознается.
Достаточно много места в «Воспоминаниях» о. П. Флоренский уделил словесному выражению своего опыта «припоминания» по Платону. В платоновском мифе вечная основа человека, именуемая душой, потерявшей «крылья», ниспадает из мира идей в материю, предварительно испивая из «реки забвения» (Федр. 246в–248е; Государство. 614е–621е). В «Столпе и утверждении Истины» о. П. Флоренский оформляет свою концепцию «вечного предсуществования» идеальных оснований тварного мира и, как представляется, совсем не убедительно пытается доказать ее принципиальное отличие от осужденного Церковью аналогичного учения Оригена (см. подр.: [Павлюченков, 2013, 68–70]). В данном случае важно указание на то, что «Церковь, личность и т. д.» в определенный момент появляются в этом мире из Вечности (см.: (Флоренский, 1990а, 340–341)) как реальности, абсолютно новые только для бытия, развернутого во времени и в привычном для нас трехмерном пространстве. Для поздних работ о. Павла в этом отношении, как уже отмечалось, более характерен термин «проявление духовной сущности», причем сам акт «проявления» представлен там как совершенно необходимый для ее действительного бытия (см.: (Флоренский, 1992, 155)). С точки зрения такой метафизики рождение человека на земле есть акт проявления вечной «духовной сущности» в материи и, буквально, — «приход» в наш мир «вестника» из мира иного. Вполне исчерпывающим образом свои убеждения в этом вопросе о. П. Флоренский раскрывает, описывая переживания, связанные с рождением первого сына Василия (родился 3 июня 1911 г.). Он утверждает, что «чувствовал» его еще до рождения (Флоренский, 1990г, 21), а в самые первые месяцы его жизни однажды внезапно в его глазах встретился со взглядом «сверхсознательным»: «Васиными глазами, — пишет о. Павел, — смотрело на меня не его маленькое, несформиро-ванное сознание, а какое-то высшее сознание, большее меня, и его самого, и всех нас, из неведомых глубин бытия. А потом все прошло, и предо мною снова были глаза двухмесячного ребенка» (Флоренский, 1992, 88).
На убеждениях подобного рода основано представление о. Павла об особой значимости для человека периода его самого раннего детства. В этот, самый начальный период «проявленного» состояния мистическое забвение как бы еще не действует в полную силу. Именно поэтому ребенок в возрасте 3–6 лет бесконечно мудрее самого премудрого взрослого и «владеет абсолютно точными метафизическими формулами всех запредельностей» (запись апреля 1923 г.) (Флоренский, 1992, 74). О себе о. П. Флоренский пишет, что после детских «припоминаний» (Флоренский, 1992, 49) вся последующая жизнь не открыла для него ничего нового (см.: (Флоренский, 1992, 74)). То, что нужно было не «вспомнить», а именно узнать (например, слова иностранных языков, исторические даты, географические сведения), давалось ему с величайшим трудом и быстро забывалось (см.: (Флоренский, 1992, 191)).
В опыте «припоминания» «весь мир имел в себе внутреннюю игру глубины» (Флоренский, 1992, 59-60), но особо выделялось море. И если для С. Н. Булгакова морское волнение олицетворяло «бессильный психологизм» и «дурную бесконечность» (Переписка, 2001, 112), то о. П. Флоренский в «рокоте моря» слышал «звук... возникающий в рождающих недрах бытия» (Флоренский, 1992, 52). На берегу моря он «чувствовал себя лицом к лицу пред родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью, из которой все течет и в которую все возвращается» (Флоренский, 1992, 50). Неосознаваемые переживания такого рода, по мнению о. Павла, преломились в материалистическом мировоззрении эволюционистов и выразились в их гипотезе о происхождении всей жизни на земле из моря (см.: (Флоренский, 1992, 51)). Это замечание, по существу своему, должно означать утверждение универсальности характера познания как «припоминания»: из мистической глубины человеческого естества «родимая» Вечность посылает свои «сигналы» в каждое индивидуальное сознание, которое воспринимает их по-разному, в соответствии с приобретенным здесь, в этом мире, устроением.
В своем случае, описывая поразивший его в юности мировоззренческий кризис (Флоренский, 1992, 217–239), Флоренский отмечал: «Происходившее со мною, или, точнее, происходившее во мне, коренилось в полусознательной области и не имело для себя внятных слов, следовательно, — и подходящих форм мысли. Это были удары из глубокого центра и потому, несмотря на всю их силу, глухие. Лишь ряд их расшатал крепко сложенную кору сознания, и тогда новая сила вышла наружу (подчеркнуто мной. — Н. П. )» (Флоренский, 1992, 238-239). Здесь замечательны образы крепко сложенной и потому плохо пробиваемой «коры» сознания и ударов, идущих из «глубокого центра». Следуя данным образам, можно сказать, что, в зависимости от качества и толщины «коры», идущее из глубины «откровение» (акт платоновского «припоминания») может в ней как-то «задержаться» и претерпеть различные искажения, обусловленные характером уже устоявшегося («крепко сложенного») мировоззрения.
Во всяком случае, хорошо просматривается предпосылка, всегда для о. П. Флоренского бывшая очень важной: все «психологизмы», все ведущие к заблуждениям субъективные пристрастия возникают и остаются на онтологической «поверхности», не затрагивая «глубину». И при этом «глубина» — всегда энергетически более напряженная, более «полнобытийная» (Флоренский, 1990а, 340), чем образованное на «поверхности» сознание. Реальность сознания лежит на периферии бытия, также как и сознающее себя в этом мире человеческое «я». Именно поэтому, в восприятии о. П. Флоренского, на «глубине» происходят «ужасные таинства природы», вход сознания в эту область сопровождается встречей с охраняющими ее «нечеловеческими ужасами» (см.: (Флоренский, 1992, 32-34)). Человек здесь, на земле, с его эмпирическим сознанием, не может выдержать длительного прямого созерцания иногда приоткрывающейся ему «глубины».
В 1913 г. в академическом «Богословском вестнике» о. П. Флоренский опубликовал свою статью «Пределы гносеологии», составленную по материалам его первых лекций в МДА (1908-1909). Она замечательна приведенным в ней описанием мистического опыта погружения сознания в различные «плоскости подсознательного». При этом переход на более глубокий уровень «сопровождается ощущением подъема, восхождения, выплывания… вынесения каким-то потоком». Постепенно «угасающее» сознание как бы «выскакивает» в области, где идут недоступные для него неосознаваемые процессы, тем более интенсивные, чем более глубок уровень (или «слой») погружения (см.: (Флоренский, 1996б, 58–59)).
Опыт обратного «движения» описывается в терминах «увлечения водоворотом», «низвержения», «падения», что соответствует, по убеждению о. П. Флоренского, действительным переживаниям процесса «увеличения» сознания. Окончательное возвращение к обычному сознанию сопровождается как бы оглушительным «ударом» и забвением всего виденного (см.: (Флоренский, 1996б, 58–59)). И о. П. Флоренский не только принимает этот опыт как несомненно объективный (и, следовательно, воспроизводимый), но и предположительно связывает его с той мистикой, которая была выражена в мифе «о забвении горнего мира, когда душа, низвергаясь в сей мир, ударяется о материю» (Флоренский, 1996б, 59).
Все это означает, что «низвержение» вечной идеи в материю, происходящее при рождении человека в этом мире, и мистический опыт «удара» при возвращении из подсознательных и бессознательных «глубин» к обычному сознанию — явления одного и того же порядка. В обоих случаях совершается переход от более «полнобытийных» уровней реальности к находящемуся на периферии бытия обычному человеческому сознанию. И в обоих случаях происходит «забвение», поскольку в сознание все виденное принципиально не вмещается и постигается только в актах «припоминания» и пробивания «коры» сознания, о котором, исходя из интерпретации своего личного опыта, писал о. П. Флоренский.
В обычном порядке сформированная на «глубине» информация сама приходит (или вторгается) в сознание (см.: (Флоренский, 1996б, 56)), а в мистическом опыте возможно целенаправленное проникновение из сознания в «глубину» с возвращением обратно. Так, согласно о. П. Флоренскому, «припоминание» и внезапные прозрения могут быть дополнены мистическими постижениями. Но в контексте данной темы существенное значение имеют не гносеологические концепции о. П. Флоренского и не трактовка им особенностей мистических опытов (см.: (Флоренский, 1996б, 58)), а восприятие той онтологической «глубины», относительно которой человеческое сознание лежит на «поверхности».
В цикле лекций 1917 г. «Воплощение формы (Действие и орудие)» у о. П. Флоренского обозначена ось «потенций сознания», в которой на нулевой отметке присутствует «непосредственная реальность» видимого мира и физической (грубо вещественной) организации человека. Это — уровень обычного сознания, относительно которого положительные значения на этой оси соответствуют постепенной утрате реальности, а отрицательные — погружению «нас в самих себя, давая реальности всё более высоких порядков… чем то, что мы обычно называем нашим телом». С более высокими реальностями связаны уровни более тонкие, более энергичные и более творческие (Флоренский, 2000в, 438).
Погружение в скрытую онтологическую основу в «свете» обычного сознания страшно и невыносимо, прежде всего потому, что в таких случаях происходит мистическое соприкосновение с уровнями гораздо большей энергетической интенсивности (или энергетического потенциала). Неподготовленные («профанные») опыты такого соприкосновения могут быть для сознания разрушительными, но не по причине проявления какого-либо сознательного или стихийного зла, а именно вследствие несопоставимости между собой вошедших в контакт уровней энергетической напряженности.
Непосредственное созерцание реальностей, лежащих на «глубине» человеческого естества (и естества всего мира), согласно о. П. Флоренскому, было доступно посвященным в древних мистериях, и тогда «пред восторженным созерцателем иного мира» проходили «священные призраки… несказанной красоты, лучезарные зраки», интерпретированные как «божества» и «демоны» дохристианского язычества и сверхчувственные идеи в философии Платона (см.: (Флоренский, 1999, 133–134)). В этом отношении, хотя и признавая недостаточную изученность этого вопроса (Флоренский, 1999, 132), о. П. Флоренский указывал на то, что само слово «эйдос» («идея») имеет «за собою какую-то долгую, так сказать, подземную, историю, скрывающуюся в святилищах тайных культов» (Флоренский, 2000а, 146).
III
В этом аспекте платонизма о. П. Флоренского проявляется его одно из самых нарочито неортодоксальных убеждений, следуя которому, он настаивал на отождествлении «эйдоса» человека с его «Ангелом-Хранителем». Очевидно, что в круге таких представлений христианское понимание ангелов вообще и ангелов-хранителей в частности следует считать профанной интерпретацией открывающихся в мистериях «священных призраков»: созерцаемые как будто «извне», они на самом деле представляют собой внутреннюю реальность самого человека.
Уже в курсовых работах 1906–1907 гг., пытаясь выявить общечеловеческое миропонимание, о. П. Флоренский писал: «Ангел-Хранитель отождествляется с именем, оказывается ипостасным именем человека. Но, с другой стороны, Ангел-Хранитель есть личная идея человека, сущность его, идеальный облик» (Флоренский, 2006, 66). И в датируемой 1926 г. работе «Имена» содержалось однозначное утверждение: «Ангел-Хранитель — это имя» (Флоренский, 2000г, 215). О том же самом своем убеждении о. П. Флоренский свидетельствовал в частных письмах и беседах.
Так, в 1912 г., накануне праздника св. князя Владимира, поздравляя В. А. Кожевникова с «днем Ангела», о. П. Флоренский говорит о «лучшей части» его личности. «Ибо я, — пишет он, — по своему провинциальному суеверию, склонен видеть в „Ангеле“ сего дня не Ангела-Хранителя, приставника к душе Вашей, и не Святого покровителя Вашего, а ипостасное, платоновское Имя Ваше, Ваш логос сперматикос, мистический центр Вашей личности» (Переписка, 1991, 102). И далее в этом же письме отмечает: «Поверьте, тема личности дается именем, и все остальное — лишь простая разработка этой темы по правилам контрапункта и гармонии… Мы только можем молиться и желать, чтобы Владимир Александрович еще много раз в полной крепости сил… вспоминал самого себя, идеального, и узнавал себя в себе 15-го июля 1912, 13, 14… и т. д., и т. д. годов, все глубже и глубже постигая свое „Владимирство-Васильевство“» (Переписка, 1991, 102–103).
В беседах, записанных Н. Я. Симонович-Ефимовой в нач. 1920-х гг., на вопрос об ангеле-хранителе о. П. Флоренский ответил, что много об этом думал. «День Ангела, — сказал он, — это день Имени. Мы празднуем Имя. Все носящие одно имя — это ягоды одной грозди винограда, и святой, которого мы празднуем — это только лучший представитель этой грозди» (Флоренский, 2000г, 215). Это означает, что отождествляемая с Именем и «Ангелом-Хранителем», являющаяся аналогом платоновской идеи, вечная («сотворенная» в вечности) онтологическая основа человека не является собственно «личностью», если под этим термином понимать действительно то единственное, уникальное и неповторимое человеческое «я», которое живет и действует в этом мире. Здесь, т. е. на онтологической бессознательной «глубине» естества, мы входим, говорит о. П. Флоренский, в мир идей Платона, где не следует ставить вопрос об индивидуальности (см.: (Флоренский, 2000г, 215)). Терминологически выверенным было бы говорить о непостижимой (недоступной для сознания), существующей в вечности (по о. П. Флоренскому — «сотворенной» и обоженной в вечности) реальности, которая проявляется во временном эмпирическом мире, где вследствие этого проявления возникают и развиваются личности. И если их вечные основания о. П. Флоренский иногда обозначает как личности «идеальные» (Флоренский, 1990а, 329) или как личности «мистические» (Флоренский, 2000а, 162), то делает это он, как кажется, только для того, чтобы показать наличие у каждой личности в нашем, видимом мире, своей вечной идеи.
Отвлекаясь от частных случаев определенной непоследовательности в терминологии, можно сказать, что собственно личность в концепциях о. П. Флоренского — это реальность, возникающая в этом мире, но возникающая (рождающаяся) не из полного небытия, и не только на основе своей проявленной в эмпирии родословной, т. е. рода как многочисленных поколений живших в этом мире предков. Главное, что служит онтологическим основанием возникающей и формирующейся в этом мире личности, скрыто от нее (с ее обычным сознанием) на «глубине», на самых «отрицательных» (т. е. энергетически несравненно более мощных, «полнобытийных») «потенциях сознания». Специфика такой антропологии заключается в том, что человек представляет собой неразрывную и живую онтологическую связь этого «глубокого» основания и своей земной личности. Сама земная личность есть «проявление» этого основания, причем характер этого «проявления» таков, что без него реально не существуют ни личность, ни ее онтологическое основание. Мыслить о личности и ее онтологическом основании раздельно, обособленно друг от друга, можно только в методических целях. Все это можно показать, опираясь как на ранние, так и на поздние тексты о. П. Флоренского.
При этом так понимаемая личность не есть нечто «внешнее» или второстепенное по отношению к реальностям, находящимся на «глубине» человеческого естества. Она как бы «вершина айсберга», составляющая единое целое со всем скрытым и несравненно более масштабным его основанием. Сам о. П. Флоренский употребляет образ «корня», которым не только человек, но и вся видимая тварь «уходит в небеса» (Флоренский, 1990а, 271), в «недра Троичной любви» (Флоренский, 1990а, 271), «уходит в горнее» (Флоренский, 2004, 398). Без этого «корня» невозможна жизнь и само бытие видимого мира, но при этом и «корень», коль скоро он «живой», т.е. причастен Божественной сущности — любви (Флоренский, 1990а, 325-326), не может не иметь действия (энергии), направленного на свое проявление в видимом мире. Для формируемой в этом мире личности его первое проявление (Имя) имеет значение онтологического «устоя», «твердой точки», не допускающей распада всегда изменчивого и «расплывающегося» сознания (Флоренский, 2004, 110) и связующей всю систему «жизненного самораскрытия духовного существа» (Флоренский, 2004, 255) в обозначенных сферах (от «мистической» до «психической» и «физической»).
Личность, которую имеет в виду о. П. Флоренский, должна включать в себя все эти сферы проявления и раскрытия духовной сущности, охватывая, таким образом, всего человека с его видимым грубо-материальным телом («физический» план бытия), сознанием («психический» план) и мистическими подсознательными «глубинами» («оккультный» и «мистический» планы). Единый, один и тот же, конкретный человек и его единая личность выступают в двух аспектах своего бытия: эмпирически «случайном» (в смысле постоянной смены субъективных состояний сознания) и в вечной своей «платоновской» идее (см.: (Флоренский, 2000а, 166)), воспринимаемой как «метафизическая сущность» (Флоренский, 2006, 186), сверхсознательная и сверхличная «мистическая личность человека, его трансцендентальный субъект» (Флоренский, 2000а, 162). И, как бы ни казалось на первый взгляд неожиданным, речь идет именно о едином «я», а не об относительно отчужденных друг от друга «я» эмпирическом и «я» идеальном («истинном»). Время и вечность, чувственное и умное, «духовное» и «телесное» в концепциях о. П. Флоренского сопрягаются в совершенно единую реальность, так что существование одного невозможно без другого, а в случае с двумя «я» и то и другое антиномически есть одно и то же.
В одной из лекций цикла «Философии культа» («Культ и философия», 1918) о. П. Флоренский говорит, что наше сознание всегда изменчиво и текуче и в нем самом наше «я» обрести невозможно: оно «есть только мысль среди других мыслей» (Флоренский, 2004, 110). Быть убежденным в истинности своего «я» позволяет не мысль сама по себе, а некоторый опыт, когда обычно «смутное и темное… сознание своего ноуменального ядра» иногда становится в нас «ослепительно четким и твердым» (Флоренский, 2004, 110). Отец Павел Флоренский связывает этот опыт-осознание с переживанием абсолютной свободы и столь же абсолютной ответственности. В эти мгновения появляется «ноуменальный страх за себя — пред лицом Вечности — разверзаются небеса, — когда всецело определяешь себя — и знаешь, что за все, хотя бы по наследственности, по воспитанию, по разным оправдываемым мотивам сделанного ответишь и отвечаешь» (Флоренский, 2004, 110).
И еще более ярко подобные переживания о. П. Флоренский описывает в «Воспоминаниях». «В минуты полного духовного освобождения, — пишет он, — когда вдруг сознаешь себя субстанцией, а не только субъектом своих состояний, и предстоишь пред лицом Вечности, остро и предельно четко сознается полная ответственность решительно за все, что было и есть, за состояния самые пассивные и столь же решительная невозможность отговориться внешними воздействиями и внушениями, наследственностью, воспитанием, слабостями. Тогда ясно: нет ничего, что „сделалось“, „произошло“, „случилось“, нет никаких просто фактов, а есть лишь поступки, и знаешь: совершил их я. Я — точка; даже не может быть и речи ни о ком и ни о чем. Не иначе — и в отношении того, что было в раннейшем детстве» (Флоренский, 1992, 116).
Такой ход мысли позволяет (по крайней мере до определенной степени) понять мотивацию, по которой о. П. Флоренский отождествляет ноуменальный центр человека — Имя как платоновскую идею — с его «Ангелом-Хранителем». Отец Павел Флоренский, очевидно, находит в таком понятии указание на раскрываемый (как он полагал) опытом характер ноуменального центра человека как объективного критерия оценки состояний его сознания и вытекающих из этих состояний реальных поступков. Будучи сам сверхличным и сверхсознательным и не являясь собственно человеческим «я», этот «центр» представляет собой такую реальность, которая в конечном итоге дает человеческому «я» возможность объективно существовать и действовать в постоянно текучем потоке смены «состояний сознания».
Подводя итоги, можно сказать, что платоновская идея в интерпретации о. П. Флоренского, действительно, не являясь «абстрактным понятием», все же не обретает при этом и статуса «живой конкретной личности». Ее следует назвать «живой метафизической сущностью», номинально творимой, но фактически пребывающей на грани нетварного и тварного естества, т. е. в онтологическом состоянии, которое не имеет о себе свидетельств ни в традиционном христианском вероучении, ни в известных фактах святоотеческого опыта Православной Церкви. Это, согласно о. П. Флоренскому, «трансцендентальный субъект» человека, определяющий, но не охватывающий всецело его личности. Человеческая личность представлена сформированным в этом, видимом мире, сознанием и самосознанием, но вместе с тем включает в себя и все реальности, лежащие на энергетически («бытийно») более интенсивных уровнях естества, к которым в обычном порядке сознание не имеет и не должно иметь доступа. Существование этих реальностей постигается мистическим опытом и было выявлено в древних мистериях путем непосредственного созерцания. Факты воспроизведения этих опытов и созерцаний о. П. Флоренский пытался обнаружить и в христианской церковной традиции и богослужебной практике, что представляет собой тему специального исследования. Но во всяком случае очевидно, что в своей интерпретации платонизма и в уяснении духовного качества как опыта древних дохристианских мистерий, так и своих личных мистических переживаний, о. П. Флоренский ориентировался не на церковную традицию. Представленная в его трудах антропология, прежде всего в концепции проявления на разных уровнях бытия вечного основания (платоновской идеи) человека, в восприятии значения бессознательного в человеке и в утверждении реального действия процесса платоновского «припоминания», — отсылает по большей части к мистике не церковного, а оккультно-теософского характера. В основе этой последней о. П. Флоренский, в силу своих личных убеждений, хотел видеть неотъемлемую составляющую народного опыта, имеющего общечеловеческое значение. Как представляется, именно это убеждение обусловило восприятие им и платонизма, и самой церковной традиции.