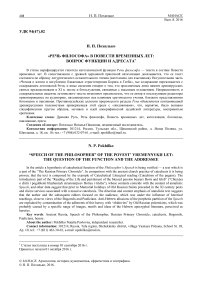«Речь философа» в повести временных лет: вопрос функции и адресата
Автор: Похилько Н.П.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье верифицируется гипотеза катехизической функции Речи философа - текста в составе Повести временных лет. В сопоставлении с древней церковной практикой катехизации доказывается, что ее текст составлен по образцу литургического огласительного чтения (катехизиса для язычников). Вступительная часть «Чтения о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», чье содержание перекликается с содержанием летописной Речи, и иные сведения говорят о том, что праздничным дням памяти древнерусских святых предшествовали в XI в. посты и богослужения, связанные с массовым оглашением. Направленность и содержательные акценты летописного текста позволяют предполагать, что ее автор и последующие редакторы ориентировались на аудиторию, находившуюся под влиянием еретического учения, близкого представлениям богомилов и павликиан. Противоиудейские аллюзии пророческого раздела Речи объясняются контаминацией древнерусскими полемистами приверженцев этой ереси с «жидовинами», что, вероятно, было вызвано специфическим кругом образов, мотивов и идей апокрифической иудейской литературы, воспринятым еретиками.
Короткий адрес: https://sciup.org/14118138
IDR: 14118138 | УДК: 94(47).02 | DOI: 10.5281/zenodo.556176
Текст научной статьи «Речь философа» в повести временных лет: вопрос функции и адресата
∗ Статья поступила в номер 01 сентября 2016 г.
Принята к печати 01 октября 2016 г.
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
Вопроса функции, адресата и жанровой принадлежности Речи философа1 — летописной беседы греческого миссионера с князем Владимиром, редко касаются и исследователи, полагающие Речь вставкой в рассказ о выборе веры Повести временных лет (далее — ПВЛ). Представление же, согласно которому Речь философа составлена летописцем2, вовсе уводит от подобных вопросов, хотя и не избавляет от ощущения некоторой инородности ее текста в составе летописи. В свое время А. А. Шахматов, разделявший, хотя и не без колебаний, гипотезу летописного генезиса Речи философа , называя ее очерком « всемирной (точнее церковной) истории », все же отметил странность включения такого очерка в текст не то проповеди, не то беседы греческого книжника с князем Владимиром, что объяснил наличием « сверхзадачи », намерением летописца дать историю родной земли (Шахматов 1940: 122— 149; Шахматов 2001: 109—116). Для повествования о том, «откуду есть пошла русская земля», подобное намерение прогнозируемо. Но показательно, что в космографическом введении ПВЛ при всем его интересе к истории этноса летописец в описании генезиса русской земли и «языкъ словенескъ» ограничивается минимальным извлечением «истории» из Священного Писания — двумя эпизодами разделения земли между Ноевыми сыновьями и Вавилонским столпотворением. А в Речи философа , излагающей историю Спасения человечества, нет эпизодов, которые можно было бы уверенно отнести к историческим реалиям русской (или иной) земли.
Шахматовское понимание смысла и назначения Речи разделяют часто как сторонники, так и оппоненты гипотезы ее летописного происхождения (Гиппиус 2008: 22; Вилкул 2012a; Милютенко 2008: 251; Невзорова 2004: 430). Но трехчастная структура, апокрифические эпизоды, которых нет, например, в космографическом введении Повести временных лет, основанном, по-видимому, на тех же источниках, что и Речь философа (Вилкул 2012a: 13— 14) , богословская тематика ее заключительного раздела — и форма, и содержание избыточны для «исторического очерка». Тому свидетельство — разнообразие дефиниций, которыми в историографии наделяли и наделяют Речь Философа : краткое изложение православного закона (Ломоносов 1766: 263), вероучительная речь или проповедь (Мансикка 2005: 77), наставление в вере (Милютенко 2004: 9—17; Никольский 1906: 15; Трендафилов 1990: 34—46; Шахматов 2001: 101, 115), беседа (Макарий митр. 1857: 23) или двоесловие (Милютенко 2008: 245), диалог3 (Гиппиус 2001:159; Лихачев 1947: 73), « рассказ о мировой истории в форме миссионерской проповеди » (Мюллер 1995: 9), миссионерское слово (Невзорова 2004: 447) и, наконец, катехизис, излагающий не только основы христианского учения, но и методологию истории (Лукин 2013: 337, прим.; Петрухин 1998: 277; Петрухин 2014: 65, 391). Пересказ основных событий Священной истории с пророчествами и богословским заключением, компиляция из разных источников (Вилкул 2012a: 1—15; Вилкул 2012b: 113—125; Reinhart 2008: 151—170) со следами неоднократной редактуры (Гиппиус 2001: 147―181; Гиппиус 2006: 56—98) — Речь Философа в историографии не соотносится устойчивым образом ни с одним из перечисленных определений, что, не в последнюю очередь, связано с неопределенностью в решении вопроса функции и адресата текста как на уровне соотношения с общим содержанием ПВЛ, так и в более узком контексте
Вып. 8. 2016
летописного сюжета выбора веры правителем Руси4. Контексту миссионерских посольств к князю Владимиру соответствовала бы интерпретация текста как миссионерской речи — беседы, имеющей цель убедить знатного язычника принять христианскую веру. Но этому противостоит многословность текста, предполагающая внимательного читателя, общая эмоционально отвлеченная тональность Речи и наличие богословской аргументации, излишне сложной для неподготовленной аудитории. С другой стороны, определению Речи как огласительного текста, наставления в вере катехумена, уже уверовавшего и желающего креститься, не соответствуют ни общий миссионерский контекст летописного рассказа «о выборе веры», ни богословская неоднозначность сюжетов, почерпнутых из апокрифической литературы5. Видимый конфликт внутренне противоречивого текста и контекста, в который он помещен, неоднократно обращал исследователей к изучению историко-религиозных интенций, лежащих в основании « краткого припоминания судеб рода человеческого » (Срезневский 1863: 9).
Так, Х. Трендафилов, сопоставляя Житие Кирилла и пророческий раздел Речи , анализируя исторический и политический контекст моравской миссии Мефодия, заключил, что Речь философа является наставлением в вере, возникшим из бесед славянского просветителя религиозно-нравственного и политического характера с новокрещенными и языческими князьями Великой Моравии (Трендафилов 1990: 34—46). Но изложение Священной истории в Речи далеко как от исторических и политических реалий X—XII вв. так и традиционной церковной практики нравственного наставления. А противоиудейский экскурс, являющийся, по мнению автора, вставкой из полемического сочинения Константина—Кирилла, восходящей к греческому протографу, как доказывает Гиппиус (Гиппиус 2001: 159—160), является интерполяцией заключительного, вероятно, этапа редактирования Речи в составе летописи. Статью Х. Трендафилова приняли довольно скептически (Perswetoff-Morath 2002: 247; Reinhart 2008: 155—156), зато она привлекла внимание ученых к самой проблеме адресата текста. Х. Трунте, полагая, что антииудейский полемический контекст Речи не существенен, поскольку основное внимание в изложении истории Спасения сосредоточено на Ветхом Завете (более 75% от общей длины текста), высказал предположение, что Речь Философа — компиляция греческого происхождения, которая предназначалась для славянской аудитории (Trunte 1993: 355—394). Й. Райнхардт, критически переосмысливая лингвистическую аргументацию ученых, предполагающих ее великоморавское (Львов 1968) или болгарское происхождение, относит составление Речи к Древней Руси кон. X— XI вв. (Reinhart 2008: 151—170).
В историографии Речь философа чаще всего интерпретируют общим планом как наставление христианской направленности без какого-либо обсуждения соответствия структуры и содержания ее текста средневековой практике христианского просвещения. Не в последнюю очередь это обусловлено тем, что исторических сведений о катехизации взрослого населения не только Киевской Руси, но и иных земель сохранилось очень немного. Еще в XII в. на Руси существовало, если судить по ответам Нифонта Кирику (Кирик и Нифонт 1880: 33, ответ 40), сорокадневное для инородцев и восьмидневное для славян оглашение. А. И. Алмазов полагал, что не было тогда определенной для всех нормы оглашения, но везде следовали с древности установленным для катехумената церковным
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата требованиям: участие в богослужении, покаяние, пост, молитва (Алмазов 1884: 102). Древняя катехизическая практика Восточной и Западной церкви, в основных своих чертах, имела один общий порядок и включала три этапа6. На первом этапе катехумены самостоятельно или под руководством наставника читали Священное Писание (Ветхий и Новый завет), посещали общедоступную часть богослужения, слушали проповеди, учились жить согласно Христовым заповедям. Когда они выражали желание креститься, то после собеседования с епископом переходили в разряд «готовящихся к просвещению» (Гаврилюк 2001: 155). Здесь на втором этапе вводились регулярные огласительные занятия по основам христианского вероучения. Уже после крещения или непосредственно перед ним, на третьем этапе катехизации, существовала практика изъяснения новопросвещенным христианам некоторых таинств и Тайн Церкви, в первую очередь, Евхаристии и Крещения.
Судя по Типикону Великой церкви в Византии к X—XI вв. практика долгосрочного взрослого оглашения сменилась краткосрочным детским оглашением (Дмитриевский 1901: 521; Дмитриевский 1907: 154). Чин наставления в вере детей, приводимых в храм, совершался в течение Великого поста после тритекти, перед вечерней. Он состоял в зачитывании в присутствии патриарха обширных огласительных текстов и не сопровождался толкованиями иерархов. М. Арранц описал древнерусскую огласительную практику как двухэтапную (Арранц 1988). В течение сорока дней поста производилось обучение язычника, сначала — в качестве оглашаемого первой категории, то есть «некрещеного христианина», а затем, на втором огласительном этапе, над ним читались заклинания (с четвертой седмицы Великого поста), завершалось же оглашение молитвой Отрицания сатаны и сочетания с Христом. Первый и второй этап сопровождался поучениями и беседами катехумена со святителем или священником — на первом оглашении раз в неделю, на втором — ежедневно. Косвенно, о древнерусской практике оглашения может свидетельствовать обряд prima signatio (вводил язычников в разряд оглашаемых), бытовавший среди варягов, служивших у киевского князя (Успенский 2002: 146—155), но что конкретно и как преподавалось готовящимся к крещению, сегодня своего рода terra incognita.
Катехизические тексты, которые клир использовал для целей оглашения и крещения, должны были так же, как и чин оглашения, соответствовать определенной литургической традиции. Известно, что издревле « в церковной практике было два основных типа катехизисов: выборочный пересказ библейской истории спасения и подробный комментарий на символ веры » (Гаврилюк 2001: 198). Первый тип катехизиса, в котором излагалась ветхозаветная и новозаветная история Спасения, предназначался для языческой аудитории, не знавшей Священное Писание и/или не имевшей доступа к нему7. Но и там, где Писание знали, например, в Иерусалиме, оглашение начиналось с толкования епископом его текста8. Второй тип катехизиса, излагавший нравственное и догматическое учение Церкви, особое распространение получил с IV в., в период массового крещения взрослых, когда христианство шаг за шагом приобретало статус государственной религии. На Руси второй
Вып. 8. 2016
тип катехизиса нравственно-догматического содержания был известен с XI в. как беседы и слова св. отцов: Вопросы—ответы Анастасия Синайского (Изборник 1073 г.), св. Афанасия Александрийского к князю Антиоху, Беседа трех святителей, Оглашения Кирилла Иерусалимского (Хиландарские листки XI в.), Слова огласительные Иоанна Златоуста, «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна, Экзарха Болгарского и т.д.
Огласительные беседы в древней Руси вряд ли были импровизациями. И если судить по константинопольскому Типикону, то и беседами, строго говоря, они не были и, скорее, являлись чтениями текста, рекомендованного церковной иерархией. Н. К. Никольский писал, что литургийной проповеди и свободного учительства предстоятеля в древнерусской церкви не было9, поскольку на это нет никаких указаний ни в Кормчей, ни в Типиконах — Алексеевском и Иерусалимском, ни в других письменных памятниках той эпохи (Никольский 1901: 222). Богослужебную проповедь в Московской, и в Киевской, вероятно, Руси заменяли, как он думал, уставные и соборные чтения: творения отцов и учителей церкви, жития святых и другие назидательные чтения. Нестерово житие Феодосия Печерского XI в. говорит о таких уставных чтениях в монастырях. Н. К. Никольский полагал, что в домонгольский период в качестве уставных чтений употреблялись даже памятники оригинальной русской письменности (Никольский 1897: LIII). По Алексеевскому уставу, употреблявшемуся на Руси с середины XI в., ежедневные уставные чтения были положены на утрени: четыре чтения из житий и пролога по первой и по второй кафизме, затем по третьей и по шестой песни канона, на часах и за трапезой (Никольский 1901: 231). Кроме того, на литиях при исхождении в притвор читались оглашения св. Феодора Студита. В постовые дни и праздники число уставных чтений умножалось до 15—20 чтений. Существовало тесное единство богослужения и христианского просвещения. И, определив вероятностное соотношение Речи Философа с уставными чтениями на богослужении, можно было бы подтвердить или опровергнуть гипотезу обращения ее (или близкого ей) текста в огласительных целях.
Осмыслению Речи Философа как литургического текста катехизического назначения, казалось бы, препятствуют сюжеты и мотивы, почерпнутые из апокрифов10. Невозможно, не определив их место в Речи Философа , верифицировать ее гипотезу огласительной функции. В историографии XIX в. апокрифические эпизоды, заимствованные из византийских хроник, связывались с богомильскими аллюзиями, случайными отголосками болгаро-византийской полемики, проникшими на Русь через книжное влияние на древнерусских авторов, малосведущих в богословии (Никольский 1902: 93; Пономарев 1902: 249). Сегодня неканонические сюжеты Речи связывают гипотетически с манихейским Востоком через Византию (Милютенко 2008: 253), со славянскими языческими верованиями и фольклором, лишь отчасти испытавшим богомильское влияние (Кузнецова 1998), или с влиянием иудейской апокрифической литературы (Пересветов-Мурат 2010; Петрухин 2003; Пузанов 2010). В основном, современные исследователи популярность апокрифов на Руси XI в. не связывают с распространением еретических учений, полагая, что они воспринимались в качестве развернутых комментариев к библейским сюжетам (Рождественская 2001: 46—47;
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
Апокрифы древней Руси 2002; Мочульский 1887). Представители, так называемой, мифологической школы (Буслаев 2006; Мильков 1999; Рыбаков 1987) рассматривают эти тексты через призму языческой мифологии (обычно реконструируемой) и гипотезы « многовекового русского двоеверия », которое определяло соединение дуалистических и языческих мифов с христианскими представлениями. Обсуждение механизма адаптации привнесенной извне религиозной традиции, чуждой и язычеству, и христианству, в последние десятилетия сопровождается поисками ее источников в иудейской апокрифической литературе.
Существующие сюжетные и образные параллели между ПВЛ и иудейскими апокрифами, такими как Книга Юбилеев, Вторая книга Еноха и др., объясняют, в основном, заимствованиями литературного характера. Так, В. Я. Петрухин, отделяет летописную трактовку сюжета Сатанаила в Речи философа от «откровенно дуалистической (богомильской)» трактовки, свойственной болгарским источникам, и, хотя он и соотносит с болгарской ересью специфическую образность древнерусских литературных памятников, считает ее лишь отражением воспринятой письменности и книжности (Петрухин 2013: 35— 44). Но говоря о заимствованиях древнерусских компиляторов из иудейских апокрифов (и из талмудических мидрашей) и о возможном влиянии енохической традиции иудаизма на славянскую книжность, он все же призывает к дальнейшему изучению соотношения демонологических сюжетов с фольклором и ересями, возникшими под воздействием иранского дуализма.
В большой степени интерес исследователей к литературе Второго храма поддерживается стремлением разгадать давно замеченный феномен выраженной антииудейской направленности немалого числа памятников древнерусской литературы (Водолазкин 2008; Иоффе 2003: 581—602; Мещерский 1995: 271—299; Пересветов-Мурат 2010: 420—421; Петрухин 2003: 656—657; Петрухин 2005: 143—168; Петрухин 2008; Пузанов 2012; Пузанов 2014: 67—75; Темчин 2008: 30—40). В обсуждении характера антииудейской полемики в Киевской Руси сталкиваются разные позиции: от отрицания самого факта существования такой полемики в восточнославянской литературе до признания ее чрезвычайного влияния на древнерусскую книжность и наличия значительной еврейской диаспоры в древнерусском социуме (Водолазкин 2008; Дудаков 1993: 9; Иоффе 2003; Кожинов 2002: 6—7). Неоднозначно оценивается факт иудейского присутствия и в Болгарии IX—X вв., от которой Русь переняла и письменность, и книги. Например, факт крещения многих евреев в своей отчизне до прибытия на Балканы, указанный в переписке папы Николая I и болгарского князя Бориса-Михаила по традиционным для противоиудейской полемики темам соблюдения субботы, пищевых запретов, обрезания и т.д. (Трендафилов 1995: 138—149). Высказанное в ходе недавней дискуссии предположение, что антииудейская полемика в Древней Руси была направлена на восприятие ее «иудействующими» христианами, кажется, вполне соотносима и со сведениями о христианизации болгар (Пузанов 2012: 77—78). Затем, анализируя переписку патриарха Фотия с тем же князем, где упоминается « иудейская дерзость », исследователи указывают на странность изложенной здесь апологетики не только икон, но и Креста в контексте решений Седьмого Вселенского собора, направленных против иконоборцев, в то время же известно, что иконоборцы Кресту покланялись и никогда не отвергали его почитание (Великов 2008: 420—421). Фотий упоминает тех, кто называет себя «христианами», но «июдейскаго звания не приемлюще, христоборное тех ревноваху иконоборствием и превосхожаху» и говорит о необходимости поклонения не только иконам, но и храмам и мощам святых (Синицына 1965: 109). Таким образом, патриарх сопоставляет
Вып. 8. 2016
ересь неких болгарских «христиан» с учением иудеев. А. А. Шахматов отмечал в свое время еврейские источники большого количества ветхозаветных апокрифов, распространившихся в Болгарии под влиянием учения богомилов, и объяснял это возможным принятием иудаизма верхушкой болгарской элиты в докирилломефодиевский период (Шахматов 1904: 160). Но Х. Трендафилов справедливо указывает на недостаточную аргументированность идеи значительной иудейской пропаганды, именно, с исторической стороны. Поиски источников иудейского влияния на славянскую литературу продолжаются, в том числе, в обращении к истории византийской периферии.
Так В. М. Лурье, возрождая гипотезу докирилловской христианизации славян (Успенский 1877: 103—106), полагает, что влияние иудейских апокрифов на славянскую книжность связано с сирийской миссией к протоболгарам VII в. (academia.edu: 3). Он считает, что Кирилл и Мефодий шли по стопам «неортодоксальных» (с их точки зрения) сирийских миссионеров и покорились многим ограничениям, налагаемыми уже существующим сводом славянских переводов (с греческого языка и с сирийского — для текстов, недоступных в греческом переводе) и несколькими культами святых с соответствующей житийной литературой (academia.edu: 2). Отсюда, аллюзии на богомильство, которые ряд славистов усматривает в Пространной редакции славянской Второй книги Еноха (Macaskill 2012: 83—102), исследователь, вслед за иными учеными (Böttrich 2012: 37—68), не связывает с христианской ересью. Доводы Л. Навтанович, лингвистически и текстологически обосновывающей единый славянский перевод, лежащий в основании Краткой и производной от нее Пространной редакции, не убеждают их (Навтанович 2000; Navtanovich. 2012: 69—82). А. А. Орлов, также полагающий Вторую книгу Еноха, сохранившуюся лишь в славянском переводе, памятником поздней еврейской мистики, отмечает конкуренцию двух традиций во Второй Книге Еноха — адамической и енохической, но не связывает ее со славянским редактированием, а относит к изначальному богословскому замыслу, объединяющему в единое целое Краткую и Пространную редакции (Орлов 2014). Соответственно, он не признает позднейшими вставками те «адамические» разделы Второй книги Еноха, в которых присутствуют образы падших ангелов и их «князь» Сатанаил, и где слависты усматривают богомильское влияние. Поскольку, богомильские аллюзии Речи философа связывают с теми же образами, «противоиудейская» направленность ее пророческого раздела, признанного вставкой в первоначальный текст, не должна расценивается лишь как нечто привнесенное извне и совершенно чуждое основному содержанию Речи . Речь философа , в целом, составлена на основании канонического текста Священного Писания (Вилкул 2012a: 1—15). Большинство ее апокрифических сюжетов происходят из источника, общего и для основного текста ПВЛ — из сочинений византийских авторов Георгия Амартола, Иоанна Малалы, Георгия Синкелла и Георгия Кедрина, что и питает представление о чисто литературных (механических) причинах их включения в летописный текст. И все же для уверенных суждений о характере обращения к тем или иным источникам, об интенциях и мотивах отбора материала, в том числе — апокрифического, прежде всего, необходимо определить цель составления текста Речи философа, ее функцию и аудиторию, на которую ориентировался автор, а затем — редакторы.
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
Функциональное назначение Речи философа
Речь философа помещена в ПВЛ вслед за повествованием о миссионерских посольствах от разных концов к русскому князю—язычнику. Мотив выбора веры развивается далее в сюжете посольств, отправленных Владимиром для испытания различных религий. Вступительный вопрос Владимира «что ради сниде Богъ на землю и страсть такою приꙗ» (л. 28об)11 и два последующих вопроса связывают трехчастную Речь в единое целое. Библейская история Творения, ветхозаветных патриархов до изложения пророчеств о Боговоплощении, грядущих Страстях и Воскресении отделена от рассказа о новозаветных событиях вторым вопросом «то кое времѧ сбыстьсѧ. и было ли се есть. еда ли топерво хощь быти се» (л. 34об). А третий вопрос «что ради ѿ жены родисѧ. и на древѣ распѧтсѧ. и водою крестисѧ» (л. 35об) позволяет перейти к типологическому толкованию божественных Тайн через прообразы «жены», «дерева» и «воды». Содержание текста Речи философа , таким образом, могло бы отвечать задаче первоначального наставления в вере тех, кто не был знаком со Священной историей. В этом плане Речь закономерно завершается объяснением христианских Тайн Воплощения, Креста и Крещения, которому соответствует заключительный «тайноводственный» этап древней практики оглашения, когда оглашаемым разъясняли смысл и содержание основных христианских таинств, обычно, на пасхальной седмице (Карабинов 1912: 364). Завершение такого рода было бы совершенно излишне в проповеди, имеющей миссионерскую цель. В древности готовящиеся к крещению учили наизусть Символ веры, которого в Речи нет (Алмазов 1884: 48). Зато далее в Корсунской легенде о крещении князя Владимира есть отсылка к Никейскому символу веры, за которой следует «подобосущный» орос12 — сокращенное и отредактированное Слово о правой вере Михаила Синкелла с присоединенным антилатинским экскурсом (Thomson 1991: 19—53; Заболотский 1901: 1—31).
Структура и содержание Речи Философа аналогичны изложенному плану катехизации как в «Апостольских постановлениях» (Постановления апостольские 2002: 164—166), где рекомендуется приводить оглашаемых к крещению через пересказ и толкование Ветхого и Нового Завета, так и в иных древних текста (Гаврилюк 2001: 74—75, 193—194, 196—198): «Об исправлении сельских жителей» Мартина Бражского (VI в.) (S. Martin de Braga 1950), «Доказательство апостольской проповеди» св. Иринея Лионского (II в.) (S. Martin de Braga 1950) и «Учение св. Григория» (V в.)(Агатангелос 2006).
Хотя сочинение епископа Браги не катехизис, а гомилия, увещевающая уже крещеных крестьян воздерживаться от языческих обычаев и поклонения идолам, она содержит пересказ Священной истории. Проповедник желает восполнить недостаток просвещения в среде недавно обращенных в христианство, напомнить им, что, поклоняясь идолам лесов, морей и источников, они нарушают свои обещания Христу. Так же, как в Речи, здесь присутствует мотив присвоения кумирам имен некогда живших людей, а нелестная характеристика идола Венеры перекликается с мотивом кумиротворения женам — прелюбодѣицамъ в славянском тексте (л. 30об). Св. Мартин Бражский, пересказывает и сюжет падения ангела из зависти к
Вып. 8. 2016
славе Божьей, аналогичный такому же в летописной Речи Философа (л. 28об). Этот же мотив несколькими столетиями раньше упоминается и св. Иринеем Лионским.
«Доказательство апостольской проповеди» св. Иринея Лионского (II в.) адресовано оглашаемому Маркиану13, которому автор пересказывает, отталкиваясь от крещальной формулы, библейскую историю от Творения мира до пророков и Вознесения с серией богословских комментариев. Словам, что Бог Отец «есть творец неба и земли и всего мира и создатель ангелов и людей и Господь всего» — одному из начальных утверждений св. Иринея соответствуют вступление Речи философа — «в начало створи Богъ небо и землю въ первыи день…» (л. 28об). Св. Ириней Лионский не упоминает шестидневное творение, зато дает толкование семи небес с обитающими на них ангелами14. В Речи после рассказа о шестидневном творении и свержении с небес первого из ангелов Сатанаила говорится о творении Богом человека и введении его в рай. Св. Ириней также говорит, что Бог создал человека своими руками, сделал его владыкой всего (и ангелов) и поместил в раю, упоминает он вскользь в контексте грехопадения и о падении управителя ангелов. Изложение сюжета развивается в том и другом тексте параллельно и согласно библейскому повествованию. Сходство проявляется также в изложении неканонического мотива падения и зависти ангела, отпавшего от Бога и погубившего человека, в рассуждении об именовании сатаны противником Богу, в сквозной теме ангелов, в преимущественном внимании к Ветхому завету. У св. Иринея, вероятно, это является следствием того, что негласным адресатом сочинения лионского епископа были маркиониты, отвергавшие Ветхий Завет и полагавшие дьявола демиургом — создателем всего земного. Нельзя не отметить как параллели в толковании Воплощения и Распятия в заключительном разделе Речи философа (л. 35об—36) с толкованиями св. Иринея15, так и параллели между текстами Речи и св. Иринея в пророчествах о Воплощении и Страстях Христа.
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
Пророческий раздел Речи был значительно расширен одним из древних редакторов (Гиппиус 2008: 21—22). Отрывок с пророчествами об «отвѣржении жидовьстѣ» от пророчества Осии «преставлю царство дому Израилева…» (л. 33) до слов «Тако Богу възлюбившю новыя люди, рекъ имъ снити…» (л. 33об) — интерполяция, как доказывает А. А. Гиппиус, в более ранний пророческий раздел Речи Философа . Она вводит в текст рассуждения об отвержении Богом иудейского народа и призвании «инѣх стран в них мѣсто». За противоиудейским экскурсом следуют пророчества с подзаголовками: «о Воплощении Божии», «о Страсти Его» и «о Въскресении же Его». Пророчества в Речи (парафразы пророков по большей части) вне противоиудейского экскурса тематически структурированы в том же порядке, что и главки о Воплощении (Ириней Лионский 2008: п. 48—66), о Страстях (Ириней Лионский 2008: п. 67—82) и о Воскресении (Ириней Лионский 2008: п. 83—85) в «Доказательствах…» св. Иринея.
Подраздел «о Воплощении Божии» включает пророчества, аналогичные пророчествам соответствующего раздела сочинения св. Иринея. Здесь передаются в парафразах слова Давида, Исайи, Михея и Иеремии:
-
• И пѣрвое Давидъ, глаголя: «Рече Господь Господеви моему: сяди одѣсъную мене, дондеже положю врагы твоя подножье ногама твоима» (Пс 109.1) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 48);
-
• «Рече Господь къ мнѣ: сынъ мой еси ты, азъ днесь родих тя» (Пс 2.7) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 49);
-
• «Не солъ, ни вѣстьникъ, но самъ Господь, пришедъ, спасеть ны» (Ис 63.9) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 88);
-
• «Яко дѣтищь родися намъ, ему же бысть начало на рамѣ его. И прозовется имя его “велика свѣта ангелъ” и велика власть его, и миру его нѣсть конца» (Ис 9.6) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 56);
-
• «Се въ утробѣ дѣвая зачат и родить сынъ, и прозовуть имя ему Еммануилъ» (Ис 7.14) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 53);
-
• «Ты Вифлеоме, доме Ефрантовъ, еда не многъ еси быти в тысящах Июдовах? Ис тебе бо ми изидет старѣйшина быти въ князех въ Израили; исходъ его от дний вѣка. Сего ради дасться до времени ражающая родит, и прочии от братья его обратятся на сыны Израилевы» (Мих 5, 2—3) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 63);
-
• «Се Богъ наш, и не въмѣнится инъ к нему. Изъобрѣте вьсякъ путь художьства, яко дасть Иякову, отроку своему. По сихъ же на земли явися и съ человѣкы поживе» (Вар 3:36—38) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 97).
За ними в Речи следуют три конечных пророчества подраздела «о Воплощении Божии». Первое из них — парафразу из Иеремии (Иер17:9) «Человѣкъ есть, и кто увѣсть, яко Богъ есть, яко человѣкъ же умираеть» А. И. Пересветов-Мурат соотносит с особым славянским переводом пророчеств, запечатленном в раннем славянском переводе греческого трактата Doctrina Iacobi противоиудейского содержания (Perecwetoff-Murath 2016: 70—72). Для второго — пророчества «Захарьи» (Зах 7:13) особого изложения «Не послушаша сына моего, и не услышю ихъ, глаголеть Господь» шведский ученый определил тот же источник. Можно предположить, что цитаты, заимствованные, вероятно, из раннего славянского перевода Доктрины Иакова или из общего с ним источника, а также заключительное в этом
Вып. 8. 2016
подразделе пророчество «Иосѣя» «речетъ [тако глаголетъ Господь. плоть] моя от нихъ» являются вставками редактора—полемиста, который или не понимал уже смысла структурирования текста Речи Философа по темам, или игнорировал его ради своих полемических целей. Его с большой долей вероятности можно идентифицировать с тем редактором, что ввел и целый блок пророчеств об «отвѣржении жидовьстѣ» — собрание «противоиудейских» цитат, где А. И. Пересветов-Мурат также нашел пророчества, близкие славянскому переводу пророчеств «Поучения Иакова». Это слова Иеремии (Иер 31: 31) «Тако глаголеть Господь: И положю дому Июдову завѣтъ новъ, дая законы в разумѣнья ихъ, и на сѣрдца ихъ напишю, и будут имъ въ Богъ, и ти будут мьнѣ въ люди» и пророчество Исайи «Домъ мой домъ молитвѣ прозовется по всѣмъ языком» (Perecwetoff-Murath 2016: 67—70).
Для текста пророка Ездры «благословенъ Богъ руцѣ распростеръ свои спасъ [Иерусалима]» из подраздела «о Страсти Его» исследователь обнаружил соответствие в том же византийском трактате Doctrina Iacobi (Пересветов-Мурат 2008: 48—50). В южнославянском переводе «Поучения Иакова» приводятся также слова Моисея, которые видим и в Речи философа : «Узрите жизнь вашю висящю предъ очима вашима» (Пересветов-Мурат 2008: 49). Из семи пророчеств подраздела Речи «о Страсти Его» слова пророчества Исайи «О лютѣ души ихъ, понеже свѣтъ золъ свѣщаша…» воспроизведены также в паремийных чтениях Борису и Глебу (Невзорова 2004: 433), а пророчество Ездры восходит, как говорилось, через посредство славянской компиляции к противоиудейскому «Поучению Иакова». Вместе со словами Иеремии «Приидите, въложим древо въ хлѣбъ его…» (Иер 11.19) они не имеют аналогов в тексте св. Иринея. Остальные же пророчества16 имеют прямые текстуальные параллели в его «Доказательствах…»:
-
• «Тако глаголеть Господь: Азъ не супротивлюся <...> ни глаголю противу. Плещи мои дах на раны, и ланитѣ мои на заушение, и лица своего не отвратих от студа заплеваниа» (Ис 50.6) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 34, 68);
-
• «Узрите жизнь вашю висящю предъ очима вашима» (Втор 28.66) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 79);
-
• «Въскую шаташася языци» (Пс 2.1) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 74);
-
• «Яко овьча на заколенье веденъ бысть» (Ис 53.7) — Ириней (Ириней Лионский 2008: п. 69).
В подразделе Речи «о Въскресении же Его» нет прямых текстуальных соответствий в том разделе творения св. Иринея, где говорится о Воскресении (Ириней Лионский 2008: п. 82—85). Но и здесь имеются слова Исайи, аналогичные словам славянского перевода трактата Doctrina Iacobi: «Сходящии въ страну и сѣнь смѣртьную, свѣтъ восияеть на вы» (Perecwetoff-Murath 2016: 66—67). Вероятно, подраздел «о Въскресении Его» был изменен полемистом противоиудейского толка. Он цитирует по памяти песнопения воскресных, пасхальных и предпасхальных богослужений, парафразирует слова Исайи «съходяще въ страну и сень смертную, светъ восияеть на вы» (Ис 9.2) и заключает подраздел словами пророка Захария о рве, «неимуща воды» (Зах 9.11), о которых речь будет ниже по тексту.
Таким образом, текст пророческого раздела после противоиудейской подборки, расположенный между словами «И начаша прорицати ѡ воплощеньи Божьи» (л. 33об) и словами Исайи: «Яко овьча на заколенье веденъ бысть» (л. 34об), вероятно, относящиеся к более раннему слою текста, включает такой же состав пророков, что и соответствующие разделы «Доказательства…» св. Иринея: Давид, Исайя, Михей, Иеремия, Захария, Моисей.
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
Вероятно, составитель Речи (или одного из ее источников) ориентировался на образец, имевший немало общего с сочинением св. Иринея. Полагаем, что это был катехизис для язычников, содержание и структура которого определялись древней традицией оглашения с раннехристианских времен. Редактор—полемист, извлекавший цитаты пророков из «Поучения Иакова», ввел в первоначальный текст Речи довольно объемный экскурс об «отвѣржении жидовьстѣ» и добавил в подразделах «о Воплощении», «о Страсти» и «о Въскресении» пророчества той же направленности. Не исключено, что он же осуществил полную переработку главки «о Воскресении», что обернулось отступлением от содержания прежнего образца — древнего катехизиса.
План изложения священной истории в катехизисе св. Григора и в Речи философа также следует логике, подсказанной общей огласительной практикой. Учение армянского автора, составленное в V в. на основании Священного Писания, «чтобы верой и крещением просветить окутанные мраком сердца» язычников (Агатангелос 2006) — пересказ с богословскими толкованиями тех же событий Ветхого Завета, что отражены и в Речи , но без апокрифических эпизодов (и без мотива свержения ангела с небес). За толкованием книг Бытия, Исхода, также как в Речи , в нескольких фразах упоминаются сюжеты книги Судей и Царств, затем следует Новый Завет, пророчества и события Пятидесятницы.
Стратификация текста летописи, осуществленная А. А. Гиппиусом, предполагает, что Речь Философа (в виде монолога без «пророческой» и «богословской» части) введена в летописание составителем свода 70-х гг. (или свода Изяслава н. 60-х гг.) на этапе, предшествующем Начальному своду, в рассказ о «выборе веры», где превалировал миссионерский полемический контекст (Гиппиус 2008: 20—23; Гиппиус 2012: 37—63). Но Речь —монолог без пророческого раздела, казалось бы, не содержит соответствующие (полемические) аллюзии. Полемическому миссионерскому контексту общего летописного рассказа не соответствует также и последующая (на этапе Начального свода 90-х гг., согласно Гиппиусу) трансформация Речи из монолога в беседу (с интерполяцией пророческого раздела и богословского заключения), воспроизводящую структуру и содержание оглашения: Ветхий Завет, Новый Завет, тайноводственное заключение. Следовательно, или в сводах 60—70-х гг. и 90-х гг. XI в. был другим (огласительным) контекст рассказа, в который была включен изначально монологический, а затем преобразованный в диалог огласительный текст Речи, или текст Речи — монолога изначально имел полемическую направленность, не очевидную сегодня, или текст Речи сложился за пределами древнерусского летописания, а затем был отредактирован в полемических (миссионерских) целях и введен в летопись.
О характере огласительных поучений в Киевской Руси можно судить по тому, что в Типиконе Великой церкви говорится лишь о чтении некоего огласительного текста с амвона (без толкований) и по сохранившейся в древнерусской церкви московского периода традиции наставлений и поучений в виде соборных чтений вслух. Логично предположить и в киевский период существование многословных огласительных текстов, о содержании которых можно, например, судить по сведениям, приведенным в Житии св. Авраамия Ростовского (ум. в 1072—77 гг.) (Никитина 2001: 612—629). В Житии ростовского просветителя рассказывается о купцах, ходивших из Новгорода, Пскова и «из немец» и обративших в христианскую веру отрока повествованием о том, как «исперва сотвори Бог небо, и землю, и море, и вся, яже в них, и первого человека Адама в раи сотвори и т.д.». В приведенном в Житии кратком изложении древнего огласительного курса (см. Приложение № 1) в сравнении с Речью Философа не хватает многих эпизодов, прежде всего,
Вып. 8. 2016
«апокрифических». Но, тем не менее, картина оглашения как вести о промыслительном Божьем действии в мире воспроизводится и в том и другом тексте. И хотя житие святого, деятельность которого относят то к XI, то к XIII вв., было составлено не ранее XV в. (Голубинский 1903: 82—83; Кадлубинский 1902: 1—43), в нем изложен тот же порядок оглашения, что и в Речи — через знакомство со Священной историей.
«Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» — памятник древнерусской житийной литературы, написанный в XI в. Нестором Летописцем, пересказывает во вступлении библейскую историю от сотворения мира и до апостольской проповеди Евангелия «по всей земли. якоже заповѣда имъ Богъ» (Приложение № 2)17. В историографии не раз упоминалось, что Священная история — зачин ко всему тексту «Чтений», и по плану, и по содержанию чрезвычайно близка летописной Речи Философа . В содержании, в образном строе и в богословии много общего — мотив творения неба и земли, творение человека Своими руками18, свержение дьявола с небес. В библейско-историческом вступлении «Чтения» встречаются и аллюзии на первоначальную катехизическую функцию текста: в рассказе о Христе — «крещьшюся отъ Іоанна. намъ образъ давъ. да и мы крестимся во имя Его», в словах Иисуса «всь иже вѣруетъ и крестится и спасенъ будеть. а иже вѣры не имѣть осудится въ муку вѣчную». Тем не менее, в двух сравниваемых текстах много и различий в структуре и стиле повествования, в переводе слов, в отдельных эпизодах. Шахматов А. А., сопоставляя Несторово «Чтение» и Речь Философа , высказал в свое время предположение, что наиболее вероятным является происхождение Речи и историкобиблейского экскурса Несторова «Чтения» из одного общего источника (Шахматов 1908: 54). Слова Нестора «но да не продолжу рѣчи. но въскорѣ извѣщаю» свидетельствуют, что аудитории «Чтения» содержание историко-библейского экскурса было известно. При чтении вслух недостающий в «Чтении» период Священной истории от Авеля до пророков, вероятно, воспроизводился по другому известному всем письменному источнику или по памяти. Замечание Нестора свидетельствует о том, что, отказываясь от полного воспроизведения широко известного текста, он продолжает все же следовать, должно быть, устоявшейся богослужебной традиции предварять чтение житий на утрене чтением огласительного текста, близкого тексту Речи философа .
Если празднование памяти святых страстотерпцев Бориса и Глеба было связано с массовым оглашением, то оно должно было сопровождаться постом и соответствующими богослужебными чтениями. Традиционным временем оглашения в годовом круге с древности был Великий пост, когда огласительные чтения начинались с первой главы Бытия (см: Иоанн Златоуст 1993. Беседа вторая): «В начале сотворил Бог небо и землю» (Карабинов 1912: 362). Эти же главы (Быт 1. 1—13) входили согласно византийско-славянскому профитологию в паремии на вечерне пред Рождеством и Богоявлением (Алексеев 2004: 70) — праздники, на которые издавна, так же как и на Пасху, приходились массовые крещения оглашаемых. Несторовы же «Чтения» составлены для праздничной службы русских страстотерпцев 24 июня — дня памяти русских святых19. И они начинаются узнаваемыми словами огласительного (и постового) чтения: «Искони бо рече. сътвори Богъ небо и землю…», являясь чтениями на утрене суточного круга праздничной службы древнерусским страстотерпцам. На утрене зачитывалось космографическое введение «Чтений» — огласительный текст, а исторические паремии Борису и Глебу, начинающиеся с
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата богослужебного указания на чтение «от Бытия», читались на вечерне (Милютенко 2004: 142—145; Невзорова 2004: 428—452).
Как было замечено выше, огласительные чтения в византийском богослужебном суточном кругу Великого поста устанавливались после тритекти и перед вечерней. Но в греческих евхологиях (Grottaferrata Г.β.I; Paris. Coisl. 213) есть указания на то, что византийский чин песенного последования предусматривал оглашение и на утрене с вечерней (Афанасьева 2015: 18—20). Огласительные молитвы (оглашение) на утрене и вечерне в славянских переводах греческих евхологий Н. Красносельцев также связал с практикой песенного последования, восходящей к древнейшему богослужебному чину (Красносельцев 1889: 104). Зачин «Чтения о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», следовательно, свидетельствует, что оно составлялось под влиянием константинопольской богослужебной традиции Великой церкви. Место, занимаемое в годовом богослужебном круге такими «огласительными» утренями и вечернями, не до конца ясно, но их связь с постами неизбежна (Красносельцев 1889: 106). Следует предположить, что и церковное празднование памяти первых русских страстотерпцев сопровождалось летним постом.
Хотя прямых свидетельств существования летнего поста в связи с памятью свв. Бориса и Глеба в истории не сохранилось, известно, что в 1369 г. святитель Алексий пытался установить седмичные посты перед днями памяти Бориса и Глеба (24 июля по ст. стилю) и Дмитрия Солунского (26 октября по ст. стилю) (Турилов 2001: 5—6). Практика этих постов не прижилась в Московской Руси, но не было ли нововведение св. Алексия попыткой возродить древнюю традицию русской Церкви, изначально связанную с оглашением? Нифонтовы ответы на вопросы Кирика указывают восьмидневное оглашение для славянина, которое должно было сопровождаться и соответствующим постом. Примечательно, что память свв. Бориса и Глеба приходится на девятый день после даты кончины кн. Владимира — 15 июля. Между церковными памятями св. равноапостольного князя Владимира и его детей, прославленных в чине страстотерпцев — ровно восемь дней. Столько же дней между праздником Георгия Победоносца (23 апреля по ст. стилю), одного из самых почитаемых святых в Киевской Руси, и майским праздником перенесения мощей Бориса и Глеба (2 мая по ст. стилю). Вероятно, практика чтения огласительного текста, некогда связанная с массовым оглашением в дни празднования памяти древнерусских страстотерпцев свв. Бориса и Глеба, ко времени составления «Чтений» была уже угасающей, но еще памятной традицией. Нестор, хотя и не находил нужным полностью воспроизводить огласительный текст, вовсе от него отказаться в своем труде не решился.
В описании Ефросинова меньшого соборника Кирилло-Белозерского собрания к. XV в. указывается название статьи «Нѣкоего философа къ князю Володимеру Кие… (В лето шесть тысящное четы…)» (Никольский 1897: 68; РНБ. Кир.-Белозер. собр. 101/1178 (409). 4/4 XV в. Л. 166). Несохранившаяся рукопись, содержавшая чтения из писаний св. отцов и учителей церкви сообразно богослужебному кругу от Пасхи и до Великого поста, включала на 14 листах список Речи философа . В черняке этой описи та же статья озаглавлена: «Слово ѿ Бытiа20 святому кнѧзю Владимиру»21. Переписчик, пишет Н. К. Никольский, указал, таким образом, на место Речи философа в богослужении22 (Никольский 1897: LVI). Древний
Вып. 8. 2016
соборник , свод соборных чтений на богослужении или за братской трапезой — свидетельство литургического использования в древней Руси самого летописного текста Речи философа , а не только близкого ему огласительного текста, составленного по традиционному плану.
Показательно, что редакторы летописных текстов не раз стремились приблизить текст Речи Философа к библейскому канону. Тенденцию «исправления» текста Речи Философа можно проследить в Львовской летописи с сильно расширенным рассказом о сотворении мира, с рассуждениями о бесах, с сохранением трехчастной композиции и вопросов. С исчезновением института взрослого оглашения текст Речи нередко сокращался в историкобиблейской части с сохранением заключительного раздела, как, например, в Ростовском летописце (список XVII в.), или, напротив, усложнялся в своем содержании в ориентации на любителя «книжной мудрости».
Памятник восточнославянской словесности «антииудейской» направленности — «Толковая палея» в своей ветхозаветной части воспроизводит многие из «апокрифических» эпизодов, имеющихся в летописном тексте (исключение составляют некоторые сюжеты Моисеева цикла), но, как отмечал еще А. А. Шахматов — более пространно и последовательно (Палея Токовая 2002: 6). Палея не только следует тому же плану изложения, что и Речь , но и воспроизводят порой характерные словесные обороты, вероятно, присущие их общему протографу. А. А Шахматов, сравнивая Речь с текстами Толковой, Хронографической (или полной) и Краткой Палеи, изначально считал Речь философа одним из источников Толковой Палеи. Он писал, что можно, конечно, предположить бытование протографа, существовавшего вне летописи, но подтвердить это предположение каким-нибудь определенным указанием он бы не сумел: «буквальная близость к « Речи философа » доказывала бы, что предполагаемый протограф был очень близок к летописной редакции « Речи философа » (Шахматов 1940: 138). Ученый не признавал наличие внелетописной редакции Речи , поскольку это повлекло бы признание ее русским памятником, что ему казалось совершенно невероятным. Но сопоставление ее текста с текстом других Палей все же привело его к признанию источника, общего для них (Шахматов 1940: 147). Он видел в Речи философа компиляцию летописца, основанную на некоем неизвестном хронографе, из которого авторы Палеи черпали дополнительные сведения, не отраженные в летописи. Этот «хронограф» близок тому огласительному тексту, который в пору своего наиболее интенсивного обращения в литургической практике (кон. X — перв. пол. XII вв.) воспроизводился при случае по памяти и в свободном изложении с теми или иными изменениями в содержании и лексике. Составитель Речи философа образцом имел этот же катехизический текст, что согласуется и с выводом Т. Л. Вилкул, обобщившей наблюдения по смешению в Речи паремийного и четьего вариантов библейского текста и преимущественному воспроизведению цитат в пересказе и предположившей их заимствование «из различных кодексов книг Библии, или же, скорее, рукописей, а также звучащего на службах слова» (Вилкул 2012а: 12).
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
Адресат Речи философа
Как известно, оглашение в древности завершалось толкованием таинств Церкви, чаще всего — Крещения и Евхаристии (Гаврилюк 2001: 172, 208—210, 250—252). Катехуменам объясняли обряд крещения до совершения самого таинства, а также раскрывали после первого причастия (обычно, на Светлой седмице) содержание евхаристии23. Акцент в заключительных беседах делался на том, что считалось актуальным для конкретных оглашаемых — на христианской аскетике, догматике или мистике. И в «тайноводственной» интерполяции Речи философа (Гиппиус 2001: 176, прим. 26) перечисляются те темы, что особым образом занимали ее составителя/редактора и его предполагаемую аудиторию: крещение «водою», Крест и Воплощение от «жены».
Заключительный раздел Речи философа , имеющей, как отмечает Л. Мюллер (Мюллер 2000: 159), определенные коннотации со «Словом о законе и благодати» митрополита Илариона середины XI в., в троекратном воспроизведении мотива «обновления водою» — синонима слова «крещение», ориентируется на ту же аудиторию, к которой обращена и речь Илариона, славившего Крещение — залог «пакыбытїа» «нового» народа, который «помовененъ водою. закономъ и обрѣзанїемь прїиметь млѣко благодѣть и крѣщенїа»24. Крещение как обновление — нередкий мотив огласительных текстов, начиная с первохристианских веков. Но он отсутствует в Евангелии и Деяниях апостолов, где упоминается именно крещение водою (Дн.1:5, 11:16; Ин 1.26, 1.31, 1.33; Лк 3.16; Мк 1.8; Мф 3.11;) — Иоанново крещение (Лк 7.29) «во оставление грехов», долженствующее восполниться грядущим от Христа крещением Духом Святым и огнем (у Мк — только Духом Святым). В Толковой Палее встречается выражение «въ водѣ крещаеться» (Палея Толковая 2002: 218) в контексте Искупления погибшей человеческой природы, т.е. в контексте Иоаннова крещения «во оставление грехов».
Традиция толкования крещения как возрождения и обновления крещаемых идет от апостольских посланий (Рим. 6:4), она, преимущественно, и прослеживается в древних катехизических сочинениях. Уже Ириней Лионский говорит о крещении во оставление грехов как печати вечной жизни и возрождения (Ириней Лионский 2008: п. 3, 7). Кирилл Иерусалимский во Втором тайноводственном поучении (Ириней Лионский 2008: п. 6) объясняет: «никто не помышляй, что якобы крещение есть благодать оставления грехов токмо, каково было Иоанново крещение: но оно есть и благодать усыновления». В его Третьем огласительном поучении (Ириней Лионский 2008: п. 2) имеются параллели к заключительному разделу Речи философа : упоминается Ноев потоп, «жидовескъ род мори очистишася» и «духъ божии ношашеся верху воды». Очевидно, что тексты летописного философа и Кирилла Иерусалимского созданы в рамках общей традиции оглашения, тем показательнее, что у последнего в его сочинениях не встречаются словосочетания «крещение водою » («водою крестися») и « водою обновление», а в небольшой по размеру Речи они приводятся пять раз. Одна из огласительных бесед Иоанн Златоустого — «Слово 1 к готовящимся к просвещению» содержит отдельное рассуждение о «том, почему крещение называется банею пакибытия, а не оставления грехов». Он также не использует словосочетание «крещение водою » или « водою обновление». В армянском катехизисе —
Вып. 8. 2016
«Учении св. Григория» об обновлении говорится в контексте идущего от апостолов крещения водой и Духом (vehi.net: 1). Кирилл Туровский в проповеди на Крещение Господне называет крещение «пакипорождением» и говорит о Христе, который крестит верующих « водою и духом и огнем : водою же иже может омыти грешныя скверны, духом могущим земныя претваряти, огнем иже может ижещи безакониа терние» (Никольский 1907: 67—74). И у него слово «вода» не встречается в сочетании со словом «крестить» или «обновление» (и производными от них). Этот далеко не полный обзор все же дает возможность утверждать, что «крещение водою » и « водою обновление» не являются топосом средневековой вероучительной литературы, скорее понятие locus communis можно было бы отнести к представлениям о крещении как «обновлении» . Обращение автора/редактора огласительного текста — Речи философа , к евангельской (апостольской) формуле «крещения водой » («обновления водой ») актуализирует образы и идеи первохристианских времен, что, конечно, отчасти обусловлено ситуацией первоначального христианского просвещения Руси, но не только этим.
Давно замечено, что заключительный раздел Речи философа воспроизводит текст вопроса—ответа от слов «что ради от жены родися…» до слов «паки водою очищаю грѣхи человекомь», встречающийся в некоторых списках Беседы Трех святителей — апокрифа, содержащего аллюзии на богомильское учение. Неизвестным остается характер взаимосвязи летописи и Бесед, но в Синодальном списке25, который Мочульский называет первой редакцией Бесед, нет ни слова о крещении (Мочульский 1887: 235, прим.). Список из собрания Григоровича, относимый тем же исследователем ко второй редакции (Мочульский 1887: 241), также ничего не сообщает о крещении в ответе на вопрос: за какую вину Христос водою крестися26? А Кирилло-Белозерский27 и Троице-Сергиевский28 списки Бесед упоминают «водою обновление» единожды в характерном ключе, выявляемом при их сравнении с соответствующим отрывком заключительного раздела Речи философа в Новгородской Первой летописи младшего извода.
|
Новгородская летопись мл. извода |
РНБ. Кир.-Бел. №22/1099. XV в. Л. 15 |
РГБ. Ф.304.I. №122. Л. 194—195 |
|
А еже водою обновление: понеже при Нои, умножившимся грѣхомъ въ человѣцѣхъ, и наведе богъ потопъ на землю и потопи человѣкы водою; |
А иже водою обновление, понеже при Нои умножившимся грѣхом въ человѣцехъ, наведе Богъ потоп на землю, потопи человеки на земли водою. |
И еже водою обновление, понеже грехъ ради потопи весь родъ человеческыи водою, |
|
сего ради рече богъ: «понеже погубих человѣкы грѣх ихъ ради, нынѣ же пакы водою очищу грѣхы человѣкомъ, обновлениемь водою» |
Сего ради рече Богъ: «По немже погубих водою человеки грѣх ради, в немже паки водою очищаю грѣхи человекомь». |
того ради Богъ обновление всему мироу дарова |
25 ГИМ. Син. 330 (682). XVI в. Л. 167об—170.
26 Ответ: потопляет воде род еврейский.
27 РНБ. Кир.-Белозер. №22/1099. XV в. Л. 15.
28 РГБ. Ф.304.I. № 122. Л. 194—195.
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
|
ибо Жидовескъ род в мори очистишася от египетьскаго злаго нрава, понеже вода изначала бысть пръвѣе, рече бо: «духъ божии ношашеся верху воды». |
Лакуна |
яко два разбойника еста, единъ иже съволачить съ оубогаго, а другый иже видевъ нища нага и одежеть…( Далее следует наставление о справедливом суде ) |
|
Еже нынѣ крестятся Духомъ и водою, якоже и Гедеонъ прообрази, по семь; егда прииде к нему аггелъ, веля ему ити на Мадиамы, он же, искушая, рече къ богу, яко положю руно на гумнѣ… |
Еже бо и нынѣ креститься Духомь и водою. |
Если Кирилло-Белозерский и Троице-Сергиевский списки Беседы производны от текста близкого летописному тексту, то их редакторы сокращали и изменяли его исходя из традиционного представления о крещении водою как благодати «оставления грехов токмо», намеренно обходя мотив воды , присутствующий в летописи. Они ориентировались на известную святоотеческую традицию толкования крещения. Если летописный текст вторичен по отношению к этим спискам, то летописный редактор расширил и развил тему «обновления водою», акцентируя необычным образом мотив воды . Наиболее вероятным представляется происхождение всех трех текстов от общего письменного источника (Димитрова-Маринова 1998: 49, прим. 22), где присутствовал мотив «обновления водою», который каждый редактор интерпретировал и развил согласно своим задачам. Таким образом, содержание обряда крещения в летописной Речи философа раскрывается через уникальную для катехизической традиции и для остального текста ПВЛ тему «крещения водою» и «водою обновления». Указывается значение крещения водой : аскетическое — вода и «жидовьскый род въ мори очистишася от египетскаго злаго нрава», онтологическое — вода изначально была первой, когда «Духъ Божий ношашеся връху воды, еже бо и нынѣ крестятся водою и Духом», и мистическое — первое предзнаменование было водою, «якоже Гедеон прообрази». Составитель летописного текста подчеркнутым образом убеждал своих читателей, что креститься нужно водою. Тема «воды» — сквозной мотив и иных разделов Речи философа . В ветхозаветном разделе Моисей по указанию Бога, в одном случае, осладил горькую воду в Мероне, в другом — извлек ее из камня ударом жезла, чтобы напоить народ. В завершении пророческого раздела приводится пророчество Захария о рве, в котором не было воды . Слова «Ты въ крови завѣта твоего испустилъ еси ужникы своя от рова, не имущи воды» (Зах 9.9) могли бы стать заставкой к экзегетеческой проповеди о спасительности «водного» крещения. Предсказуемым образом и новозаветный раздел Речи заключается словами о крещении водою .
В XI—XII вв. аргументация богословского характера, присутствующая в Речи философа , была доступна или членам церкви, уже просвещенным христианским учением29, или еретикам — средневековым рационалистам и гностикам, имевшим опыт самостоятельного толкования Писания. Изначальная катехизическая функция протографа Речи философа , как
Вып. 8. 2016
будто, априори указывает на вторых — оглашаемых, вероятно, находившихся под влиянием еретических представлений о крещении, Кресте и Воплощении, например, павликиан и богомилов, чье присутствие чрезвычайно ощущалось тогда на Балканах и в Византии. Еретики «дуалистического» толка30 не признавали «водное» крещение, не почитали Крест, держались докетических воззрений на Воплощение. Их проповедь, являясь синтезом самых различных духовных учений, содержала много общего (Левицкий 1870: 38—54; Киприанович 1875: 564; Оболенски 1998; Хасанова Мустафова 2015), но в отношении к аскетике, в частности, к браку и посту были определенные различия (Левицкий 1870: 38—54; Киприанович 1875: 564; Оболенски 1998; Хасанова Мустафова 2015). Богомилы постились, а «совершенные» из их среды придерживались вегетарианства, соблюдая заповедь «не убий». Они, в отличие от павликиан, осуждали брак и рождение детей, как умножение зла видимого мира. Ортодоксальные полемисты обвиняли порой павликиан в распущенности, что звучало гораздо реже, когда речь шла о богомилах, которые, «ѧко ѡвца ѡбразомъ» (Попруженко 1907: 3), казались многим «простецам» примером воздержания, смирения и постоянной молитвы (в древних текстах их иногда сближают с мессалианами).
Учение богомилов никогда не принимало форму определенной философской системы и было смесью далекой от «патристической учености» экзегезы библейских текстов, апокрифов и народного суеверия (nordxp.3dn.ru: 1). К тому же оно менялось во времени. Богомилы, как и павликиане, отвергая крещение водное, считая его плотским (Иоанновым), принимали крещение «духовное» (Ангелов 1954: 61; Иванов 1970: 26; Попруженко 1900: 79; nordxp.3dn.ru: 1), не признавали Ветхий Завет, церковные таинства, не почитали наряду с крестом Богородицу, иконы, мощи святых. Как и павликиане, богомилы верили, что Бог— Слово, он же архангел Михаил, по представлениям богомилов, родился, страдал и умер призрачно (Попруженко 1900: 76, 90), а дева Мария не уразумела, как обрела его «вь врьптѣ лежеща» (Попруженко 1900: 23). В «Liber S. Iannis» («Тайной книге Иоанна») — достоверно приписываемом богомилам апокрифе, Мария — ангел, и Христос родился, войдя к ней в одно ухо и выйдя через другое (Иванов 1970: 27; Киприанович 1875: 540; Попруженко 1900: 23; nordxp.3dn.ru: 1). В Житии Илариона Мегленского, святого, противостоявшего богомильской ереси в XII в., обличаются еретики, именующие Богородицу «небесным Иерусалимом», а тело Христа — небесным. А Синодик царя Бориса сообщает, что богомилы полагали Христа призрачно родившимся от Марии, поскольку рождение детей в их глазах было делом сатаны — создателя всего плотского, и дети — его порождение, «мамонищи», как их называли еретики (Попруженко 1900: 79).
Составитель заключительного текста Речи, доказывая, что Спасение могло быть лишь в обретении Христом совершенного человеческого естества через Воплощение от земной женщины, полемизировал с воззрениями, отголоски которых находятся и в иных древнерусских письменных памятниках. Так, в древнерусского происхождения толкованиях на «Святого Грїгорїа Феѡлога Словеса избраньнаѧ еже соуть толклваѧ » (Архангельский 1889: 146—147), встречается следующее обличение еретического взгляда на Воплощение: «да не мнѧть нѣции невъчловѣчьшасѧ (Христа), и не мнѧть ꙗко не естьствеными дверми проиде. но глаголеть ѡкаꙗнїи и проклѧтии еретици, ꙗко привидѣнїемъ нѣкымъ родисѧ» Христос (РГБ. Ф. 304.I. № 122. XV в. Л. 64об). Митрополит Иларион в своей проповеди
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата подчеркивал, что истинно, а «не привидѣнїемь пришедъ на землю» и «въ плоть одѣвсѧ» Спаситель (ГИМ. Син. 591. Л. 168б, 176б), и Толковая Палея убеждала «жидовина», что Спаситель обитал на земле «не прївидѣниемь, ни мечтаниемь» (Палея Толковая 2002: 314). В глазах средневековых еретиков Христос как родился, так и распят был призрачно на древе, извлеченном из рая, где его, по их поверьям, насадил сатана, потому они кресту (орудию казни) не покланялись (Димитрова-Маринова 2004: 339—340; Попруженко 1907: 8).
Тема креста возникает уже во «вступлении» к Речи философа — в рассказе о миссионерских посольствах. «Жидове Козарьстѣи», прибыв с миссией к Владимиру, хотя о своей вере и сообщают предельно лаконично: «мы вѣруемъ единому Богу Авраамову, Исаакову, Иаковлю», не забывают объявить, что Того, в кого христиане верят, они, иудеи, распяли. И Владимир в беседе с Философом упоминает далее: «придоша ко мнѣ Жидове, глаголюще: яко Нѣмци и Грьци вѣрують, егоже мы распяхомъ». Само оглашение князя начинается с его вопрошания о Страстях и Кресте: «Что ради сниде Богъ на землю и страсть такову прия?» Тема Креста, Страстей и наказания жестокосердных «жидовъ» центральная и для «Слова о блаженном Евстратии» Киево-Печерского патерика — текста византийской (херсонесской?) традиции (Петрухин 2005: 224). Здесь «жидове» уговаривают якобы распятого ими на кресте Евстратия принять иудейскую веру, приводя единственный аргумент: «ибо Моисей закон приим от Бога и нам да, и се въ книгах речеся: Проклят всяк, вися на дереве» (Пузанов 2014: 70). Святой вступает в полемику с ними и отвечает словами Моисея же, которые в парафразе воспроизводятся и в пророческом разделе (о Страстях) Речи философа — «видите живот ваш, висящъ прямо очима вашима», после чего, пронзенный копьем, возносится на небо на огненной колеснице, запряженной огненными конями, сопровождаемый гласом, говорящим, что теперь он «добрый небеснаго града гражанинъ нареченный!». Рассказ Киево-Печерского патерика мог бы служить литературной иллюстрацией к утверждению прообразовательного раздела Речи философа : «Богъ же на древѣ страсть приать, да древом диаволь побѣжен будет, и от древа праведнаго приимут праведнии». Огненное вознесение Евстратия, подобное вознесению пророка Илии, напоминает огненное же преображение вознесенного на небеса праведного патриарха Второй книги Еноха, не только известной богомилам, но и, вероятно, переработанной под их влиянием (Иванов 1970: 188). Персонаж иудейской мистической апокалиптики Енох — первенец «будущего эона, когда все праведные люди сподобятся стать светоносными» (Орлов 2014: 57), имел на небесах созданное по образу Лица Господа лицо, столь пышущее жаром, что перед его возвращением на землю ангел должен был остудить его. Не обсуждая генезис и характер «богомильских» аллюзий во Второй книге Еноха (в первую очередь, образа князя падших ангелов — Сатанаила), отметим, что богомилы знали и читали эти книги. Но участие еретиков в составлении Пространной (славянской) редакции маловероятно, хотя бы по причине известного отрицательного отношения богомилов к письму. Неслучайно, единственный памятник, надежно им приписываемый — Тайная книга Иоанна дошла в латинской записи католических монахов. Потому, имеющиеся в книге Еноха параллели богомильским «басням», скорее, следствие противобогомильской редактуры, оформившейся в Пространную редакцию текста. Полемическое противостояние прежней «адамической» традиции «енохической» традиции, возможно, действительно принадлежащее первоначальному богословскому замыслу (Орлов 2014), в славянской редакции получило новый импульс: в противовес «енохической» традиции «адамическую» традицию поддержали введением узнаваемого богомильского персонажа — Сатанаила и иных аллюзий на славянских еретиков. Богомилам, отвергавшим церковные таинства и видевшим путь
Вып. 8. 2016
спасения в личном благочестии и «духовном» крещении, был близок образ светоносного праведника. Легко просматривается связь между видением Лица Господня, «яко желѣза разжжено въ ѡгни» (Енох 2: 21), и богомильским описанием солнечноликого Бога—Отца (Попруженко 1900: 15), между преображением Еноха через помазание маслом (Енох 2: 22), «яко лоуче солнчне лъстѧщесѧ», и «духовным» крещением, которое в церковном таинстве Крещения Духом знаменуется миропомазанием. Славянский редактор Второй книги Еноха обращался не столько к иудеям, сколько к славянским еретикам, когда провозглашал блаженство тех, кто разумеет всякое дело Господа сотворенным Богом (Енох 2: 43): богомилы Господа Иисуса Христа почитали не Богочеловеком, а ангелом.
Представления о крещении «водою», Воплощении и Кресте (Иванов 1970: 96—106; Попруженко 1900: 26—27) препятствовали, очевидно, присоединению к Церкви славянских язычников, отвергавших церковные таинства, прежде всего — крещение «водою», под влиянием еретической проповеди богомильского (павликианского) толка. На этом и сосредоточено внимание редактора Речи философа , который присоединил типологический раздел в целях замещения еретической «прельсти» православным учением. Обличение, опровержение неверного велось здесь приемами косвенной, скрытой полемики.
В Речи философа преимущественное внимание уделено пересказу ветхозаветных событий, что может указывать на оглашаемых, не только не знавших Закон Моисея, но и имевших неверное представление о нем. Например, таких, которые находились под влиянием богомилов (или павликиан), с подозрением относившихся к письменному слову (как и ко всему вещественному) и отвергавших Ветхий Завет всецело или частично (исключение делалось лишь для Псалтыри и 16 книг Пророков), считавших, что сатана, создавший весь видимый мир, сам и управлял им, он же есть и злой бог Ветхого Завета, передавший закон Моисею (Попруженко 1900: 14, 26). В Речи пересказываются те ветхозаветные события и с такими акцентами, которые могли быть актуальны для полемики с богомилами, павликианами и язычниками: Творение мира, падение человека, Ноев потоп, столпотворение, кумиротворение, история патриархов Авраама, Иакова, Моисея, пророчества «об отверженьи жидовьсте», о Воплощении, Страстях и Воскресении. Так же как и в паремийных чтениях Великого поста, ориентированных на оглашаемых, здесь опущены многие эпизоды, порочащие патриархов (Алексеев 2004: 60—61). Библейские события изложены лаконично и с видимым самоограничением не только в содержании, но и в выразительных средствах. Тем примечательнее наличие в Речи эпизодов, необязательных с точки зрения библейского канона. Впрочем, вряд ли составитель текста считал их неканоническими: большую их часть он заимствовал из византийских хроник, несомненно, авторитетных в его глазах.
Вместе с сюжетом падения одного из ангелов на четвертый день Творения31 редактор— составитель ввел в Речь философа ключевой персонаж богомильских мифов — Сатанаила32. Повествование от слов «видев же первый от ангелъ, старейшина чину ангелску…» до слов «отпадъ славы первое, наречется противникъ Богу» недвусмысленно обозначает статус «противника Богу» и его роль в Творении мира и человека. Сотонаилъ не сын Бога, старший или младший (в разных богомильских легендах), а лишь первый среди ангелов,
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
«старейшина» ангелов (унылых и с устами молчащими — в книге Еноха). Сюжет, заимствованный из дуалистического мифа (Левицкий 1870: 62; Попруженко 1900: 16—20), переосмыслен и изменен с определенной тенденцией. Ангел зла, вопреки богомильским (и павликианским) поверьям (Cosmas Presbyter 2006: 14), не участвует в создании видимого мира и человека: и земля, и небо, и светила, и человек, и все, что наполняет землю, сотворены Богом. Сатанаил — персонаж также и Пространной редакции Второй книги Еноха, где глава падших ангелов помещен в ситуацию ограничения власти даже в большей мере, чем в Речи философа : «григоры» (подданные Сатанаила) нуждаются в наставлении Еноха так же, как и их «братия» со второго неба — в его молитве.
Равным образом и в последующем повествовании Речи (падение Адама и Евы, убийство Авеля33) сатана — дух, лишенный способности самостоятельного действия, зло же делает человек «по дьяволю научению», когда отступает от Божьих заповедей. Такое представление далеко отстоит от догматики, космогонии и эсхатологии богомилов и павликиан, где центральное место отводится отпадшему от предвечного Бога Сатанаилу, создателю тела человека и видимого мира (Иванов 1970: 22), в котором он и его слуги—бесы наделены самостоятельной волей. Вселяясь в людей, демоны богомильских «басен» пребывали с ними даже по смерти в гробу в ожидании Страшного Суда, оттого, чудеса, совершаемые у мощей святых, еретики приписывали бесам (Киприанович 1875: 545). Козни владыки земного мира, по их же представлениям, обрекли и «ангела» Иисуса на распятие и смерть, хотя и призрачную.
В Речи философа проблема теодицеи решается способом противоположным дуалистическому учению34. В эпизодах падения Адама и Евы и убийства Каином Авеля «противник» Бога не обладает способностью самостоятельного действия и проявляет себя лишь духовно — помышлением. Слова «возми камень и ударѝи», сказанные сатаной Каину, недвусмысленно указывая источник зла и его инициатора, столь же определенно указывают субъект действия. Человек в Речи философа обладает свободной волей, что демонстрируется в противопоставлении неразумному поступку — поступка праведного: столпотворение сопровождается отказом Авера, не приложившегося к общему безумию, а кумиротворению, приведшему к гибели Арона, воспротивился пришедший «въ ум» Авраам. Мысль об ответственности людей за собственную гибель присутствует в неканоническом эпизоде предупреждения Ноем людей о потопе: те «посмехахуся ему». Заимствованный из хроники Георгия Синкелла сюжет гибели Арона, вознамерившегося вынести кумиров из храма, зажженного Авраамом, сопровождается характерной глоссой: «пред сѣмъ бо не умиралъ сынъ предъ отцемъ …»: смерть — апофеоз зла, связана с неразумием людей. Разумность же праведных в Речи последовательно проявляется в исповедании ими Единого Бога — Творца неба и земли. Отказ Авера от столпотворения введен отчасти и ради его исповедания, что все видимое и невидимое сотворено Богом: «Аще бы человекомъ Богъ реклъ на небо столпъ делати, то повелелъ бы самъ Богъ словомъ, якоже створи небеса, землю, и море, вся видимая и невидимая». Вопреки богомильскому (и павликианскому) учению, утверждавшему творение видимого неба и земли сатаной, Авраам, изобличивший «лесть» своего отца — идолопоклонника, исповедует Бога, «иже створи небо и землю». Оба праведника разумны
Вып. 8. 2016
(знают Бога) и потому избегают зла. Представление о человеке, онтологически свободном, свойственно и летописцу. В статье 1071 г., повествующей о волхвах, сообщается, что «бесы» — мистическое воплощение злых сил «не вѣдають мысли человѣчьскыя, но влагають помыслъ вь человѣка, а тайны не вѣдуща. Богъ же единъ вѣсть помышления человѣцьска, бѣси бо не вѣдають ничегоже, суть бо немощнии». Эти же представления разделял и составитель—редактор Речи философа .
Апокрифические мотивы вводят в огласительный текст темы и мотивы, отвечающие актуальным ментальным запросам той аудитории, для которой он предназначался. Так, рассказ о погребении птенца в Речи философа отсылает к ярко описанным погребениям в иных древнерусских хронографических и литургических текстах XI—XII вв., где повествуется о почетных похоронах, извлечениях мощей и перезахоронениях тел св. Феодосия, свв. страстотерпцев Бориса и Глеба, родственников князя Владимира и его многих потомков35. Заметное внимание уделено телесным останкам: от выноса тела только что умершего князя и указания места его погребения до прославления мощей святых, которые, согласно житиям, оставались неповрежденными и благоухали при перенесении. Тело братоубийцы Святополка лишалось сил еще при жизни и по смерти источало ужасный смрад, а тела повешенных волхвов, зачинщиков смуты (1071 г.), были разодраны и съедены медведем. Время первоначальной христианизации Руси знаменовалось постепенной сменой погребальной обрядности, когда трупосожжение заменялось ингумацией. Важно было убедить новокрещенных в том, что мертвые тела остаются подвластными Божьей воле: с телами умерших праведников пребывает благодать, а тела погибших грешников принимают заслуженное возмездие. Крещение останков князей Олега и Ярослава при их перезахоронении (1044 г.) принадлежит тому же ряду представлений о сохранении особой посмертной связи земного творения с его Создателем. О посмертной участи тела беседовал с женой Яня и св. Феодосий, предсказавший место ее захоронения (ст. 1090 г.). Добровольное посмертное поношение тела умершего митр. Константина, инициированное его завещанием (1159 г.), сколь бы сложной и проблематичной ни являлась его религиозно-церковная и историческая подоплека, демонстрирует прямо противоположное воззрение на мертвое тело (Литвина, Успенский 2009: 9—31; Толочко 2010: 17—22). Почитанию его вплоть до прославления в святых мощах противостоит крайне враждебное к плоти отношение. В Ипатьевской летописи под 1175 г. приводится характерный эпизод убийства князя Андрея Боголюбского: когда тело мертвого князя выволокли вовне на поругание псам, его верный слуга обращается к одному из убийц со словами «ѡ еретиче оуже псомъ выверечи. помнишь ли жидовине вь которыхъ порътѣхъ. пришель бѧшеть. ты нынѣ в оксамитѣ стоиши. а кнѧзь нагъ лежить». Именование убийцы «жидовином» объясняют негативными коннотациями, связанными с этим словом, этнической или иудейско-прозелитской принадлежностью убийцы (Грищенко 2011: 189—190), но включение в один ряд слов «еретик» и «жидовинъ» позволяет конкретизировать негативный смысл, вкладываемый в них летописцем. Ересь «жидовина», каково ни было ее содержание, так или иначе, связывается с поруганием тела мертвеца и отказом от почетного погребения. В протоколах же византийских синодальных заседаний XII в. имеются сведения о богомилах, выкапывавших трупы грешников в уверенности, что бес не отлучается от человека даже после его смерти (Гроссу 1913: 600— 601). Если на Руси XI—XII вв. было известно подобное «еретическое» отношение к останкам человека, то древнерусский клир имел особые причины поддерживать почитание святых
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата мощей. В XII в. Кирилл Туровский в «Притче о человеческой душе и теле (о хромце и слепце)» защищая плоть — «престол Божий», упоминает еретиков, сомневавшихся в воскресении плоти, и говорит: «Да егда видиши тѣло погребено в земли, не мни ту суща и душа: не от земля бо есть душа, ни в землю входить. Но аще и святых видиши чюдотворныя мощи, не ту их твори душа, но Божию разумѣй благодать, тако прославляющю своя угодники» (Кирилл Туровский 1956: 345—346). Проповедник внушал своей пастве, что душа не привязана к мертвому телу, а в мощах святых пребывает благодать от Бога. В представлениях же средневековых еретиков плоть после смерти препятствовала душе, стремящейся к Небу. В контексте противостояния подобным гностическим воззрениям, вероятно, и вошла в огласительный текст легенда о нетленности останков праведного Авеля, которые «не съгни» 30 лет и были преданы земле «повелѣньемъ Божиимъ» по подсказке двух птенцов.
Вслед за предположением, что объектом скрытой полемики Речи была квазидуалистическая ересь, встает вопрос прямых и косвенных свидетельств ее бытования на Руси. Сходство двух еретических течений (павликиан и богомилов), сколь ни велико, ограничивается все же некоторыми деталями и нюансами, наличие которых в Речи указывает скорее на богомильскую ересь, чем на павликианскую36. Например, неканоническое уточнение редактора протографа Лаврентьевской и Ипатьевской летописи, что «дьяволъ прелѣсти Евгою Адама», подчеркивает, что Ева не от дьявола родила Каина, как то утверждали богомилы (Skowronek 2013: 131—144). На богомильство же исследователи находят аллюзии в различных летописных статьях, среди прочих — в статье 1071 г., где летописец неким волхвам настойчиво инкриминирует такие атрибуты язычества, как многобожие и ворожбу. Статью некогда отредактировали, заметен «шов» там, где рассказывается о бесах: «Бѣси бо подтокше и на зло вьводять и по сем же насмихающися, вринуша и в пропасть смертьную, научивше <...> глаголати, яко се скажемь бѣсовьское наущение и дѣйство». Но вместо пересказа того, чему учили бесы, следуют рассказ о волхве, проповедовавшем, что Днепр через 5 лет потечет вспять, затем рассказ о двух ростовских волхвах, чудском кудеснике и новгородском волхве, собиравшимся ходить по водам. Интерполяции, иллюстрирующие «действо» бесов, изобилуют рядом несогласованностей и необязательными деталями. Например, приводится лишнее, на первый взгляд, замечание, что Янь первоначально собирался выйти к «волхвам» безоружным, а дружина ему посоветовала вооружиться. Рассказчик и далее настойчиво развивает тему оружия и опасности, якобы нависшей над Янем. Его встретили три (безоружные, судя по контексту) «мужа» с противоборствующей стороны и предупредили о смертельной для него опасности, а в ответ (вопреки ожиданиям читателя) их убивают. Надуманность рассказа о подавлении ростовских беспорядков проявляется и в указании, что ростовцы сами приводили к «волхвам» своих сестер, матерей и жен, и те их убивали, и имущество их забирали себе (и родственники не возражали?). А затем, когда Янь схватил «волхвов», казнят их родственники же убитых женщин.
Повествование Яня о ярославских «волхвах» в определенной мере пересекается с рассказом под 1024 г. о подавлении князем Ярославом суздальских волхвов, которые
Вып. 8. 2016
«избиваху старую чадь по дьяволю наученью и бѣсованию, глаголюще, яко си держать гобино». Слова Яня, обращенные к волхвам, также ради «гобино» истреблявшим знатных женщин: «створилъ бо есть Богъ человѣка от земля, и съставленъ костьми и жилами от крови, и нѣсть в немь ничтоже и не вѣсть ничтоже, токмо Богъ единъ вѣсть» созвучны словам Ярослава: «Богъ наводить по грѣхомъ на куюждо землю гладомь, или моромъ, или ведромъ, или иною казнью, а человѣкъ не вѣсть ничтоже». И Янь и Ярослав категорически не признают за волхвами некое их ведение. Возможно, в рассказе Яня реальные действующие лица прошлого были совмещены с современниками летописца — носителями тех же идей и образов. Яневы «волхвы» в действительности не были вооружены. Вызывает, например, недоумение эпизод, когда Янь отражает очевидно опасный удар топориком, «оборотя (свой) топоръ, и удари тыльемь». И тогда единственная упоминаемая летописцем жертва со стороны Яня — «поп», вне сомнения, безоружная, призвана, должно быть, как-то уравновесить жестокость расправ над безоружными же «волхвами». Вменяя ярославским «волхвам» убийство «лучших жен» составитель текста, возможно, руководствовался аналогичными соображениями. Примечателен и тот факт, что в эпизоде встречи новгородского князя с «волхвом» единственный участник событий, воспользовавшийся оружием, топором «подъ скутъ», был Глеб, убивший (явно безоружного) «волхва», похвалявшегося способностью предвидения.
«Волхвами», по свидетельству Борилова Синодика, называли себя «совершенные» из богомилов, демонстративно, как известно, не принимавшие насилие и убийства37. Возможно, автор летописного текста знал богомилов под этим самоназванием. Исследователи отмечают, что для языческих колдунов «волхвы», исповедующие богом Антихриста, сидящего в бездне, проявляют удивительную осведомленность в христианской эсхатологии (Бессонов 2014: 35). Подозрительную аллюзию на евангельский сюжет обнаруживает и новгородский «волхв», собиравшийся ходить по водам (Бессонов 2014: 30—34). Притом, что летописец вменяет «волхвам» веру во многих богов, они, отвечая на вопрос «кто их бог?», называют одного бога, хотя и карикатурной экспликации — сидящего в бездне. Православные полемисты упрекали богомилов в поклонении дьяволу — Сатанаилу, которого, согласно богомильским мифам, Христос по Воскресении победил и сковал в аду до Второго своего пришествия. Отметим, что и в стязании св. Сильвестра Римского с иудеем приписываемое «жидовину» призывание тайного имени его бога оказалось призыванием бесов (azbyka.ru: 1). Таким образом, и «жидове», как и «волхвы», обвиняются в поклонении противнику Бога. Им же приписывается и еретическое отношение к посмертным останкам.
Образ бога «волхвов» снижен и в изложении ростовскими «волхвами» учения о творении человека. Первой части рассказа (о Боге, который мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю, а сатана заспорил с Богом, кому из нее сотворить человека) находят определенные параллели в народной мифологии, что может означать как зависимость летописного сюжета от фольклора (Мельников 2011: 279—384), так и зависимость народного сказания от летописного текста (Подскальски 1996: 74) или от апокрифической христианской литературы (Бессонов 2014: 44—50). В историографии чаще всего соотносят с богомильством (Лихачев 1953: 209—210; Мочульский 1889: 173; Петрухин 2000: 317—318) вторую часть рассказа «волхвов»: «и сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, — в землю идет тело, а душа к Богу». Иногда ее отделяют от первой части рассказа (Бессонов 2014: 44; Obolensky 1948: 278). Но если
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата учесть общность интенции рассказа о «волхвах», то и первую его часть можно интерпретировать как своеобразную противобогомильскую инсинуацию — намеренно уничижительную «реконструкцию» этимологии слова «богомил» от созвучия слов «мил» и «мыл», что, конечно, фокусирует статью 1071 г на богомилов, а не павликиан, как предполагают со времени расшифровки Новгородского кодекса (Алексеев 2004а: 203—208; Зализняк 2003: 190—212). Слово «богомил» авторы славянских текстов не часто упоминали, вероятно, руководствуясь соображением, высказанным обличителем богомильской ереси Козьмой Пресвитером — еретик Богу не мил. И противобогомильские сочинения охотно прилагали к еретикам именование иных известных ересей, имевших нечто общее с богомилами в своем учении: павликиане, мессалиане, манихеи (Волски 2013: 79). В кормчих встречаются статьи, озаглавленные «О Месалианех иже суть ныне глаголемии Богомилы Бабуины» (Моšin 1955: 51), «О месалианех, иже суть богомилы» (Белякова 2006: 136; РГИА. Ф. 834. Оп. 4. № 548), а в Житии Илариона Мегленского осуждаются манихеи — «бѡгомильскые ересы поклонникы» (Житие Илариона Мегленского: 82). Влияние одних ересей на другие — несомненно (Дунаев 2015: 142—147), и древние полемисты в своих определениях, подчеркивая зависимость новых ересей от прежде осужденных, возможно, не слишком разграничивали их, объединяя под общим именованием «еретиков» — «волхвы». Смешение же ереси с языческим волхованием аргументированно объясняется описанной летописцем наклонностью богомилов к чародейству, всяческим пророчествам и обещаниям чудес (Бессонов 2014: 35). Потому полемические усилия летописца в значительной степени сосредоточены, с одной стороны, на сближении учения еретиков с языческим многобожием, с другой стороны, на уличении их в неспособности предугадывать будущее: в статье 1071 г. не однажды описывается незадачливость «волхвов», похвалявшихся своим даром предвидения, но не сумевших угадать и предотвратить собственную гибель. Зато, кажется, летописец много меньше сомневался относительно способности «волхвов» творить наваждения: ни новгородский «волхв», ни ярославские «волхвы» не допущены до демонстрации «чудес». И чтобы заверить читателя в бесовской природе волхования следом приводится сюжет обращения новгородца за волхованием к некоему кудеснику, боги которого не что иное, как живущие в бездне бесы «черни, крилати, хвостъ имущи», страшащиеся креста. Генезис этих «богов» восходит в большей степени к христианской демонологии, а не к язычеству, которое с видимым усилием приписывает «волхвам» составитель летописного текста. И в рассказе Философа о египетских волхвах-язычниках, предугадывавших будущее и дважды советовавших фараону убить Моисея, не намекал ли летописец таким образом на языческие корни неприязни «волхвов» (богомилов) к Моисееву закону? Далее рассказывая, что Моисею в купине огненной явился Бог (в каноническом тексте — Ангел Господень), что не иной кто, а ангел Гавриил поведал ему «о бытьи всего мира», т. е. Ветхий Завет, Философ также исподволь корректирует еретические представления о передаче Закона Моисею сатаной — создателем всего вещественного.
Иудейские коннотации ереси «волхвов» и популярность ветхозаветных апокрифов, известных и еретикам, и православным христианам, по всей видимости, способствовали особому интересу древнерусского церковного сообщества XI в. к Ветхому Завету в его соотношении с историей «нового народа». Предстоятель древнерусской церкви митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати», хотя и отстаивал превосходство Благодати и Нового Завета над Законом и Ветхим Завета, держался равновесия, согласного православному учению: Бог, «уставил закон в предуготовление истины и благодати, чтобы <пестуемое> в нем человеческое естество, уклоняясь от языческого многобожия, обыкло
Вып. 8. 2016
веровать в единого Бога, чтобы, подобно оскверненному сосуду, человечество, будучи, как водою, омыто законом и обрезанием, смогло воспринять млеко благодати и крещения» (pushkinskijdom.ru: 1). Того же равновесия держится автор толкования на слова апостола Павла в Изборнике XIII в., утверждая, что не отринул Бог «людии своихъ, яже преже позна» (Izbornik XIII: 177), и когда все народы примут крещение, тогда и весь Израиль спасется. Но, видимо, единства в этом вопросе не существовало. В одну из редакций «Слова о законе и Благодати» был интерполирован «противоиудейский» отрывок из Речи философа , где судьба и перспективы ветхозаветного народа рисуются много более черными красками (Молдован 1984: 10—16).
Псевдоеврейские «дебаты» (Пересветов-Мурат 2010: 431) с «жидовинами» в древнерусской книжности не были лишь явлением ретроспекции и литературного клише. Антииудейская риторика Толковой Палеи, действительно, обращена к «воображаемому противнику» (Алексеев 2008: 43), но этот «противник» (часто называемый «жидовином») не всегда равен ветхозаветному иудею. За ним предполагается знание не только канонического текста Бытия, но и Евангелий. Для него в Толковой Палее приводится толкование падения Сатанаила (Палея Толковая 2002: 57—61) и подобные летописным рассуждениям рассуждения о бесах, не сведущих в будущем. «Жидовинъ» уподобляет образ Божий образу ангельскому (Палея Толковая 2002: 74) (в иудейской мистике Он — Ангел Великого Совета), и, как будто, не разделяет христианские представления, сомневается в причастности Слова и Духа Творению (Палея Толковая 2002: 23, 26—27, 76), в том, что Слово Божие есть Сын (Палея Толковая 2002: 14), который принял от Девы человеческую плоть, не являющуюся «привидѣниемъ» (Палея Толковая 2002: 77). Но переубедить его пытаются через апелляцию к писаниям апостолов Павла и Иоанна Богослова, явно, не авторитетным в глазах ортодоксального иудея, зато хорошо известным павликианам и богомилам. Порой «жидове» как бы мимоходом сопоставляются с еретиками (Палея Толковая 2002: 75) при том, что Толковая Палея усиленно предостерегает «языки» от «сочьтанья жидовьска» и «прельсти идольския» (Палея Толковая 2002: 231—232).
Текст восточнославянского происхождения «Речь к жидовину о вочеловечении Сына Божия» в составе Изборника XIII в. внушает загадочному «жидовину», что Бог многими именами (и ангельскими тоже) может именоваться. Ему настойчиво доказывают через истолкование библейских эпизодов богоявления, что сам Бог (Сын Божий) в образе ангела, а не ангел говорил с патриархами. Едва ли нужно было в этом убеждать правоверного иудея, и тем более предполагать в нем намерение креститься, как это наблюдается в Изборнике. Сомнительно, что его могло заинтересовать утверждение, что «въплъщение Сына Божиꙗ и Слова. ѿ Дѣвы хотѧща сѧ родити. многыми имены прозваша». Другое дело — богомил, противопоставлявший Слово Божие — «ангела» Иисуса Христа плотскому царству сатаны и Ветхому Завету, в котором Он, по их представлениям, отсутствовал. Богомилы, буквалистски истолковывая евангелие от Иоанна, говорили, что Бог единый исторгнул Слово, которое на время отошло от Отца и имело вид человека (было ангелом), затем вернувшись на небеса, слилось вновь с Богом. Бытие «триличной» Трисвятой Троицы, по их мнению, ограничено 33 годами: Бог единый имел три умопостигаемых духовных лица лишь в период земного служения Христа, следовательно, в ветхозаветных событиях ни Сын, ни Дух не имели участия. Еретики, таким образом, отрицали истинное вочеловечение Бога, и Воплощение Слова мыслили лишь духовным, потому столь важно было убедить их, что Слово Божие — Бог и Человек Иисус Христос, Эммануил, Ангел «съвета», предреченный пророками, одно из Лиц Святой Троицы, посетившей Авраама, таинственно пребывало с
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
Богом, взывавшим к Моисею. И скорее богомил, а не средневековый иудей мог задаться «ехидным» вопросом: «почтоже не Отьць ни Духъ въчловѣчи сѧ. но Сынъ?» (Izbornik XIII: 185). Иоанн Кантакузин — византийский император—полемист во втором слове «Диалога с иудеем» на аналогичный вопрос отвечает: «А кто скажет, что это приличествует Богу— Отцу? Да Он и не сходил на землю». Иоанн в предисловии указывает на условность адресации своего текста, предоставляя самим читателям судить, «против иудеев или за них» он говорит, выражая далее надежду, что для ищущих истину он послужит путеводителем (Прохоров 1988: 341). В византийских текстах стязаний с евреями, берущих начало в VII— VIII вв., еврей, как замечает А. Пересветов-Мурат (Пересветов-Мурат 2005:71), предстает созданием, чрезвычайно «подходящим для крещения». Таким образом, имплицитно объектом обличения и наставления выступают не реальные иудеи, а некие потенциальные кандидаты в крещаемые, хотя и защищающие иудейскую веру, но легко от нее отказывающиеся. «Слово о Законе и Благодати», которое, казалось бы, много внимания уделяет истории и учению иудейскому, тем не менее, свидетельствует, что «ѡправданїе ivдѣиско скоупо бѣ. зависти ради. не бо сѧ простирааше въ ины языки нъ токмо в ivдѣи» (ГИМ. Син. 591. Л. 173б). В глазах князя Владимира «жидове» — народ, наказанный и отверженный Богом, имеет участь, самую незавидную и бесперспективную для религиозной миссии. Русь XI в. вряд ли знала столь значительное вероучительное наступление иудаизма, чтобы это могло вызвать чрезмерную обеспокоенность церковной иерархии.
Пресловутого «жидовина» древнерусских обличительных текстах, вероятно, следует воспринимать в контексте актуальных христианских ересей, действительно противостоявших распространению православного учения. С. Темчин, рассматривая в «Слове о законе и благодати» комплекс идей и образов, обычно соотносимых с противоиудейской полемикой, выявил, что аргументация Илариона развивается в парадигме внутрихристианского спора (Темчин 2008: 30—40). А. Грищенко отмечает эксплицирующий характер в древнерусской литературе славянского перевода греческого слова Ἰουδαῖοι словом жидове , где слова «еврей» и иудей» соотносятся с историческим прошлым евреев, а слово жидове и его дериваты (вне контекста) указывают на «современных иудеев» (Грищенко 2011: 198). Древнерусские книжники слову «жидовинъ» часто придавали актуальный для них смысл христианского еретичества, подобно тому, как в раннее Новое время полемические сочинители уподобляли евреям католиков и протестантов (Пересветов-Мурат 2010: 444—447). Не исключено, что полемика с «иудеями» определялась задачами просвещения ввиду специфического «монотеизма» богомилов и павликиан, немало воспринявших от иудейского мистицизма через посредство неканонических текстов. Вера Израиля в Единого Бога отождествлялась со своеобразным «монотеизмом» квазидуалистов—еретиков, отрицавших превечное равночестное триипостасное бытие Святой Троицы и полагавших, следуя образности почерпнутой из литературы енохической традиции, что Отец — ослепительный солнечный лик, где Сын и Дух — Его сияние (Попруженко 1900: 15). Языческий бог Хорс в Беседах трех святителей, названный «жидовином»: «еленьский старець Перунъ, а Рхосъ (Хорсъ) есть жидовинъ»38, сегодня интерпретируется в парадигме «двоеверия» домонгольской Руси (Щапов 1906: 35) и акцентуации язычества (Васильев 1995: 19—20). Но, Хорса — «жидовина» с большим основанием можно соотнести с богомильской «солнечной» образностью, достигшей славянских земель через иудейскую апокалиптическую книжность, возможно, еще в докирилломефодиевскую эпоху (Лурье). Во Второй книге Еноха боговидец так описывает
Вып. 8. 2016
Господа: «видѣние лице іго яко желѣза раджежено» (Енох 2: 21), «оуста бо Господнѣ суть пещь ѡгньна…, аз же видець есмь лица Господнѣ яко желѣзо ѿ огнѣ раджежено и ѿнесено искры испущает и жежет» (Енох 2: 37—38). В летописных известиях о «волхвах» наблюдается несомненная тенденция сближения мифологии богомилов с язычеством, с которым соотносится в Беседах и «жидовинъ» через вероятную ассоциацию Хорса с солнцеликим Господом иудейской мистики Второго храма. На этом фоне можно заключить, что редактор—полемист, введший в Речь философа противоиудейские пророчества, был уверен, что обращается к той же аудитории, к которой обращался и компилятор первоначального ее текста. Ересь, угрожавшая адресату Речи, представлялась ему генетически связанной с иудаизмом. Тем не менее, между словами «богомил» и «жидовинъ» здесь вряд ли можно поставить знак равенства. Мы не знаем, насколько восточнославянская ересь, объединяющая в умозрительном поле древнерусских книжников «волхвов» и «жидовъ», идентична той ереси, что описана в византийских и болгарских полемических сочинениях, направленных против богомилов. Устанавливается лишь некая связь, прямых свидетельств их преемственности нет, и приходится довольствоваться лишь косвенными свидетельствами.
В двух обрамляющих Речь философа рассказах (миссионерские посольства к Владимиру и выбор веры посланниками киевского князя), хотя и лишенных каких бы то ни было прямых аллюзий на противостояние с христианскими ересями, полемическая составляющая также присутствует имплицитным образом. В ряду миссионерских посольств на Русь мы не находим посольство от Константинополя, если не признавать за таковое приход Философа , подчеркнуто одинокого и к тому же озадаченного не столько миссионерской проповедью, сколько проблемой конфессионального разграничения. Между тем, официальных переговоров византийцев с князем Владимиром по вопросу крещения, предшествующего женитьбе на греческой принцессе (в обмен на военную помощь), не могло не быть. Такое впечатление, что на место рассказа о греческом миссионерском посольстве в летопись поместили «корсунскую легенду». Реальность самой личности Философа вызывает сомнения: достаточно сравнить лаконичное летописное сообщение о греческом миссионере с описаниями моравской миссии Кирилла и Мефодия в ПВЛ или посольства Кирилла к агарянам в «Житиях Кирилла—Константина», где упоминаются цари, соборы, ими созываемые по такому случаю, и где называются и иные участники столь значительного события. Основной нерв летописного рассказа о миссиях — межконфессиональное противостояние, лишь в мотиве Креста содержится аллюзия на противоеретическую («противоиудейскую») полемику.
Следующий же за Речью философа рассказ о древнерусских послах (987 г.), которые по повелению Владимира наблюдали богослужения в мечетях, синагогах, католических соборах и, наконец, увидели поразившую их своей красотой и пышностью греческую службу, составлен, вероятно, по образцу предания о крещении Ольги. Здесь также действующими лицами помимо путешественников выступают цесарь (далее оба соправителя Василий и Константин) и патриарх, а в заключении дается прямая отсылка к бабке князя Владимира. Основным критерием религиозного выбора названа красота церковной службы — наглядный аргумент против еретиков, отвергавших церковную обрядность и основные церковные таинства. Богомилы и павликиане, как известно, избегали посещений богослужений, ограничиваясь молитвой «Отче наш» и тайными собраниями. Может быть, ради данного эстетически убедительного аргумента, вероятно, и был введен в летопись рассказ о древнерусских путешественниках, наблюдавших различные богослужения, хотя он до
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата известной степени и дублирует предыдущий рассказ о миссионерских посольствах к князю Владимиру.
Исходя из логики построения Речи философа , ориентированной на огласительную практику и традицию, границы ее текста можно определить следующим образом. Инципит — «В начало створи Богъ…», а заключение — слова «тайноводственного» раздела «мучими будут в огни иже не креститьсѧ». Вступительный диалог миссионера—грека с князем Владимиром и заключительный сюжет с демонстрацией «запоны» служат задаче связывания Речи с общим миссионерско-полемическим контекстом летописного рассказа о выборе веры.
Таким образом, апокрифические эпизоды и нехарактерные для оглашения темы, введенные редакторами, преобразовали первоначальный огласительный текст в собрание аргументов и доводов, которые должны были развеять сомнения катехуменов, увлеченных богомильскими «баснями», и убедить их креститься «водою». Древний катехизис путем неоднократной редактуры трансформировался в своеобразное пособие для древнерусских катехизаторов и миссионеров, отчасти утратив свою первоначальную огласительную функцию. Краткость изложения, где многие темы лишь намечены в тезисах (особенно — в пророческом разделе) и предполагают восполнение через дополнительные комментарии, аллюзии на богослужебные тексты, доступные клиру, но неизвестные оглашаемым, а также редактура текста в целях полемики — все указывает на переадресацию некогда огласительного текста с неискушенного читателя—слушателя на его наставника, которому тем самым предложены и новое содержание, и новая методика бесед, предназначенных для оглашаемых из среды увлеченных еретической проповедью. Вероятно, полемика с богомильской ересью в контексте христианизации населения была столь актуальна на Руси конца XI— начала XII вв., что подвинула летописца к введению в рассказ о выборе веры огласительного чтения, отредактированного с определенной противоеретической тенденцией. «Противоиудейская» интерполяция об отвержения «жидовъ» указывает и на понимание редактором летописного текста истоков славянской ереси.
Представленная интерпретация текста Речи философа , в какой-то мере, отражает тактику противостояния русской Церкви еретическим учениям. Она включала такие приемы неявной полемики как уклонение от прямых номинаций и дефиниций, замалчивание и искажение еретического учения и событий, с ним связанных, использование близких еретикам образов и понятий с наполнением их иным ортодоксальным смыслом. Молчание письменных источников по поводу и ереси, и общих связей Руси с Болгарской церковью, не раз отмечаемое историками (Thomson 1988/1989: 214—261), восполняется сегодня исследованиями, доказывающими системный характер преемственности литургической традиции Древней Руси от литургической традиции южнославянского региона (Пентковский). В этом свете вероятным представляется значительное влияние целенаправленной редактуры/цензуры на состав и содержание древнерусских не только церковно-учительных, но и хронографических текстов периода упрочения связей Константинопольского патриархата и Русской митрополии.
Вып. 8. 2016
Заключение
Содержание и структура Речи философа восходят, вероятно, к византийской литургической традиции чтения во время поста монологического текста, составленного для нужд оглашения. Зачин к «Чтению о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», интерпретируемый как рудимент огласительного чтения на утрене, позволяет предположить, что на Руси традиционное оглашение на Великий и Рождественский пост было дополнено оглашением и постом в преддверии церковного праздника Памяти первых древнерусских святых (24 июля). Огласительное чтение превратилось в «беседу» под пером летописца—редактора, который хорошо представлял древнюю церковную практику традиционного оглашения в его трехчастном структурировании. Редактор, включивший в текст «беседы» апокрифические сюжеты, ориентировался на аудиторию, находившуюся под впечатлением гетеродоксальной проповеди квазидуалистического толка, отвергавшую крещение «водою», не знавшую или не принимавшую Ветхий Завет, имевшую еретические представления о Воплощении, Кресте, Творении мира и человека. Определенные нюансы в изложении сюжетов позволяют предполагать влияние богомилов и, с меньшей долей вероятности, павликиан. От более уверенной номинации еретического учения, находившегося в фокусе внимания составителя Речи , удерживает как недостаток исторических сведений, так и тот факт, что и в древнерусских письменных памятниках авторы часто уклоняются от разграничения учений, искажающих ортодоксальную веру, объединяя их под общим именованием «еретики» и «жидове».
Отрицательные коннотации в использовании термина «жидове» рядом древнерусских текстов возникли на волне противостояния ереси, вероятно, занесенной из болгарских земель на Русь переселенцами и воспринятой оттуда же книжностью. Корпус принесенной славянской литературы включал популярные у богомилов апокрифы, связь которых с иудейской апокрифической книжностью обнаружилась столь тесной, что породила «противоиудейскую» полемику, реальным адресатом которой была христианская ересь. В этой ситуации языческий бог солнца — Хорс легко ассоциировался с солнцеликим Богом богомилов, своеобразный «монотеизм» которых позволял оппонентам подчеркивать во многом мнимую общность их учения с учением иудаизма. На этапе «противобогомильского» редактирования Речь философа приобрела неявно выраженную полемическую интонацию, приобретшую много большую резкость в «антииудаистской» интерполяции. Содержание текста трансформировалось, не только расширяясь за счет интерполяций, но и подвергаясь сокращениям в существенных своих частях, что превратило некогда огласительное чтение в своеобразное пособие для оглашения определенной аудитории. Оно во многом лишь намечает темы, сюжеты и аргументы, которые клирики должны были развить и представить в своих огласительных и полемических беседах.
Вып. 8. 2016
«Речь философа» в Повести временных лет: вопрос функции и адресата
Список литературы «Речь философа» в повести временных лет: вопрос функции и адресата
- Алексеев А. А. 2004a Византийско-славянский профитологий (формирование состава). B: Творогов О. В. (отв. ред.). ТОДРЛ. Т. 56. Москва; Ленинград: Академия наук СССР, 46-77.
- Алексеев А. А. 2004b О новгородских вощенных дощечках начала XI в. В: Молдован А. М. (гл.ред). Русский язык в научном освещении 2(8), 203-208.
- Алексеев А. А. 2008. Апокрифы Толковой Палеи, переведенные с еврейских оригиналов. В: Понырко В. Н. (отв. ред.). ТОДРЛ. Т. 58, 41-57.
- Алмазов А. И. 1884. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. Казань: Типография Императорского Университета.
- Ангелов Д. 1954. Богомильство в Болгарии. Москва: Издательство восточной литературы.
- Ангелов Д. 1993. Богомилството. София: Булвест-2000.
- Апокрифы древней Руси. 2002. B: Рождественская М. В. (сост.). Москва: Амфора.
- Арранц-и-Лоренцио М. 1988. Чин оглашения и крещения в Древней Руси. Символ 19. Июнь, 69-101.
- Архангельский А. С. 1889. Творения отцов Церкви в древнерусской письменности. Извлечения из рукописей и опыты историко-литературных изучений. Ч. I-II. Казань: Типография Императорского университета.
- Афанасьева Т. И. 2015. Славянская версия Евхология Великой церкив и ее греческий оригинал. B: Молдован А. М. (гл. ред.). Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. V. Лингвистическое источниковедение и история русского литературного языка. Москва: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 9-43.
- Белякова Е. В. 2006. К вопросу о первом издании Кормчей. Вестник церковной истории 1, 131-150.
- Бессонов И. А. 2014. Религиозный и культурный контекст «движения волхвов» в 1060-1070 гг. Studia Historica Europae Orientalis 7, 22-54.
- Вiлкул Т. 2015. Лiтопис i хронограф. Студiї з домонгольського київського лiтописання. Киïв: Iнститут iсторiї України НАН України.
- Васильев М. А. 1995. «Хорс жидовин»: древнерусское языческое божество в контексте проблем Khazaro-Slavica. Славяноведение 2, 12-21.
- Великов Ю. 2008. Патриарх Фотий и и почитането на светите Кръст и иконы в «Послание до Михаил, княза на България». Преславска книжовна школа 10, 420-421.
- Вилкул Т. Л. 2012a. О происхождении «Речи философа». Palaeoslavica XX/1, 1-15.
- Вилкул Т. Л. 2012b. Книга Исход в Речи Философа. Средневековая Русь 10, 113-125.
- Водолазкин Е. Г. 2008. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования XI-XV вв.). Санкт-Петербург: Пушкинский дом.
- Волски Я.-М. 2013. Богомилите в светлината на Житието на св. Иларион Мъгленски от патриарх Евтимий Тьрновски. Palaeobulgarica XXXVII-4, 74-81.
- Гаврилюк П. Л. 2001. История катехизации в древней церкви. Москва: Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа.
- ГИМ. Син. 330 (682). XVI в.
- ГИМ. Син. 591.
- Гиппиус А. А. 2001. «Рекоша дружина Игореви...»: к лингвотекстологической стратификации Начальной летописи. Russian Linguistics 25/2, 147-181.
- Гиппиус А. А. 2008. Крещение Руси в Повести временных лет: к стратификации текста. Древняя Русь. Вопросы медиевистики 3(33), 20-23.
- Гиппиус А. А. 2012. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси как объект текстологической реконструкции. B: Макаров Н. А. (отв. ред.). Русь в IX-X веках: археологическая панорама. Москва; Вологда: Древности севера, 37-63.
- Голубинский Е. Е. 1880. История Русской Церкви. Т. 1. Москва: Типография Э. Лисснер и Ю. Роман.
- Голубинский Е. Е. 1903. История канонизации Святых в Русской Церкви. Москва: Университетская типография, 82-83.
- Грищенко А. 2011. Наименование евреев в древнерусских антииудейских сочинениях: к истории экспрессивности этнонима жидове. B: Мочалов В. В. (отв.ред.). Научные труды по иудаике: Материалы XVIII Международной ежегодной конференции по иудаике. Т. 1. Москва: Сэфер, 187-204.
- Гроссу Н. прот. 1913. К истории византийских богомилов 12 века. Труды Киевской Духовной Академии. Т. 12. Киев: Университетская типография, 589-612.
- Димитрова-Маринова Д. 1998. Богомильская космогония в древнеславянской литературной традиции. B: Петрухин В. Я. (отв. ред.). От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре. Сборник статей: Академическая серия. Вып. 2. Москва: ГЕОС, 38-58.
- Димитрова-Маринова Д. 2004. Богомилството и богомилската литература в културната традиция на X век. Преславска книжовна школа 7, 316-328.
- Дмитриевский А. А. 1901. Древнейшие патриаршие Типиконы иерусалимской (святогробской) и константинопольской (Великой) церкви. Труды Киевской духовной академии. Т. 12. Отд. Отт. Киев: Университетская типография.
- Дмитриевский А. А. 1907. Древнейшие патриаршие Типиконы святогробской Иерусалимской церкви и Великой Константинопольской церкви. Критико-библиографическое исследование. Киев: Типография И. И. Горбунова.
- Дудаков С. Ю. 1993. История одного мифа: очерки русской литературы XIX-XX вв. Москва: Наука.
- Дунаев А. Г. 2015. Предисловие к русскому переводу Слов и Посланий Макарьевского Корпуса первого типа. Ппр. Макарий Египетский (Симеон Месопотамский). Духовные слова и послания. Собрание I. Святая Гора Афон. Москва: Издательство пустыни Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 5-204.
- Заболотский П. 1901. К вопросу об иноземных письменных источниках «Начальной летописи». Русский филологический вестник. Т. XLV. № 1-2. Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1-31.
- Зализняк А. А. 2003. Проблемы изучения Новгородского кодекса XI в., найденного в 2000 г. Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации. Москва: Индрик, 190-212.
- Иванов Й. 1970. Богомилски книги и легенды. София: БАН, Наука и изкуство.
- Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, избранные творения. Беседы на книгу Бытия. 1993. Т. 4. Кн. 1. Москва: Издательский отдел Московского патриархата.
- Иоффе Д. 2003. Еврейство и Русь на render vous межэтнического политеизма: о некоторых примечательных казусах современной историографии еврейского вопроса (на материале раннесредневековой Руси). Ab Imperio 4, 581-602.
- Ириней Лионский, священномученик. 2008. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. Москва: Олег Абышко.
- Карабинов И. А. 1912. К истории Иерусалимского устава. Христианское чтение 3, 360-382.
- Киприанович Г. 1875. Жизнь и учение богомилов по Паноплии Евфимия Зигабена и другим источникам. Православный собеседник. Ч. 8. Казань: Типография губернского правления, 533-572.
- Кирик и Нифонт: Вопросы Кирика и ответы Нифонта. 1880. Русская историческая библиотека. Т. 6. Ч. 1. Санкт-Петербург: Императорская академия Наук.
- Кирилл Туровский. 1956. Кирила мниха притча о человечстей души и о телеси, и о преступлении Божия заповеди и о воскресении телесе человеча, и о будущемь суде, и о муце/И. П. Еремин. Литературное наследие Кирилла Туровского. B: Еремин И. П. (отв. ред.). ТОДРЛ. Т. 12. Москва; Ленинград: Академия наук СССР, 340-362.
- Кожинов В. 2002. Книга бытия небеси и земли. Палея Толковая. Москва: Согласие, 5-7.
- Красносельцев Н. 1889. К истории православного богослужения: по поводу некоторых церковных служб и обрядов, ныне не употребляющихся. Материалы и исследования по рукописям Соловецкой библиотеки. Казань: Типография Императорского университета.
- Кузнецова В. С. 1998. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции. Новосибирск: СО РАН.
- Левицкий В. свящ. 1870a. Богомильство -болгарская ересь X-XIV вв. Христианское чтение 1, 26-62.
- Левицкий В. свящ. 1870b. Богомильство -болгарская ересь X-XIV вв. Христианское чтение 3, 368-431.
- Левицкий В. свящ. 1870c. Богомильство -болгарская ересь X-XIV вв. Христианское чтение 4, 645-683.
- Литвина А., Успенский Ф. 2009. Что стоит за отказом митрополита Константина от христианского погребения в 1159 г.? B: Ричка В., Толочко А. (науч. ред.). Ruthenica. Annual of East European Medieval History and Archeology. T. VIII. Киев: Iнститут iсторiї України НАН України, 9-31.
- Лихачев Д. С. 1947. Русские летописи и их культурно-историческое значение. Москва; Ленинград: АН СССР.
- Ломоносов М. В. 1766. Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года. Санкт-Петербург: Типография при Императорской Академии Наук.
- Лукин П. В. 2013. Языческая реформа Владимира Святославича в начальном летописании: устная традиция или литературные реминисценции? B: Глазырина Г. В. (отв.ред.). Древнейшие государства Восточной Европы 2011. Устная традиция в письменном тексте. Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 324-352.
- Львов А. С. 1968. Исследование Речи философа. B: Виноградов В. В. (отв. ред.). Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология. Москва: Наука, 333-396.
- Любащенко В. 2013. Богомiльство у київський митрополiї: гiпотези ı коментарi. Проблеми славʼянознавства 62, 23-37.
- Макарий (Булгаков), митрополит. 1857. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук.
- Мансикка В. Й. 2005. Религия восточных славян. Москва: ИМЛИ РАН.
- Мельников П. И. 2011. Очерки мордвы. B: Морохин Н. В., Павлов Д. Г. (сост.). Незнакомый Павел Мельников (Андрей Печерский). Нижний Новгород: Книги, 279-384.
- Мещерский Н. А. 1995. К вопросу об изучении переводной письменности Киевского периода. B: Мещерская Е. Н. (ред., сост.). Избранные статьи. Санкт-Петербург: Языковой центр филологического факультета СПбГУ, 271-299.
- Мильков В. В. 1997. Апокрифы в Древней Руси и их идейно-мировоззренческое содержание. Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. Москва: Наука.
- Мильков В. В. 1999. Древнерусские апокрифы. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института.
- Милютенко Н. И. 2004a. К вопросу о некоторых источниках Речи философа. B: Соколова Л. В. (отв. ред.). ТОДРЛ. Т. 55. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 9-17.
- Милютенко Н. И. 2004b. История сложения паримийного чтения Борису и Глебу. B: Творогов О. В. (отв. ред.). ТОДРЛ. Т. 56. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 121-145.
- Минчев Г. 2013. За името Ѳεόφιλος/Боголюб/Богомил в някои византийски и славянски средневековни текстове. Palaeobulgarica XXXVII, 43-52.
- Минчев Г., Сковронек М. 2014. Сведения о дуалистических ересях и языческих верованиях в Шестодневе Иоанна Экзарха. Studia Ceranea 4, 95-123.
- Михайлов А. В. 1908. Греческие и древне-славянские паримейники. Из истории древне-славянского перевода св. Писания. Варшава: Типография Варшавского учебного округа.
- Моšin V. 1955. Ćirilski rukopici Jugoslavenske akademije. Zagreb: Historijski Institut Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti.
- Молдован А. М. 1984. «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Киев: Наукова думка.
- Мочульский В. Н. 1887. Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. Варшава: Типография Михаила Земкевича.
- Мочульский В. Н. 1889. О мнимом дуализме в мифологии славян. Русский филологический вестник. Т. 21. Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 153-200.
- Мюллер Л. 1995. Значение Библии для христианства на Руси (от крещения до 1240 года). Славяноведение 2, 3-11.
- Мюллер Л. 2000. Понять Россию: историко-культурные исследования. Москва: Прогресс-Традиция.
- Навтанович Л. М. 2000. Лингвотекстологический анализ древнеславянского перевода книги Еноха. Тезисы к диссертации. Санкт-Петербург: СПбГУ.
- Невзорова Н. Н. 2004. Паримии Борису и Глебу: опыт прочтения. B: Творогов О. В. (отв. ред.). ТОДРЛ. Т. 56. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 428-452.
- Никитина Т. 2001. Особый вариант пространной редакции жития преподобного Авраамия Ростовского. Макарьевские чтения VIII. Русские государи -покровители Православия: материалы VIII Всероссийской научной конференции, посвященной памяти святителя Макария. Можайск: Терра, 607-632.
- Никольский А. И. 1880. Св. Ириней Лионский в борьбе с гностицизмом. Христианское чтение 3-4, 254-310.
- Никольский А. И. 1881a. Св. Ириней Лионский в борьбе с гностицизмом. Христианское чтение 1-2, 53-102.
- Никольский А. И. 1881b. Св. Ириней Лионский в борьбе с гностицизмом. Христианское чтение 53-3-4, 232-253.
- Никольский А. И. 1881c. Св. Ириней Лионский в борьбе с гностицизмом. Христианское чтение 5-6, 509-538.
- Никольский Н. К. 1897. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в конце XV века. Санкт-Петербург: Синодальная типография.
- Никольский Н. К. 1901. Исторические особенности в постановке церковно-учительного дела в московской Руси и значение для современной гомилетики. Христианское чтение 2, 220-236.
- Никольский Н. К. 1902. К вопросу об источниках летописного сказания о св. Владимире. Христианское чтение 7, 96-100.
- Никольский Н. К. 1907. Материалы для истории древнерусской духовной письменности. Санкт-Петербург: Типография Императорскской Академии наук, 67-74.
- Никольский Н. К. 1906. Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (X-XI). Корректурное издание. Санкт-Петербург: ИОРЯС, 15.
- Оболенски Д. 1998. Богомилите. Студия върху балканското новоманихейство. София: Златорогъ.
- Орлов А. А. 2014. Воскрешение Ветхого Адама. Вознесение, преображение и обожение праведника в ранней иудейской мистике. Москва: ИВКА РГГУ.
- Палея Толковая. B: Панкратов Н. Л. 2002. Москва: Согласие.
- ПДРДП 1858: . 1858. Памятники древле-русской духовной письменности: Сказание преп. Нестора о житии и убиении благоверных князей Бориса и Глеба. Православный собеседник. Ч. 1. Казань: Типография губернского правления, 578-604.
- Пересветов-Мурат А. И. 2005. «Адонаи, заблудихомъ!»: об образе спорящего жидовина в восточнославянской письменности XIV-XV веков. B: Будницкий О. В. (гл. ред). Архив еврейской истории: Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства. Т. 4. Москва: РОССПЭН, 51-83.
- Пересветов-Мурат А. И. 2008. Аграф пророка Ездры -вновь идентифицированный источник Речи Философа. Древняя Русь. Вопросы медиевистики 3(33), 48-50.
- Пересветов-Мурат А. И. 2010. Христианский антииудаизм и иудейско-православные отношения в Восточной Славии в Средние века и раннее Новое время (до 1570 г.). B: Варталь И. (сост.), Кулик А. (ред.). История еврейского народа в России. От древности до раннего Нового времени. Т. 1. Москва: Gesharim-Мосты культуры.
- Петрухин В. 2003. К дискуссии о евреях в древней Руси: национальный романтизм и «улыбка чеширского кота». Ad Imperio 4, 656-657.
- Петрухин В. Я. 1998. Билия, апокрифы и становление славянских раннеисторических традиций (к потановке проблемы). B: Петрухин В. Я. (отв. ред.). От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре. Сборник статей: Академическая серия. Вып. 2. Москва: ГЕОС, 269-286.
- Петрухин В. Я. 2000. Древняя Русь. Народ. Князья. Религия. B: Петрухин В. Я. (сост.). Из истории русской культуры. Т. 1. Древняя Русь. Москва: Языки русской культуры, 11-410.
- Петрухин В. Я. 2005. Евреи в древнерусских источниках. XI-XIII вв. B: Будницкий О. В. (гл. ред.). Архив еврейской истории: Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства. Т. 2. Москва: РОССПЭН, 143-168.
- Петрухин В. Я. 2006. Крещение Руси: от язычества к христианству. Москва: Астрель.
- Петрухин В. Я. 2013. Происхождение зла в древнерусской традиции: когда демоны попадали на землю? B: Антонова Д. И., Христофорова О. Б. (отв. ред., сост.). In Umra: Демонология как семиотическая система: Альманах. Вып. 2. Москва: Индрик, 35-44.
- Петрухин В. Я. 2014. Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выбора веры. Москва: Форум; Неолит.
- Подскальски Г. 1996. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237). Санкт-Петербург: Византинороссика.
- Пономарев А. И. 1902. Литературная борьба представителей христианства с язычеством в Древней Руси: отзыв о сочинении М. Азбукина: «Очерк литературной борьбы представителей христианства с остатками язычества в русском народе (XI-XIV вв.)». Варшава, 1898 г., представленном на соискание премии митрополита Макария. Христианское чтение 8, 241-258.
- Попруженко М. Г. 1900. Синодик царя Бориса. Приложение. Известия русского археологического института в Константинополе. Т. V. Одесса: Экономическая типография, I-XV, 1-55.
- Попруженко М. Г. 1907. Св. Козмы Пресвитера Слово на еретики и поучение от божественных книг. Памятники древней письменности и искусства. Т. CLXVII. Санкт-Петербург: Типография И. Н. Скороходова.
- Постановления апостольские чрез св. Климента епископа и гражданина Римского преданные: в русском переводе с древне-греческого о. Иннокентия Новгородова. 2002. Санкт-Петербург: .
- Прохоров Г.М. 1988. Иоанн Кантакузин. Диалог с иудеем. Славянский XIVвис овременный переводы. B: Лихачев Д. С. (отв. ред.). ТОДРД. Т. 41. Ленинград: Наука, 331-346.
- Пузанов Д. В. 2012. Антииудейская полемика в Древней Руси // Социальная мобильность в традиционных обществах: история и современность: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения профессора М. М. Мартыновой и 100-летию со дня рождения профессора Б. Г. Плющевского. Ижевск, 20-21 ноября 2012 г. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 77-90.
- Пузанов Д. В. 2014. «Выбор веры» в Повести временных лет: стереотипы конфессионального восприятия в древнерусском обществе. Вестник Удмуртского университета 3, 67-75.
- РГБ. Ф. 304.I. № 122.
- РГИА. Ф. 834. Оп. 4. № 548.
- РНБ. F.п.IV.2. 1377 г. Л. 28об-36.
- РНБ. Q.p.I.18.
- РНБ. Кир.-Белозер. №22/1099. XV в.
- РНБ. Кир.-Белозер. собр. 101/1178 (409). 4/4 XV в.
- РНБ. Тит. 3691. Жития Авраамия и Иринарха Ростовских. XVII в.
- Рождественская М. В. 2001. Апокрифы. B: Алексий II, Патр. Московский и всея Руси. Православная энциклопедия. Т. 3. Анфимий-Афанасий. Москва: Православная энциклопедия, 46-47.
- Рыбаков Б. А. 1987. Язычество древней Руси. Москва: Наука.
- Святитель Кирилл, Архиепископ Иерусалимский. 1991. Поучения огласительные и тайноводственные. Москва: Синодальная библиотека Московского Патриархата.
- Синицына Н. В. 1965. Послание константинопольского патриарха Фотия князю Михаилу Болгарскому в списках XVI в. B: Малышев В. И. (отв. ред.). ТОДРЛ. Т. XXI. Москва, Ленинград: Наука, 96-125.
- Соколов М. 1899. Славянская книга Еноха. Текст с латинским переводом. Материалы и заметки по старинной славянской литературе. Вып. 3. Разд.VII. B: Барсов Е. В. (ред.). ЧОИДР. Кн. 4(191). Отд. 2. Москва: Университетская типография, 1-80.
- Срезневский И. И. 1863. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV вв.). Общее повременное обозрение с палеографическими указаниями и выписками из подлинников и древних списков. Санкт-Петербург: Типография Императорской академии Наук.
- Творогов О. В. 2005. О источнике библейских цитат в «Речи философа». От Древней Руси к новой России: юбилейный сборник, посвященный члену-корреспонденту РАН Я. Н. Щапову. Москва: Паломнический центр Московского Патриархата, 128-133.
- Темчин С. 2008. Слово о законе и благодати киевского митрополита Илариона и раннехристианская полемика. B: Ричка В., Толочко О. (ред.). Ruthenica. Альманах середньовiчної iсторiї та археологiї Схiдної Европи. Т. VII. Киев: Iнститут iсторiї України НАН України, 30-40.
- Толочко П. 2010. «Емше, влачаху поверзше ужи за ноги» B: Ричка В., Толочко О. (ред.). Ruthenica. Альманах середньовiчної iсторiї та археологiї Схiдної Европи. Т. IX. Киев: Iнститут iсторiї України НАН України, 17-22.
- Трендафилов Х. 1990. Речта на философ в староруската Повесть временных лет и полемичните традиции на Кирилл-Константин. Старобългарска литература 22, 34-46.
- Трендафилов Х. 1995. Хазарската полемика на Константи-Кирил и старобългарската литература от края на IX-ти -началото на X-ти век. Преславска книжовна школа 1, 138-149.
- Турилов А. А. Cвятитель Алексий, митрополит свея Руси: (По страницам «Православной энциклопедии»). Исторический вестник 1(12), 5-16.
- Успенский Порф. еп. 1877. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты архимандрита, ныне епископа Порфирия Успенского в 1846 году. Ч. II. Отд. 1. Kиeв: Типография Фронцкевича.
- Успенский Ф. М. 2002. Скандинавы. Варяги. Русь. Историко-филологические очерки. Москва: Языки славянской культуры.
- Хасанова Мустафова А. 2015. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен «Доктор». Шуменски университет «Епископ Константин Преславски». URL: http://shu-bg.net/sites/default/files/stefka/AVTOREFERAT_AITEN.pdf (дата обращения: 01.11.2016).
- Шахматов А. А. 1904. Толковая Палея и Русская летопись. B: Ламанский В. И. (ред.). Статьи по славяноведению. Вып. 1. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, 199-272.
- Шахматов А. А. 1908. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. Санкт-Петербург: Типография М. А. Александрова.
- Шахматов А. А. 2001. Разыскания о русских летописях. Москва: Академический проект; Жуковский: Кучково поле.
- Шахматов А.А. 1940. Повесть временных лет и ее источники. B: Орлов А. С. (отв. ред.). ТОДРЛ. Т. 4. Москва, Ленинград: Академия наук СССР, 9-150.
- Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями в древнерусских народных сказаниях о мире. B: Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. Санкт-Петербург: М. В. Пирожков, 33-46.
- Этерия 1994: Подвижники благочестия, процветавшие на Синайской горе и в ее окрестностях. К источнику воды живой. Письма паломницы IV века. 1994. Москва: Паломник.
- academia.edu: 1: Пентковский А. М. Греческий оригинал славянского Синаксаря и его локализация. URL: https://www.academia.edu/4734754/Греческий_оригинал_славянского_синаксаря_и_его_ локализация (дата обращения 01.11.2016).
- academia.edu: 2: Lourié B. Slavonic Pseudepigrapha, Nubia, and the Syrians. URL: https://www.academia. edu/12961678/Slavonic_Pseudepigrapha _Nubia_and_the_Syrians (дата обращения: 01.11.2016).
- academia.edu: 3: Lourié B. Syrian Shadows behind the Back of Cyril and Methodius: Vaillant-Jakobson's Hypothesis Revisited. URL: https://www.academia.edu/8721348/Syrian_Shadows_behind_the_Back_ of_Cyril_and_Methodius._Vaillant-Jakobsons_Hypothesis_Revisited._Draft_v.3.0 (дата обращения: 01.11.2016).
- ald-bg.narod.ru: 1: Из «Синодик, който сечете в първата неделя от поста». URL: http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/bg_srednovekovie/borilov_sinodik/borilov_sinodik.htm (дата обращения: 01.11.2016).
- azbyka.ru: 1: Житие святого отца нашего Сильвестра, папы Римского. URL: http://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/5 (дата обращения: 01.11.2016).
- Böttrich C. 2012. The «Book of the Secrets of Enoch» (2 En): Between Jewish Origin and Christian Transmission. An Overview. B: Orlov A., Boccaccini G. (eds.). New Perspectives on 2 Enoch. No Longer Slavonic Only, 37-68 (Studia Judaeoslavica 4).
- Cosmas Presbyter. 2006. Homily against the bogomils. Operational edition. B: Sampimon J., Van Halsema S. (eds.). Полата кънигописьна: An Information Bulletin Devoted to the Study of Early Slavic Books. Texts and Literatures 33/1, 1-133.
- Daničić Gj. 1869. Rukopis Vladislava gramatika pisan godine 1469. Starine. Knj. 1. Zagreb: JAZU, 66-85.
- Grottaferrata Г.β.I.
- Izbornik XIII: The Izbornik of the XIIIth century (cod. Leningrad, GPB, Q.p.I.18). Text in transcription. B: Wątróbska H. (publ.). Полата кънигописьнаꙗ: An Information Bulletin Devoted to the Study of Early Slavic Books. Texts and Literatures 19-20, 176-196.
- Macaskill G. 2012. 2 Enoch: Manuscripts, Recensions, and Original Language. B: Orlov A., Boccaccini G. (eds.). New Perspectives on 2 Enoch. No Longer Slavonic Only, 83-102 (Studia Judaeoslavica 4).
- Navtanovich L. 2012. The Provenance of 2 Enoch: A Philological Perspective. A Response to C. Böttrich's Paper «The "Book of the Secrets of Enoch" (2 En): Between Jewish Origin and Christian Transmission. An Overview». B: Orlov A., Boccaccini G. (eds.). New Perspectives on 2 Enoch. No Longer Slavonic Only, 69-82 (Studia Judaeoslavica 4).
- nordxp.3dn.ru: 1: Loose M. Богомильский миф в изложении Евфимия Зигабена. URL: http://nordxp.3dn.ru/gnosis/m-loose-bogomilskij_mif_v_izlozhenii_evfimija_ziga.pdf (дата обращения: 01.11.2016).
- Obolensky D. D. 1948. Bogomils: A Study in Balkan New-Manichaeism. Cambridge: Cambridge University Press.
- Paris. Coisl. 213.
- Pereswetoff-Morath A. I. 2016. «The old is in the new revealed»: prophetical quotations from the Slavonic translation of Doctrina Iacobi in the literature of early Kyivan Rus'. Palaeobulgarica XL, 51-80.
- pravoslavie.ru: 1: Ужанков А. Н. 2001. О времени сложения служб и датировке житий святых Бориса и Глеба. URL: http://www.pravoslavie.ru/archiv/borisglebdatir.htm (дата обращения: 01.11.2016).
- pushkinskijdom.ru: 1: Слово о законе и благодати митрополита Илариона. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4868 (дата обращения: 01.11.2016).
- Reinhart J. 2008. «Речь Философа» Повести временных лет и ее великоморавская и преславская предыстория. Wiener Slavistisches Jahrbuch 54, 151-170.
- S. Martin de Braga 1950: Martini episcopi Bracarensis opera Omnia. 1950. B: Barlow C. W. (ed.). Paper and Monograpfs of the American Academy in Rome XII, 159-203.
- Skowronek M. 2013. Remarks on the Anathemas in the Palaea Historica. Studia Cerania 3, 131-144.
- Thomson F. J. 1988/1989. The Bulgarian Contribution to the Reception of Byzantine Culture in Kievan Rusʼ: The Myths and the Enigma. B: Pritsak O., Ševčenko I. (eds.). Harvard Ukrainian Studies XII/XIII. Cambridge; Massachusetts: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 214-261.
- Thomson F. J. 1991. Les cinq traductions slavonnes du «Libellus de fide orthodoxa» de Michel le Syncelle et les mythes de l'arianisme de saint Methode, apotre des Slaves, ou d'Hilarion, metropolite de Russie, et de l'existence d'une Eglise arienne а Kiev. Revue des etudes slaves 63/1, 19-53.
- Trunte H. 1993. Doctrina Christiana. Untersuchungen zu Komposition und Quellen der sogenannten «Rede des Philosophen» in der Altrussischen Chronik. B: Birkfellner G. (Her.). Millennium Russiae Christianae. Tausend Jahre Christliches Rußland 988-1988. Vorträge des Symposiums anläßlich der Tausendjahrfeier der Christianisierung Rußlands in Münster vom 5. bis 9. Juli 1988. Köln; Weimar; Wien: Böhlau-Verlag, 355-394.
- vehi.net: 1: Агатангелос. 2006. Учение святого Григория. URL: http://www.vehi.net/istoriya/armenia/agathangelos/ru/03.html (дата обращения: 01.11.2016).