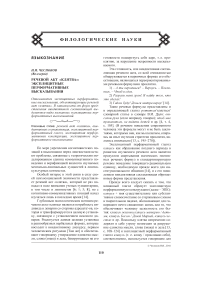Речевой акт «клятва»: эксплицитные перформативные высказывания
Автор: Чесноков Иван Иванович
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 (107), 2016 года.
Бесплатный доступ
Описываются эксплицитные перформативные высказывания, объективирующие речевой акт «клятва». В зависимости от форм представления виндиктивной составляющей выделяются виды названных эксплицитных перформативных высказываний.
Речевой акт "клятва", виндиктивная составляющая, эксплицитный перформативный глагол, эксплицитная перформативная конструкция, эксплицитное перформативное высказывание
Короткий адрес: https://sciup.org/148166505
IDR: 148166505
Текст научной статьи Речевой акт «клятва»: эксплицитные перформативные высказывания
По мере укрепления когнитивистских позиций в языкознании перед лингвистами встают проблемы, связанные с теоретическим моделированием единиц коммуникативного поведения и верификацией аналогов изучаемых ментально-лингвальных сущностей в лингвокультурных контекстах.
Особый интерес в этой связи в силу своей психосоциальной значимости представляет речевой акт «клятва», который не раз попадал в поле внимания ученых-гуманитариев, в том числе и лингвистов [6; 1; 5; 8], но с когнитивно-коммуникативных позиций начал изучаться лишь в последнее время [14].
Глубинным психологическим мотивом речевого акта «клятва» является потребность индивида в доверии со стороны адресата/-ов, которая и трансформируется в целевую установку, связанную с установлением искомого доверия. Реализуется данная целевая установка в разнообразных вербальных формах, которые восходят к виндиктивному дискурсу, первым человеческим ритуалам [Там же] и обеспечивают говорящему утверждение единства мысли, слова (знака) и дела, базирующееся на его готовности подвергнуть себя каре, т. е. проклятию, за нарушение искренности высказываемого.
Эта готовность, или виндиктивная составляющая речевого акта, со всей очевидностью обнаруживается в первичных формах его объективации, являющихся переориентированными речевыми формулами проклятия.
-
1) – А ты вернешься? – Вернусь. – Поклянись. – Чтоб я сдох.
-
2) Разрази меня гром! Я найду того, кто это сделал!
-
3) Гадом буду! Деньги завтра верну! [14].
Такие речевые формулы представлены и в определяющей глагол ротиться ‘клясться’ словарной статье в словаре В.И. Даля: отсохни рука (если неправду говорю); чтоб мне провалиться, не видать детей и др. [4, т. 4, с. 105]. (В речевом поведении современного человека эти формулы могут и не быть заклятиями, которыми они, как мы полагаем, опираясь на опыт изучения стратегии проклятия, являлись изначально [13, c. 195–270]).
Эксплицитный перформативный глагол клянусь как образование позднего периода в развитии изучаемого речевого акта является продуктом свертывания магических эмотив-ных речевых формул в стандартизирующую речевое поведение говорящего рациональную единицу, необходимую прежде всего для институционального общения [14], и с его появлением виндиктивная составляющая обретает новые формы представления.
Прежде всего следует сказать о том, что названный глагол образует эксплицитную перформативную конструкцию (далее – ЭПК): клянусь + имя существительное или субстантивное словосочетание со стержневым словом в творительном падеже, обозначающее для говорящего нечто священное: жизнь или то, что обеспечивает человеку целостность его бытия: клянусь жизнью,клянусь матерью / детьми, клянусь Богом / Девой Марией, клянусь честью и др. Поскольку клятва непременно содержит в себе угрозу возмездия за разрушение единства мысли, слова (знака) и дела [13, с. 108–124] и эксплицитный перформативный глагол клянусь (т. е. кляну / проклинаю себя), соответственно, используется говорящим для выражения готовности к проклятию или лишению того, чем он дорожит, то очевидно, что каждая включаемая посредством своего имени в ЭПК ценность превращается в цену, которую говорящий готов заплатить за клятвопреступление.
Используя в высказывании ЭПК клянусь жизнью , говорящий «ставит на кон» жизнь и тем самым выражает готовность лишиться ее в качестве проклятия за разрушение единства мысли, слова (знака) и дела. Такого рода высказывания употребляются в обыденной сфере общения*.
-
– Дегтярь, – Клава Ивановна прижала руку к сердцу, – клянусь жизнью, я тысячу раз говорила им то же самое (А. Львов. Двор ).
Используя в высказывании ЭПК клянусь матерью или клянусь детьми , говорящий делает ставку на обеспечивающие целостность его бытия кровные связи, выражая готовность принять их утрату в качестве проклятия за неискренность. Сферой употребления таких высказываний также является обыденное общение.
Чем так хоронить, так лучше самому лечь в могилу, клянусь матерью (К.Г. Паустовский. Повесть о жизни. Время больших ожиданий ).
– Клянусь детьми, мадам, и эта цена – себе в убыток! (И. Ратушинская. Одесситы ).
Скрепляя высказывание словами клянусь Богом или клянусь Девой Марией , говорящий выдвигает на передний план важнейшие для него духовные связи, выражая готовность принять их разрыв как проклятие за неискренность.
Высказывания с ЭПК клянусь Богом получают распространение и в обыденной, и в институциональной сферах общения. Начиная с Петровской эпохи и до советского времени они используются в военных и других присягах Российского государства [11].
Клянусь Богом, я тут никогда не был, ничего не видел, ничего не знаю! (Г. Щербакова. Актриса и милиционер ).
Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым его Евангелием, в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству, <…>, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться… В заключение же сей моей клятвы целую Слова [т. е. Евангелие] и Крест Спасителя моего. Аминь [12].
Высказывания с ЭПК клянусь Девой Марией распространяются в обыденной сфере общения.
Если б вам потребовалась дружеская крепкая рука помощи, то я, клянусь девой Марией, готов сложить голову у ваших прекрасных ног (В.Я. Шишков. Угрюм-река. Ч. 5–8).
Используя в высказывании ЭПК клянусь честью , говорящий обращается к личностному качеству, представляющему собой совокупность высших морально-этических принципов и обеспечивающему человеку уважение в обществе [9, т. 4, с. 672], выражая при этом готовность к бесчестию как проклятию за неискренность. Такого рода высказывания встречаются в обыденной сфере общения и являются гендерно маркированными, поскольку используются мужчинами. Последнее обстоятельство объясняется, вероятно, известными различиями в содержании концепта «честь» применительно к представителям разных полов (см.: [10]).
– Клянусь честью, я не знал, что у вас так весело заниматься наукой! (В.А. Каверин. Открытая книга ).
Как видим, во всех рассмотренных выше высказываниях виндиктивная составляющая представляется посредством ЭПК, содержащих указания на ценности, которыми готов пожертвовать говорящий в случае клятвопреступления.
Существует и другая форма представления виндиктивной составляющей в объективирующих речевой акт «клятва» эксплицитных перформативных высказываниях: глагол клянусь скрепляет часть высказывания, которая сопровождается речевым построением, раскрывающим содержание названного глагола как готовность говорящего подвергнуть себя юридическим и этическим санкциям за клятвопреступление. Такие высказывания получают распространение только в институциональной сфере общения. Они использовались в военных присягах в СССР.
Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом <…>.
Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся [2].
ИЗВЕСТИЯ ВГПУ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, …. – Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся [7].
В объективирующих речевой акт «клятва» эксплицитных перформативных высказываниях виндиктивная составляющая может представляться и лишь глаголом клянусь , указывающим на готовность говорящего подвергнуть себя проклятью; содержание последнего при этом не вербализуется. Такие высказывания получают распространение и в обыденной, и в институциональной сферах общения. Они используются в военной и некоторых других присягах современной России.
– Клянусь, ничего такого нет в машинах – ни оружия, ни продуктов (В. Маканин. Кавказский пленный ).
Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своей Родине – Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество [3].
Итак, в зависимости от форм представления виндиктивной составляющей можно выделить три вида объективирующих речевой акт «клятва» эксплицитных перформативных высказываний: 1) с ЭПК, содержащими указания на ценности, которыми готов пожертвовать говорящий в случае клятвопреступления; 2) с глаголом клянусь и речевыми построениями, раскрывающими его содержание как готовность говорящего подвергнуть себя юридическим и этическим санкциям за клятвопреступление; 3) с глаголом клянусь , имплицирующим содержание проклятия.
Список литературы Речевой акт «клятва»: эксплицитные перформативные высказывания
- Бенда В.Н. «Присяга на верность…» как одно из средств формирования традиций русской армии и патриотизма в России XVIII века//Вестник Челябинского гос. ун-та. 2009. № 12 (150). История. Вып. 31. С. 56 -62.
- Военная присяга (от 1939 г.)//Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://base.consultant.ru.
- Военная присяга (от 1993 г.)//URL: http://armyrus.ru.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз. -Медиа, 2006.
- Карабыков А.В. Прагматика клятвы в контексте развития культуры//Филологический ежегодник/под ред. Н.Н. Мисюрова. Омск: Омск.гос. ун-т, 2007-2008. Вып. 7-8. С. 98-106.
- Кормина Ж. Воинская присяга: к истории одного перформатива//Неприкосновенный запас. 2004. № 1 (33). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2004/1/korm16.html.
- Присяга военная (от 1947 г.)//Большая советская энциклопедия: в 51 т. 2-е изд. М.: Большая сов. энцикл., 1950-1958. Т. 34.
- Сиразиева З.Н. Клятва как речевой жанр в русскоязычной и англоязычной лингвокультурах: автореф. дис. … канд. филол. наук. Казань, 2012.
- Словарь русского языка: в 4 т. М.: Рус. яз., 1981-1984.
- Слышкин Г.Г. Концепт чести в американской и русской культурах (на материале толковых словарей)//Языковая личность: культурные концепты. Волгоград-Архангельск: Перемена, 1996. С. 54-60.
- Тексты присяг на верноподданство государю Императору . URL: http://www.krotov.info/libr_min/16_p/pri/syaga1890.htm (дата обращения: 24.02.2016).
- Форма всенародной присяги на верность подданства Императору//Тексты присяг на верноподданство государю Императору . URL: http://www.krotov.info/libr_min/16_p/pri/syaga1890.htm (дата обращения: 24.02.2016).
- Чесноков И.И. Месть как эмоциональный поведенческий концепт (опыт когнитивно-коммуникативного описания в контексте русской лингвокультуры): дис. … д-ра филол. наук. Волгоград, 2009.
- Чесноков И.И. Речевой акт «клятва»: истоки и первичные формы объективации//Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Филологические науки. 2013. № 9 (84). С. 4-7.
- Электронный Национальный корпус русского языка. URL:htpp://www.ruscorpora.ru/.