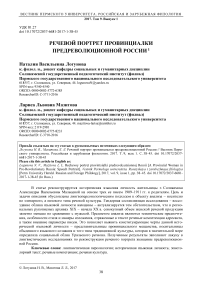Речевой портрет провинциалки предреволюционной России
Автор: Логунова Наталия Васильевна, Мазитова Лариса Львовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье реконструируется историческая языковая личность жительницы г. Соликамска Александры Васильевны Мальцевой на основе трех ее писем 1909-1911 гг. к родителям. Цель и задачи описания обусловлены лингвоперсонологическим подходом к объекту анализа - носителю не элитарного, а низового типа речевой культуры. Гендерная составляющая исследования - воссоздание облика языковой личности женщины - актуализируется тем обстоятельством, что в региональных рукописных архивах XIX - начала XX в. совокупный объем женской речевой продукции заметно меньше по сравнению с мужской. Предметом анализа являются тематические предпочтения, особенности стиля и манеры изложения, отраженные в тексте речевые компетенции адресанта, а также внешние параметры писем. Это позволяет выявить конституирующие черты данной исторической языковой личности - представительницы провинциального мещанства, носительницы обыденного языкового сознания и того типа традиционной культуры, которая в значительной мере определяла социальный облик Уральского региона. Полученные результаты заполняют лакуну в лингвистических исследованиях по реконструкции речевого портрета женщины предреволюционной России.
Лингвистическая персонология, историческая языковая личность, эпистолярный текст, речевые компетенции, речевая культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14729493
IDR: 14729493 | УДК: 81.27 | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-1-38-45
Текст научной статьи Речевой портрет провинциалки предреволюционной России
В изучении социокультурной ситуации на Урале XIX–XX вв. накоплен значительный опыт, однако, по мнению Н. Н. Алеврас, существуют определенные пробелы в исследованиях по данной проблематике, поскольку советская историография «с ее известным приоритетом пролетарской истории» гораздо меньше внимания уделяла изучению истории культуры других слоев провинциального общества: крестьянства, дворянства, купечества, мещанства [Алеврас 2009: 29]. При этом социальный облик Уральского региона в значительной мере формировался под влиянием традиционной культуры, носителями которой являлось численно преобладающее на Урале крестьянство (80,4 %, по Всероссийской переписи населения 1897 г.) и мещанство, доминирующее в провинциальных городах [там же]. Традиционная культура включает в себя в качестве одного из значимых элементов определенные стереотипы речевого поведения, изучение которых дает материал для воссоздания портретов исторических языковых личностей, обладающих разным социально-культурным опытом.
В рамках молодого научного направления – лингвоперсонологии [Нерознак 1996] – актуальны исследования, направленные на реконструкцию портретов исторических языковых личностей, которые являются носителями не элитарного, а низового типа речевой культуры и репрезентируют массовое языковое сознание [Иванцова 2002, 2010; Караулов 2010; Плесовских 2014]. Нами предприняты попытки подобных описаний на эпистолярном материале XIX–XX вв., отражающем разный уровень речевых компетенций адресантов (преимущественно мужского пола) [Логунова, Мазитова 2014а, 2014б, 2016; Система образования на Урале 2013]. Отметим при этом, что возможности воссоздания облика языковой личности женщины ограничены, поскольку совокупный объем женской речевой продукции заметно меньше по сравнению с мужской. Опыт реконструкции языковых личностей представителей различных сословий показал, что реализация этой процедуры требует выработки определенных подходов и принципов.
Во-первых, источником для такого описания являются тексты естественной письменной речи [Лебедева 2008; Логунова, Мазитова 2010]. Во-вторых, при отборе материалов для анализа необходимо учитывать, что наиболее информативными являются эпистолярные тексты частного характера, среди которых следует обращать внимание на такие, где отражаются те или иные особенности, рельефно высвечивающие черты отдельной языковой личности. В-третьих, реконструкцию речевых портретов исторических языковых личностей целесообразно выстраивать с учетом: реализации речевых компетенций адресанта; стиля письма, манеры общения с адресатом; круга затрагиваемых тем; внешних параметров писем (предпочтения в оформлении, наличие или отсутствие признаков саморедакти-рования, особенности почерка). Кроме того, более достоверным и многогранным становится описание исторической языковой личности при наличии затекстовой информации о ней.
В нашем распоряжении оказались рукописные материалы из архива Соликамского краеведческого музея, относящиеся к периоду конца XIX – начала XX в. и представляющие речевую продукцию жительниц уральской провинции. В перспективе это обстоятельство позволит нам создать галерею женских речевых портретов представителей своей исторической эпохи.
Данная статья посвящена реконструкции исторической языковой личности Александры Васильевны Мальцевой, дочери делопроизводителя Соликамской городской управы В. П. Мальцева. Эпистолярный архив В. П. Мальцева, частью которого являются письма Александры, опубликован нами ранее [Логунова, Мазитова 2015]. Из других материалов этого же архива установлено, что Александра, вероятно, старшая дочь в многодетной семье, в которой было еще пять дочерей и два сына. Как известно, в соответствии с патриархальными традициями российской провинции старшая дочь в семье выполняла функции няньки и помощницы матери в хозяйственных делах. По всей видимости, именно поэтому Александре Мальцевой не удалось получить качественного системного образования (о чем свидетельствуют тексты ее писем), хотя возможности для этого в Соликамске того времени были. По свидетельству краеведа Г. А. Бординских, в Соликамске девочки могли получать начальное образование уже с 1801 г., а к началу XX в. в городе для девушек были и училище, и гимназия [Бординских 2013: 148].
Из писем ее брата Ивана нам известно, что в Перми Александра в течение примерно трех лет проживает с ним для помощи по хозяйству. Письма Ивана, а также и самой Александры раскрывают некоторые подробности ее частной жизни, которые вызвали недовольство членов семьи – рождение внебрачного ребенка от Николая Львовича Гадова, сослуживца Ивана. Это обстоятельство (в соответствии с моральноэтическими стереотипами провинциальной мещанской среды того времени) побудило ее родственников искать выход из сложившейся ситуации. В частности, предложения брата Ивана в письме родителям сформулированы таким образом: Саша живетъ въ Разгуляh небольшая комнатка платитъ 2 руб въ мhсяцъ. Я былъ у нее говорилъ углана куда нибудь отдать, она гово-ритъ некому; тогда я ее отправлю домой, пусть углана отдастъ куда-нибудь въ деревню по близости въ Соликамскh, а въ Перми жить ей безъ дhла нhтъ смысла, а дома она принесетъ больше пользы [Логунова, Мазитова 2015: 15]2. Описание истории отношений Александры с отцом ее ребенка и связанных с этим проблем и составляет значительную часть содержания ее писем.
Итак, воссоздание речевого портрета жительницы провинции дореволюционной России предпринимается нами на основе анализа трех писем Александры Мальцевой к родителям, отправленных ею в Соликамск из Перми в 1909– 1911 гг. [там же: 11, 22–23]. Все три письма Александры являются ярким примером текстов, отражающих особенности естественной письменной речи с ее спонтанностью и ориентацией на привычные формы устного общения.
Если говорить о реализации в письмах Александры ее элементарных речевых компетенций – орфографических, пунктуационных, грамматических, – то их уровень свидетельствует о невла-дении многими простейшими нормами письменной речи. Зачастую адресант ориентируется на произносительный вариант слов и словоформ ( вагзале , итагже , призыфъ , здала , празникъ, продасли (=продаст ли) и под.), что ведет к нарушению орфографических правил. Письма Александры обнаруживают незнание ею следующих орфографических норм:
-
- слитные, раздельные или дефисные написания: Унасъ, гуляюли, нетли, нахлебы, вы-купилабы, комне, коечто, какъ небутъ, отъ пускаетъ, двухъ спалную, спосудой , соборкой (=с оборкой), незнаю , не кого , невелитъ , невыдали , неругался и под.;
-
- безударные гласные в разных морфемах: Слыш и ли , вал я нковъ , дешев и нкой , с о мо-варъ , пасп а рту , выт е неть , ч е стенко, ок-т е бря, мес е цъ и под.;
-
- правописание звонких и глухих согласных: по т писалъ , уве с ти (=увезти), чере с каму (=через Каму), з делатъ , о д ать , о д асъ и под.;
-
- неупорядоченность в употреблении прописных и строчных букв: увани , изусоля , маня , у мезенчихи , изъ пожвы , вь перми , по-каме ; Папа , Мама , Просимъ , Мы , Слышили , Жаловне , Гон f етовъ , Шуба , Мой , Он ;
-
- написание мягкого знака (и разделительного, и обозначающего мягкость): мальенкую , Досвидане , Жаловне , родителское , платя , возмутъ, одяло , колца , свадба , возму толко , изУсоля , денги , здоровя, беле (=белье) и под.;
-
- правила употребления h : адресант использует его крайне редко и применяет верно только в словах h хать , присеб h , Б h ляева ;
-
- мягкий знак в возвратных формах инфинитива: венча тс я , собра тс я , проби тс я , оста тс я и под.;
-
- выбор частиц не и ни с разными частями речи: нечего новаго нетъ ; не куда не бывала ; некуда нехожу нечего незнаю и под.
Встречаются и иные единичные случаи нарушения других орфографических правил.
На фонетико-грамматическом и лексикостилистическом уровнях автор проявляет себя как представитель низовой речевой среды провинциального города (просторечия), в которой ощутимо влияние регионального диалекта. В письмах Александры встречаются разнородные диалектно-просторечные элементы:
-
- фонетические: г он f еты ; ич о / h ч о (=еще); реш о но ; у зо локъ ; с у мневается ; котор ы / котор о , попутн ы ; мож о б ыть (=может быть); прода сл и (=продаст ли), ода с ъ (=отдаст); досвида н е , о дя ло ;
-
- лексико-словообразовательные: бамазенка (бумазейка); жаловне (=жалование); кама-дироватные (=командировочные); посиделка (=сиделка); опочинитъ (=починить); ростраивать / расстраивать (=устра-ивать, приводить в порядок);
-
- морфологические: гон f ет овъ , валянк овъ ; хоч емъ ; загуляю сь ; клан и тесъ / клан е тесь ; попутн ихъ ;
-
- собственно лексические, лексико-семантические и фразеологические: папоужину (=в послеобеденное время); прикормить (=при-вадить); венчаться какъ убегомъ ; звать нахлеб ;
-
- синтаксические: семантическое согласование вместо грамматического ( и народъ Пожве все удивятся ); замена предложного управления беспредложным, характерная для русской диалектной речи в коми-пермяцком окружении [Бакланова 2014: 124]: и народъ Пожве все удивятся ; h хать колошахъ ; сходила началнику ; сходить болницу ; а осталное можно мешкахъ ; боится что Перме загуляюсь ; все старался тебя (=для тебя); собой возму толко узолокъ .
На синтаксическом уровне также встречаются не единичные случаи нарушения в реализации различных типов связей между членами предложения: Желаю всего хорошаго а главнаго здоро-вя ; место нетъ ; некуда не бывала и под.
Очевидно, что у Александры отсутствует навык построения монологический письменной речи – как в определении содержания, так и в речевом оформлении эпистолярного нарратива. Об этом свидетельствуют не только фраза, присутствующая в конце двух писем (незнаю что писатъ / писать незнаю что), но и наличие во всех трех анализируемых текстах многочисленных структур, свойственных непринужденной обыденной устной речи с ее эллиптичностью, грамматической аморфностью, незавершенностью конструкций, с неразграничением своей и чужой речи: получили нетъ посылку мальенкую; бумагъ унего нетъ не пришли; незнаю замерз-нутъ нетъ ноги hхать колошахъ; Н.Ль. неве-литъ ничего вести оставить уВани; онъ писалъ что все перестроили вкомнатахъ все старался тебя то совсемъ не сталъ бы; спрашивалъ когда я поеду поеду приду проводить; некуда не бывала и театръ и картины смотреть не куда; хотела зделатъ такь сложить все мешки изъ болшого ящика ли оставить его спосудой; Ваня говрит что место нетъ оставить негде да оставь где да половину вынуть хотя хорошаго нетъ но все-таки жалко.
На низкий уровень владения письменной речью указывают многочисленные факты, свидетельствующие, что адресант не понимает разницы между устным и письменным общением. Не имея представления о том, что при письменной коммуникации отсутствуют многие важные компоненты устного ситуативного общения (единство места и времени коммуникантов, интонационное членение фраз, использование мимики и жестов, наличие обратной связи в процессе коммуникации), Александра не осознает необходимости поиска каких-либо средств их компенсации в письменном речи – в частности, например, более четких синтаксических структур и пунктуационного оформления текста. Что касается последнего, то в письмах Александры практически отсутствуют знаки препинания: отмечается редкое и бессистемное использование запятых и точек.
Все перечисленные характеристики писем Александры Мальцевой позволяют квалифицировать ее речевую продукцию как яркий образец текстов естественной письменной речи носителя низовой (просторечной) речевой культуры, которая, по мнению И. В. Шалиной, «характеризуется признаками культурно-социальной отсталости: это нарушение языковых правильностей, бедность языковых ресурсов, стилистическая монотонность, отсутствие проблемы выбора языковых средств, повышенная экспрессивность и др.» [Шалина 2005: 203]. (Все эти особенности, кроме последней, мы наблюдаем в речевой продукции Александры Мальцевой.) Подобная языковая личность не в состоянии реализовать какие-либо конституирующие признаки эпистолярного стиля, за исключением клишированных этикетных фраз приветствия и прощания (Здравствуйте дорогiе родитли Папа и Мама Просимъ родительское благословенiе; Кланитесъ всемъ знакомым Досви- дане остаемся Живы и здоровы Ваня Саша; до-свидане остаемся живы здоровы чего и вамъ же-лаемъ). По сути, письма Александры представляют собой привычное для нее устное обиходнобытовое общение, перенесенное на бумагу.
Последнее обстоятельство сказывается в том числе и на тематике писем. Круг тем, затрагиваемых в письмах Александры, ограничивается делами и проблемами повседневной частной жизни – ее и брата Ивана: Жаловне не получили ; денегъ нетъ у Вани ; Шубу и шалъ я выкупилабы давно, Ваня посылаль изъ Пожвы 6 руб. и велель выку-питъ ; Ваня свою шубу выкупиль давно и коечто купилъ а камадироватныхъ не выдали и дожидается ихь и хочеть купить троику а осталные послать папе ; Ваня <…> комне ходитъ честенко то одасъ беле стиратъ то что опочинитъ ; уменя небыло денегъ и пришла кнему Онъ [Ваня] далъ и неругался ; второй женихъ приходилъ два раза я сказала что дело решоно и посланы Метрики ; Ваню зовутъ опять туда нахлебы где жилъ и зо-вутъ h чо Евдоти еЕгоровны сестра, покуда хо-четъ остатся на h той хозяика не отъ пускаетъ ; хотела купить ботинки но денегъ нетъ одяло какое хочемъ купить ичо нужно .
Прагматически-бытовым характером отличаются и немногочисленные просьбы в письмах Александры: Маня купи на юбку бамазенки де-шевинкой и шей соборкой и не продасли кто одну подушку нетли у Мезенчихи .
Процитированные отрывки из писем свидетельствуют о том, насколько жизнь Александры событийно бедна, а интересы ограничены рамками быта. Она ни разу не упоминает ни о достопримечательностях, ни о социально-культурных событиях Перми (кроме единственного посещения новогоднего праздника: получили нетъ посылку мальенкую 2 января немного посылала Гон f е-товъ которы получила на елке ); и образ жизни Александры в губернском городе исчерпывающе характеризует фраза из ее письма: въ Перми жить хорошо но все дорого некуда не бывала и театръ и картины смотреть не куда .
В отличие от брата, чьи письма мы тоже анализировали, Александра не проявляет интереса к подробностям жизни ее родных, близких и друзей, ограничиваясь обобщенно-трафаретными вопросами: напишите какъ провели празникъ; Кланитесъ всемъ знакомым; кланетесь всемъ . По ее письмам трудно составить представление о стиле ее эмоциональных отношений с членами семьи, поскольку в текстах практически отсутствует эмотивная составляющая: лишь один раз Александра говорит о своих чувствах, но и эта фраза носит характер попутного замечания: остаемся живы здоровы чего и вамъ желаемъ, толко скучаю .
Более подробно (но в той же отстраненно-констатирующей манере) в письмах Александры представлены проблемы, связанные с ее интимными отношениями с Н. Л. Гадовым. Этому отведен значительный объем двух ее писем – сначала о подготовке к предполагаемому венчанию ( Н. Ль. <…> велелъ купить две иконы и два колца а денегъ не послалъ начто я куплю, и посылалъ меня въ Соликамскъ пожить боится что Перме загуляюсь и спрашиваетъ уВани папоужину гу-ляюли я ужасно сумневается; ^ хать въ церковь венчатся буду одна не кого нетъ своихъ какъ убегомъ белаго платя нетъ хочу втомъ которо уменя мамино серое покупать денегъ нетъ у Вани ; не знаю когда будетъ свадба и какъ буду жить, и народъ Пожве все удивятся что прикормила его ), а затем о проблемах, связанных с появлением внебрачного ребенка ( незнаю какь я приеду квамъ сребенкомъ и все узнають и вамъ будеть не приятно или остатся вь Перми и какъ небутъ пробится сходить болницу непримуть ли посиделки, а ребенка одать водится, онъ уже болшой пошолъ восмой месець и начинаетъ хо-дитъ ). Фрагмент, процитированный последним, показывает: Александра осознает, что нарушила запреты традиционной морали и тем самым запятнала репутацию своей семьи. При этом обращает на себя внимание тот факт, что в письмах не видно никаких проявлений чувств по отношению к ребенку, как нет и упоминаний ни о его внешности, ни о его поведении, что дополняет психологический облик Александры как человека с пониженной эмоциональностью и – трудно установить – то ли не способного на чувства, то ли не умеющего их выразить.
Если характеризовать внешний облик писем Александры Мальцевой, то их первой яркой особенностью является то, что все они написаны карандашом. Это – с учетом всех остальных известных нам фактов, – по-видимому, указывает на отсутствие у нее навыка письма пером и чернилами, что требовало определенной выучки. В целом письма оформлены аккуратно, строчки ровные, поля неодинаковые, но чаще всего узкие. Признаков саморедактирования – исправлений и вставок над строкой и приписок на полях – практически нет. Почерк достаточно разборчив, хотя плохо сформирован: строчные буквы разнотипны по начертанию, неодинаковы по размеру и написаны с непостоянным углом наклона. Разрывы между буквами в словах отсутствуют. Почерк средний по размеру. По характеру начертания букв (угловатые, округлые и т. п.) почерк адресанта оценить невозможно, поскольку отсутствует единый стиль изображения графем. На основе сделанных наблюдений можно заключить: слабая сформированность у Александры навыков оформления письменного текста затрудняет почерковедческий анализ ее писем [Особенности почерка].
Таким образом, и признаки почерка, и особенности оформления текста писем Александры Мальцевой коррелируют с общим ощущением аморфности данной исторической языковой личности. У нее отсутствуют не только саморе-флексия и собственная шкала ценностей (что является показателем сформированности в человеке личностного начала), но и простейшая эмоциональная оценка окружающих людей и событий. Она не способна выразить в письмах ни своих желаний, ни склонностей, ни интересов, и мы не можем с уверенностью определить, что тому причиной – невладение письменной формой общения или неумение «заглянуть в себя» и осознать свое внутреннее содержание – свои чувства, предпочтения, намерения. Она полностью существует в рамках социокультурных стереотипов традиционного патриархального уклада жизни, являясь его продуктом и воплощая собой всю его косность. Оказавшись вырванной из привычной для нее среды и лишившись ее опоры, Александра не сумела сориентироваться в новых жизненных обстоятельствах. Возможно, свою роль сыграло и «снижение уровня социального контроля», что, по мнению О. Н. Яхно, было характерно для новопоселенцев, прибывающих в крупные города из глубинки [Яхно 2008: 23].
Мы отдаем себе отчет, что реконструированный нами портрет данной исторической языковой личности не может расцениваться как типизированный образ носительницы традиционной культуры, живущей в дореволюционной российской провинции. В нем много таких особенностей, которые, вероятно, обусловлены психотипом индивида, врожденным интеллектуальным потенциалом и, возможно, конкретными обстоятельствами семейной жизни. Знакомство с аналогичной речевой продукцией других жительниц Уральского региона позволяет нам утверждать, что с помощью лингвоперсонологического исследования мы сможем воссоздать их речевые портреты, выявив характерные черты каждой исторической языковой личности, и затем выйти на уровень типизации – создания обобщенного речевого портрета провинциалки дореволюционной России.
A PROVINCIAL WOMAN IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA:
Associate Professor in the Department of Social Disciplines and Humanities
Associate Professor in the Department of Social Disciplines and Humanities
Solikamsk State Pedagogical Institute (the branch of Perm State University)
Список литературы Речевой портрет провинциалки предреволюционной России
- Алеврас Н. Н. Специфика провинциального социума дореволюционного Урала в ракурсе социокультурных процессов XVIII -начала XX века//Вестник Челябинского университета. 2009. № 16(154). История. Вып. 32. С. 26-37
- Бакланова И. И. Устойчивые коми-пермяцкие языковые особенности в русской речи Пермского края//Социо-и психолингвистические исследования. 2014. № 2. С. 121-126. URL: http://splr.psu. ru/wp-content/uploads/2014/11/Бакланова2014.pdf (дата обращения: 08.12.2016)
- Бординских Г. А. Соликамская энциклопедия/ред. Р. Я. Бординских. Пермь: Агентство «СтильМГ», 2013. 266 с
- Иванцова Е. В. Феномен диалектной языковой личности. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. 312 с
- Иванцова Е. В. О термине «языковая личность»: истоки, проблемы, перспективы использования//Вестник Томского государственного университета. 2010. № 4(12). Филология. С. 24-32
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с
- Лебедева Н. Б. Естественная письменная речь: основные понятия и аспекты изучения//Письменная культура народов России: материалы Всерос. науч. конф., 19-21 нояб. 2008 г./под ред. Б. И. Осипова. Омск: Омск. гос. ун-т, 2008. С. 12-18
- Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. О понятии «естественная письменная речь» и перспективах ее изучения//Материалы Междунар. науч. конф. «Проблемы динамической лингвистики», посвящ. 80-летию проф. Л. Н. Мурзина, 12-14 мая 2010 г.; ПГУ, Пермь, 2010. С. 395-401
- Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. Портрет исторической личности на основе рукописных источников XIX века//Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи: материалы II Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Пермь, 15 апр. 2014 г./отв. ред. Н. В. Соловьева, И. И. Руси-нова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014а. С. 249-255
- Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. Реконструкция исторической языковой личности (по данным эпистолярных текстов XIX века)//Лингво-культурные феномены в коммуникативном пространстве полиэтнического региона: материалы I Междунар. науч. конф. (Ростов н/Д, 5-7 нояб. 2014 г.)/под общ. ред. Е. А. Жуковой, И. В. Ков-туненко, Е. В. Маслаковой, О. М. Холомеенко. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2014 б. С. 309-314
- Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. Портрет исторической языковой личности купца И. С. Щего лихина (на материале эпистолярных текстов начала XX века)//Слово и текст в свете современных исследований филологических наук: сб. науч. тр. по материалам I Междунар. науч.-практ. конф., 30 апр. 2016 г. Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2016. С. 94-102
- Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. Речевая культура жителей Северного Прикамья в начале XX века: материалы и исследования. Соликамск: РТО СГПИ, филиал ПГНИУ, 2015. 377 с
- Нерознак В. П. Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины//Язык. Поэтика. Перевод: сб. науч. тр. М.: Моск. гос. лингв. ун-т, 1996. С. 112-116
- Особенности почерка//Почерковедение.ru URL: http://pocherkovedenie.ru/osobennosti/(дата обращения: 24.04.2015)
- Плесовских Т. С. Лингвоперсонология в контексте антропологического подхода//Science Time. 2014. Вып. № 4(4). С. 173-179
- Система образования на Урале и уровень образованности населения региона до 1917 года/Н. В. Логунова, Л. Л. Мазитова, Е. В. Протасова; науч. ред. Е. В. Протасова. Соликамск: СГПИ, 2013. 223 с
- Шалина И. В. Просторечная речевая культура: стереотипы и ценности//Известия Уральского государственного университета. 2005. № 35. С.203-216
- Яхно О. Н. Провинциальный город на рубеже XIX-XX вв.: противоречивая повседневность//Уральский исторический вестник. 2008. № 1(18). С. 19-25