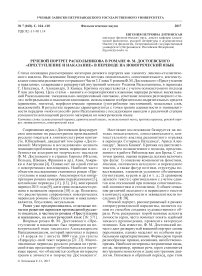Речевой портрет Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" в переводе на новогреческий язык
Автор: Литинская Евгения Петровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (168), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению категории речевого портрета как элементу лексико-стилистического анализа. Исследование базируется на методах описательного, сопоставительного, контекстуального анализа релевантного отрывка из Части 3, Главы V романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», содержащего развернутый внутренний монолог Родиона Раскольникова, в переводах С. Патадзиса, А. Александру, З. Канаса. Критика осуществляется с учетом полисистемного подхода Р. ван ден Брока. Цель статьи - выявить и охарактеризовать языковые маркеры речевых высказываний Раскольникова: эмоционально-экспрессивный синтаксис, сочетание лексики разговорного стиля с нейтральными и высокими единицами, использование изобразительно-выразительных средств (сравнения, эпитеты), морфологические признаки (употребление местоимений, модальных слов, междометий). В результате переводы характеризуются с точки зрения адекватности и эквивалентности передачи «многоголосой» речи Раскольникова с последующим выводом о различной степени успешности воплощений русского материала на новогреческом языке.
Художественный перевод, сравнительный анализ, полисистемный метод, критика перевода, речевой портрет, эквивалентность, новогреческий язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14751227
IDR: 14751227
Текст научной статьи Речевой портрет Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" в переводе на новогреческий язык
Современная наука о Достоевском фокусирует свое внимание на рассмотрении произведений русского писателя в лингвокультурном контексте. Юбилейный, двадцатый том серии «Достоевский: Материалы и исследования» целиком посвящен проблемам изучения, переводам и особенностям восприятия творческого наследия Ф. М. Достоевского в странах Европы (Италия, Польша, Швеция, Франция и др.), Азии, Америки и Австралии [4]. Однако нет ни одной статьи о новогреческих воплощениях. Наиболее часто объектом исследования становится роман «Преступление и наказание». Анализируются интерпретации романа немецкими переводчиками [3], английские переводы [11], [13], [14], венгерский перевод 2015 года [9], категория модальности романа в испанcком переводе [10] и др. Полагаем, что рассмотрение современных новогреческих переводов романа «Преступление и наказание» является, безусловно, актуальным.
Ранее уже предпринимались отдельные попытки рецензии переводов произведений русского писателя, в частности романа «Преступление и наказание», на новогреческий язык [16: 571].
Впервые роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» был переведен на новогреческий язык писателем Александросом Пападиамандисом, который напечатал в период с 14 апреля по 1 августа 1889 года для газеты «Εφημερίς» свой текст перевода [21: 23]. Многочисленные переводы русского романа на греческий язык продолжают публиковаться и в настоящее время, что объясняется особым интересом греков к личности и творчеству Достоевского1.
Настоящее исследование базируется на методах описательного, сопоставительного, контекстуального анализа релевантного отрывка в переводах Сотириса Патадзиса2, Ариса Алек-сандру3, Захоса Канаса4. Критика осуществляется с учетом полисистемного подхода, представленного в работе Раймонда ван ден Брока. С его точки зрения, оценка перевода должна включать три фазы: 1) описание компонентов фонетики, лексики, синтаксиса исходного и переводного текстов, а также фигур поэтики, структуры повествования, элементов условного обозначения (пунктуация, курсив и др.) и т. д.; 2) сравнение целевого текста с оригинальным с учетом сдвигов или отклонений при помощи сопоставительной лингвистики и стилистики; 3) общее описание различий исходного и переводного текстов в контексте адекватности и эквивалентности последних [18: 58].
Речевой портрет, рассматриваемый в рамках литературоведческой парадигмы, является одним из способов создания художественного образа. Речь раскрывает порой неявные аспекты личности героя, часто помогает понять идейный замысел произведения, прояснить авторскую позицию. Как известно, Ф. М. Достоевский нечасто дает развернутый внешний портрет своим персонажам, однако наделяет их особыми вербальными характеристиками. Формы речи героев разнообразны: прямая, косвенная, несобственнопрямая. Наиболее интересны пограничные виды, когда, например, прямая речь героя становится внутренним монологом и даже внутренним диалогом. Возможен и обратный переход, при этом
внутренняя речь врывается во внешний монолог или диалог. Как верно подметила А. Е. Белоусова: «Голос героя в любой момент проницаем для чужих голосов, его речь отражает речь других и отражается речью других» [2: 10].
Выбранный эпизод из Части 3, Главы V (первая встреча Раскольникова и Порфирия Петровича) неслучайно становится объектом нашего изучения, поскольку содержит развернутый внутренний монолог Родиона Раскольникова, отражающий внутреннее напряженное состояние героя и являющийся реакцией на беседу с Порфирием Петровичем. Речь героя графически оформлена кавычками. Она сбивчива, прерывиста, эмоциональна, с оговорками и поправками5, от монолога переходит к диалогу. Повествование отличает дисгармоничный, экспрессивный синтаксис, с преобладанием сложных конструкций и отрывочных фраз. Фрагмент насыщен многоточиями, передающими «эмоционально-семантические паузы» [8: 55], вопросительными и восклицательными предложениями, повторами, констатирующими нарастающее волнение героя. Сочетание стилистически окрашенных компонентов лексики высокого и низкого пластов на общем нейтральном фоне, использование различных образных средств нацелены на создание особого типа речи героя.
Обратимся к русскому тексту:
«Главное, даже и не скрываются, и церемониться не хотят! А по какому случаю, коль меня совсем не знаешь, говорил ты обо мне с Никодимом Фомичем? Стало быть, уж и скрывать не хотят, что следят за мной, как стая собак! Так откровенно в рожу и плюют! ό – дрожал он от бешенства. – Ну, бейте прямо, а не играйте, как кошка с мышью. <…> Это ведь невежливо, Порфирий Петрович, ведь я еще, может быть, не позволю-с!.. Встану, да и брякну всем в рожу всю правду; и увидите, как я вас презираю!»6
Размышления героя представлены в форме прямой, закавыченной речи, наиболее убедительной и правдоподобной с точки зрения авторского замысла. Переводчики внимательны к этой особенности: отрывки, содержащие внутренние монологи Раскольникова, переданы в кавычках. Однако диалогичность речи в переводе Александру воспроизводится с погрешностями, утрачена глагольная форма второго лица во втором предложении оригинального текста, заменена на третье:
«Και πώς έγινε να μιλήσει για μένα με τον Νικοντίμ Φόμιτς, αφού δε με ξέρει καθόλου; Θα πει λοιπόν πως δε θέλουν και να το κρύψουν, πως έχουν ξαμοληθεί ξοπίσω μου σαν κοπάδι σκυλιά και με παρακολουθούν»7, букв.: «И как случилось, что он говорил обо мне с Никодимом Фомичем, тогда как не знает меня совсем?»
Приведенный отрывок и последующий текст включают имена собственные, которые передаются различными фонетическими приемами:
|
Русское имя |
В переводе Патадзиса |
В переводе Александру |
В переводе Канаса |
|
Порфирий Петрович |
ο Πορφυρής Πετρόβιτς (написание и ударение имени адаптируются по грамматическим правилам имен существительных мужского рода в греческом языке, отчество – транскрипция) |
о Πορφύρης Πετρόβιτς (имя – адаптация, отчество – транскрипция) |
о Πορφύριος Πέτροβιτς (имя – адаптация, отчество – транскрипция) |
|
Раскольников |
ο Ρασκόλνικωφ (транскрипция) |
о Ρασκόλνικοβ (транслитерация) |
о Ρασκόλνικοφ (транскрипция) |
|
Никодим Фомич |
ο Νικοντίμ Φόμιτς (транскрипция) |
о Νικοντίμ Φόμιτς (транскрипция) |
о Νικόδημος Φόμιτς (имя – адаптация, отчество – транскрипция) |
|
Заметов |
ο Ζαμιότοβ (транслитерация) |
о Ζαμιότοβ (транслитерация) |
о Ζαμιότοφ (транскрипция) |
|
Разумихин |
ο Ραζουμίχιν (транскрипция) |
о Ραζουμίχιν (транскрипция) |
о Ραζουμίχιν (транскрипция) |
У Патадзиса и Канаса преобладает транскрипция, подчеркивающая устную традицию. Александру равно применяет все три приема, что демонстрирует бόльшую гибкость переводчика. Необъясним остается перенос ударения в отчестве Φόμιτς в трех текстах. Переводы были созданы в разные периоды ХХ столетия, а правила переноса имен собственных из русского языка в новогреческий и обратно до сих пор не до конца сформированы и описаны8. Потому вариативность фонетического облика русского текста в греческих переводах вполне допустима. Указанные разночтения мало отражаются на восприятии читателями текста.
Языковыми сигналами «многоголосой» речи Раскольникова являются модальные слова, указывающие на субъективное отношение говорящего к тому, что происходит вокруг, сохранить которые важно во вторичном тексте. Вводное выражение «стало быть», констатирующее значительную степень уверенности, у Александру эквивалентно передано как «θα πει λοιπόν», букв.: «будет сказано, следовательно». Патадзис ограничивается наречием «συνεπώς»9, букв.: «следовательно», Канас – вводным словом «ώστε»10, букв.: «итак». Все варианты передают семантическое свойство исходной языковой единицы. Сочетание «может быть», выражающее допустимость действия, переведено как «μπορεί», букв.: «может быть, возможно» (Александру) и «ίσως» с аналогичным значением (Патадзис). Канас опускает форму при переводе.
Сравнение «как стая собак» приводится в трех вариантах с разной степенью точности: «έχουν ξαμοληθεί ξοπίσω μου σαν κοπάδι σκυλιά» (Александру), букв.: «набрасываются на меня, как стая собак» (эквивалентная единица перевода), «σαν κοπάδι από κυνηγόσκυλα» (Патадзис), букв.: «как стая гончих» (уточняющая семантику единица перевода, прием конкретизации), «σαν τα σκυλιά» (Канас), букв.: «как собаки» (прием генерализации).
Соседство лексики контрастных стилей – одно из ярких вербальных качеств эмоциональной речи Раскольникова. Однако просторечное сочетание «в рожу плюют» (дважды в нашем отрывке использована лексема «рожа», повторы сохранены и в греческих текстах) передано переводчиками с помощью нейтральных лексических единиц как «με φτύνουν κατά πρόσωπο», букв.: «плюют мне в лицо», в повторе наречие «κατάμουτρα», букв.: «прямо в лицо» (Александру); «με φτύνουν κατάμουτρα», букв.: «плюют мне прямо в лицо», в повторе «κατάμουτρα», букв.: «прямо в лицо» (Патадзис); «με φτύνουν κατάφατσα», букв.: «плюют мне прямо в лицо», в повторе наречие «κατάφατσα» (Канас).
Междометия со значением побуждения «ну», являющиеся приметой разговорного стиля, сохранены в трех переводах. Александру переводит его как «ε, λοιπόν» – сочетанием звукоподражательного слова с аналогичной семантикой русского междометия и вводного слова «итак», Патадзис как «εμπρός, λοιπόν» – сочетание наречия «вперед» и вводного слова, Канас как «άντε λοιπόν» – сочетание междометия «давай» и вводного слова.
Образное сравнение «не играйте, как кошка с мышью» передано во всех трех случаях точно.
Переводчики успешно передают фонетические, морфологические, поэтические особенности отрывка, но пасуют перед лексическими.
В продолжение внутренних размышлений Раскольникова меняется настроение: агрессия по отношению к преследователям угасает под воздействием возникающих сомнений, но затем вновь разгораются подозрения:
«– А что, если мне так только кажется? Что, если это мираж, и я во всем ошибаюсь, по неопытности злюсь, подлой роли моей не выдерживаю? Может быть, это все без намерения? Все слова их обыкновенные, но что-то в них есть… Все это всегда можно сказать, но что-то есть. Почему он сказал прямо “у ней”? Почему Заметов прибавил, что я хитро говорил? Почему они говорят таким тоном? Да… тон… Разумихин тут же сидел, почему ж ему ничего не кажется? Этому невинному болвану никогда ничего не кажется!»
Переводчики стремятся адекватно отразить колебания в эмоциональном состоянии героя, сохраняя превалирующую вопросительную интонацию, фиксируя часть многоточий.
Выразительное словосочетание «подлая роль» удачнее всего передано Александру «πρόστυχος ρόλος», букв.: «подлая/низкая роль». Патадзис и Канас в данном случае используют определе- ние «άθλιος», букв. «жалкий, скверный» к греческому существительному «ρόλος».
Повтор неопределенного местоимения «что-то», которое относится к лингвистическим маркерам вербальной манеры героя11, последовательно и эквивалентно воспроизводится в переводах: «κάτι» (что-то). Внимательны переводчики и к повтору вопросительного наречия «почему»: «γιάτι» (почему).
К числу издержек при переводе можно отнести неясный смысл греческой фразы «το τόνισε το εκεί» (Александу), букв.: «то там подчеркнул», как соответствие «он сказал прямо “у ней”», тогда как возможны варианты «“στο σπίτι της”», букв.: «“у нее дома”» (Патадзис). При точном переводе « хитро говорил» у Александру «μιλούσα πονηρά», букв.: «говорил хитро», читаем «μίλησα “έξυπνα”», букв.: «сказал “остроумно”» (отметим наличие кавычек, отражающих акцент оригинала, но нельзя согласиться с семантикой выбранной лексемы) у Патадзиса и «μιλούσα μ’ έναν πολύ επιδέξιο τρόπο», букв.: «говорил неким искусным образом» (проясняющий перевод, утяжеляющий фразу в целом) у Канаса.
Сочетание нейтральной лексемы с разговорно-сниженной в паре «невинный болван» наиболее точно передано Александру: «αθώος χοντροκέφαλος», букв.: «невинный балда / тупица». Патадзис усекает словосочетание до «αγαθιάρης», букв.: «легковерный». Канасу не под силу оказалось подобрать эквивалент, он использует распространенную описательную конструкцию: «΄Ομως είναι πολύ αγαθός, δεν καταλαβαίνει τίποτα», букв.: «Но он очень добродушный/наи-вный, ничего не понимает».
Вновь при очевидных переводческих удачах слабым местом оказывается передача лексических сочетаний.
Далее Раскольников осознает свое неустойчивое физическое состояние, вследствие которого у него возникают дополнительные сомнения:
«Опять лихорадка!.. Подмигнул мне давеча Порфирий аль нет? Верно, вздор; для чего бы подмигивать? Нервы, что ль, хотят мои раздражить али дразнят меня? Или все мираж, или знают !..»
На уровне синтаксиса эмоциональные высказывания героя, обособленные от авторского влияния, характеризуются отрывочными и незаконченными фразами, что наиболее адекватно отражено в переводе Александру:
«Πάλι ο πυρετός! Μου ’κλείσε ο Πορφύρης το μάτι στην αρχή ή όχι; Ανοησία αλήθεια· γιατί να μου κλείσει το μάτι; Μήπως θέλουν να μου πειράξουν στα νεύρα ή να με κοροϊδέψουν; ΄Η, όλα είναι αυταπάτη ή όλα τα ξέρουν!», букв.: «Опять лихорадка! Подмигнул мне Порфирий вначале или нет? Глупость, правда; зачем ему мне подмигивать? Может быть, хотят раздражить мне нервы или дразнить меня? Или все иллюзия или всё знают!..»
Патадзис и Канас дают более распространенные переводы. Ученые неоднократно отмечали тенденцию к выделению отдельных сегментов текста Достоевским, в том числе курсивом. Так, В. Н. Захаров пишет: «У Достоевского есть своя система, которая исключает выделение курсивом “случайных” слов, “случайных” предложений. Выделяются только опорные, ключевые слова, своего рода смысловые стяжения в тексте, – именно те слова, которые обязательно должны прочно войти в сознание» [5: 21]. Однако переводчики игнорируют эту авторскую черту, упрощая тем самым вторичный текст.
Раскольников оценивает окружающих, выбирая собственную тактику поведения:
«Даже Заметов дерзок… Дерзок ли Заметов? Заметов передумал за ночь. Я и предчувствовал, что передумает! Он здесь как свой, а сам в первый раз. Порфирий его за гостя не считает, к нему задом сидит. Снюхались! Непременно из-за меня снюхались! Непременно до нас обо мне говорили!.. Знают ли про квартиру-то? Поскорей бы уж!.. Когда я сказал, что квартиру нанять вчера убежал, он пропустил, не поднял… А это я ловко про квартиру ввернул: потом пригодится!.. В бреду, дескать!.. Ха-ха-ха! Он про весь вечер вчерашний знает! Про приезд матери не знал!.. А ведьма и число прописала карандашом!.. Врете, не дамся! Ведь это еще не факты, это только мираж! Нет, вы давайте-ка фактов! И квартира не факт, а бред; я знаю, что им говорить… Знают ли про квартиру-то? Не уйду, не узнав! Зачем я пришел? А вот что я злюсь теперь, так это, пожалуй, и факт! Фу, как я раздражителен! А может, и хорошо; болезненная роль… Он меня ощупывает. Сбивать будет. Зачем я пришел?»
Русский текст изобилует повторами. Автор использует этот стилистический прием с целью создания противоречивого образа героя. Рассмотрим, какие трансформации осуществляют переводчики. Александру и Патадзис сохраняют повтор «дерзок», Канас – нет. Первый осуществляет грамматическую замену краткого прилагательного «дерзок» на существительное «θράσος» (дерзость): «Ακόμα κι ο Ζαμιότοβ σου ’χει ένα θράσος… Μα να ’ναι άραγε το θράσος αυτό;», букв.: «Даже Заметов твой имеет дерзость… Но дерзость ли это?». Патадзис же использует однокоренные слова: «Ακόμα και ο Ζαμιότοβ φέρνεται με θράσος. Είναι όμως θρασύς ο Ζαμιότοβ;»; букв.: «Даже Заметов держится с дерзостью. Но дерзок ли Заметов?», Канас: «Και ο Ζαμιότοφ είναι θρασύτατος. Είναι όμως πράγματι;», букв.: «И Заметов очень дерзкий. Но так ли это?»
Просторечный глагол «снюхались», имеющий переносное значение с оттенком пренебрежения, не отражен ни в одном переводе, однако стилистический прием повтора передан. Александру: «Σμίξανε! Το δίχως άλλο εξαιτίας μου σμίξανε!», букв.: «Объединились/встретились! Не иначе из-за меня встретились!», Патадзис: «Είναι συνεννοημένοι! Και συνεννοήθηκαν για μένα!», букв.: «Они сговорились! И сговорились обо мне!», Канас: «΄Εχουν συμφωνήσει, έχουν συμφωνήσει για μένα.», букв. «Они сговорились, они сговорились обо мне».
Наречие «непременно» опускается во всех текстах. Наиболее близок к оригиналу перевод Александру (см. пример выше).
В отрывке дублируются и целые фразы, лаконичные по своему синтаксическому облику: «Знают ли про квартиру-то?», «Зачем я пришел?» Александру предельно точно передает конструкции: «Να το ξέρουν άραγε για το διαμέρισμα;», букв.: «Знают ли о квартире?»; «Γιατί ήρθα;» и «Τι ήθελα κι ήρθα;», букв.: «Зачем я пришел?» и «Что я хотел и зачем пришел?». Патадзис и Канас, распространяя текст, описательно представляют оригинал: у Патадзиса «Το ξέρουν τάχα πως πήγα σ’ εκείνο το διαμέρισμα;» и «Ξέρουν τι έγινε εκεί στο διαμέρισμα;», букв.: «Знают ли, что я ходил в ту квартиру?» и «Знают, что произошло там в квартире?»; «Γιατί να ’ρθω εδώ;» и «Γιατί να ’ρθω;» букв.: «Зачем я пришел сюда?» и «Зачем я пришел?»; у Канаса «Ξέρουν τίποτα για την επίσκεψη μου στο διαμέρισμα;» и «Ξέρουν όμως για την επίσκεψη μου στο διαμέρισμα;», букв.: «Знают что-нибудь о моем посещении квартиры?» и «Но знают о моем посещении квартиры?»; «Αλλά γιατί ήρθα;» и «Γιατί ήρθα;», букв.: «Но зачем я пришел?» и «Зачем пришел?» (Канас).
Е. А. Иванчикова, анализируя синтаксическую структуру текстов Достоевского, выделяет «двуголосые» конструкции, в частности случаи «совмещения в одной фразе двух голосов» [7: 378], маркером которых является частица «дескать», как сигнал чужой речи [7: 382]. Аналогом разговорной частицы «дескать» в греческом тексте выступает глагольная форма «λένε» (говорят). Переводчики предлагают свои варианты: «βλέπετε!» (Александру), букв.: «видите!» – форма настоящего времени действительного залога изъявительного наклонения глагола «βλέπω»; «για φαντάσου» (Патадзис), букв.: «представь» – форма повелительного наклонения глагола «φαντάζομαι»; «θα πω» (Канас), букв.: «скажу» – форма будущего времени действительного залога изъявительного наклонения глагола «λέω». Два первых примера можем считать эквивалентным переводом, в последнем случае – описательный перевод, не отражающий указание на передачу чужой речи.
При переводе междометия «фу», подчеркивающего недовольство героя самим собой, Александру удачно использует звукоподражательное слово «φτου», допуская контекстуальную замену, поскольку эквивалентом выбранной лексемы в русском языке выступает междометие «тьфу». Патадзис применяет междометие «αχ», выражающее, как и в русском языке, возмущение. У Канаса междометие не отражено.
Наблюдается превалирующее успешное воспроизведение стилистики, морфологии, синтаксиса текста и снижение лексической эквивалентности.
Богатая пунктуация русского текста не в полной мере приведена в иноязычных текстах: многоточия (17), вопросы (16), восклицания (25). Многоточия фиксируют эмоционально-философские паузы, отражают внутреннее состояние героя, ставшего на мгновение недвижимым, погруженным в самого себя. «Прием умолчания, недоговоренности, призван активизировать воображение читателя» [15: 14]. Вопросы, звучащие в сознании героя самому себе и окружающим, создают многоголосое повествование. Обилие восклицательных высказываний передает возбуждение героя. Неточное воспроизведение интонации сильно искажает образ героя. Так, Александру передает 24 восклицательных предложения, 15 – вопросительных и лишь 8 многоточий; Патадзис: 21, 13, 5 соответственно; размышления героя в переводе Канаса лишаются превалирующей восклицательной интонации: 11, 15, 9.
Нами была предпринята попытка системно, учитывая различные компоненты языка, рассмотреть особенности «полифонической» речи Раскольникова в передаче на новогреческий язык. Переводчики не в одинаковой степени достигают эквивалентности целевого текста. При достаточно успешной передаче фонетического фона и риторических фигур в трех переводах происходит деформация, в разной степени в каждом переводе, на лексическом, синтаксическом и стилистическом уровнях. Переводы часто уступают первичному тексту, пестрят издержками. Так, ни один вариант вторичного текста представленного отрывка не отражает такую характерную черту стиля писателя, как курсив (трижды встретился в тексте). Следует отметить, что Патадзис только в одном случае заменяет курсив кавычками, пренебрегая тем не менее семантикой. Проблематичным для переводчиков оказывается адекватно передать некоторые яркие лексические единицы речи героя, просодику его высказываний, тем самым образ Раскольникова если не искажается полностью, то существенно упрощается.
Несмотря на существующие недочеты, как показал общий сопоставительный анализ, к адекватному воспроизведению речи героя приближается А. Александру, которому удалось создать близкий оригиналу художественный эффект. А значит, читатели смогут правильного понять живой, сложный и противоречивый характер главного героя. Переводчик в большинстве случаев отражает средствами новогреческого языка скачкообразность, переменчивость повествования, характеризующегося переходом монологической речи в диалог, выразительность синтаксиса (интонация, повторы, отрывочные фразы), лексические и стилистические особенности (соседство разговорной лексики с нейтральной и высокой, изобразительные средства). Перевод С. Патад-зиса в меньшей степени можно считать эквивалентным в силу смягчения основных вербальных характеристик героя, что ведет к частичному искажению образа. Текст же З. Канаса грешит многочисленными неточностями, описательностью и, скорее, может считаться пересказом.
Список литературы Речевой портрет Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" в переводе на новогреческий язык
- Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Русские словари: Языки славянских культур, 2002. Т. 6. 800 с.
- Белоусова А.Е. Речевой портрет через призму теории полифонии М. М. Бахтина//Вестник МГЛУ 2010. Вып. 14 (593). С. 9-14.
- Васильева Т.В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в интерпретации немецких переводчиков: Дис.. канд. филол. наук. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008. 216 с.
- Достоевский: Материалы и исследования. СПб.: Нестор-История, 2013. Т. 20. 658 с.
- Захаров В.Н. Слово и курсив в «Преступлении и наказании»//Русская речь. 1979. № 4. С. 21-27.
- Иванчикова Е.А. Автор и его герой в повествовательной структуре «Преступления и наказания»//Достоевский: Материалы и исследования. СПб.: Наука, 2001. Т. 16. С. 118-125.
- Иванчикова Е.А. О «двуголосых» синтаксических конструкциях в текстах Достоевского//Слово. Грамматика. Текст. М., 2000. С. 377-386.
- Извекова Т.Ф. Некоторые особенности речевой характеристики персонажей в произведениях Ф. М. Достоевского//Мир науки, культуры, образования. 2010. № 4 (23). С. 54-56.
- Йонаш Э.Ч. О новом переводе романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» на венгерский язык//Studia Slavica Savariensia. 2016. 1-2. C. 91-99.
- Лопатюк М.В. Ситуативная модальность в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и в его испаноязычном переводе (функционально-семантический анализ): Дис.. канд. филол. наук. Калининград: Российский ГУ им. И. Канта, 2009. 250 с.
- Матвеева Л.Н. Психологизм произведений Ф. М. Достоевского в переводе на английский язык//Вопросы литературоведения и теории перевода в контексте изучения проблем языкознания. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. С. 171-175.
- Патсис М. Теория и практика перевода. Греческий язык ↔ русский язык. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. 280 с.
- Реди О. Достоевский как русский Диккенс//Русский мир. Информационный портал фонда «Русский мир» . Режим доступа: http://www.russkiymir.ru/publications/86293/(дата обращения 23.06.17).
- Смоленская Е.С. Ф.М. Достоевский глазами немецких и английских переводчиков: вызовы, проблемы, перспективы//Материалы научно-практической интернет-конференции «Человек в информационном пространстве» (15 октября -15 ноября 2014 г.). Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2014 . Режим доступа: http://yspu.org/images/6/67/Smolenskaya%D0%95S.pdf (дата обращения 22.06.2017).
- Уздеева Т.М. Особенности психологизма в повести «Двойник» Ф.М. Достоевского//Рефлексия. 2014. № 4. С. 13-16.
- Харатсидис Э.К. К вопросу перевода русской литературы на греческий язык: история и современность//Русский язык и культура в зеркале перевода. М.: Высшая школа перевода МГУ, 2010. С. 568-573.
- «Храните верность Христу»: интервью с игуменией Софией, настоятельницей Воскресенского Новодевичьего женского монастыря Санкт-Петербурга/Записала Е. Варова//Славянка. 2014. Март -апрель. С. 12-21.
- Broeck Raymond van den. Second Thoughts on Translation Criticism. A Model of its Analytic Function//The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London, Sydney: Croom Helm, 1985. Р 54-62.
- Βασιλειάδης Αριστοτέλης (Ψευδώνυμο: Αλεξάνδρου Άρης)//Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Από το 18ο αιώνα μέχρι το 1935. URL: http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=97 (accessed 22.04.17).
- Καρβέλης Τ. Σωτήρης Πατατζής//Η μεταπολεμική πεζογραφία·Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ‘67Στ'. Αθήνα: Σοκόλης, 1988. Σ. 194-216.
- Κολίτση Φ. Φ. Ντοστογιέφσκι, Έγκλημα και τιμωρία (1866) & Α. Παπαδιαμάντη, Η Φόνισσα (1903): Μια παράλληλη ανάγνωση//Δρώμενα και γράμματα σλαβικού πολιτισμού. Θεσσαλονίκη: Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών και Ρωσικής, 2008. Σ. 22-44.