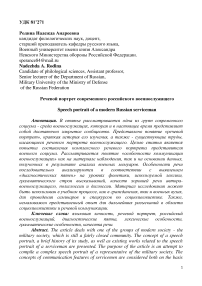Речевой портрет современного российского военнослужащего
Автор: Родина Н.А.
Журнал: НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ/SCIENCES. EDUCATION. ТHE PRESENT.
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается одна из групп современного социума - среда военнослужащих, которая и в настоящее время представляет собой достаточно закрытое сообщество. Представлено понятие «речевой портрет», краткая история его изучения, а также - существующие труды, касающиеся речевого портрета военнослужащего. Целью статьи является попытка составления комплексного речевого портрета представителя военного социума. Рассматривается понятие «особенности коммуникации военнослужащих» как на материале наблюдения, так и на основании данных, полученных в результате анализа военных мемуаров. Особенности речи последовательно анализируются в соответствии с выявлением «диагностических пятен» на уровнях фонетики, используемой лексики, грамматического строя высказываний, качеств хорошей речи автора-военнослужащего, полиглоссии и диглоссии. Материал исследования может быть использован в учебном процессе, как в гражданских, так и военных вузах, для проведения семинаров и спецкурсов по социолингвистике. Также, немаловажен представленный опыт для дальнейших разысканий в области социолингвистики и речевой коммуникации.
Короткий адрес: https://sciup.org/14126227
IDR: 14126227
Текст статьи Речевой портрет современного российского военнослужащего
«Главный путь изучения человека - изучение человеческого языка, а, следовательно, главная из наук о человеке - лингвистика», - справедливо утверждал Н.Н. Вольский. Выступая в качестве хранителя и транслятора культурной традиции, язык также объединяет поколения и народы в коммуникативном пространстве, является показателем идентичности личности.
Следует отметить, что личность представляет собой общественноисторическую категорию и изучается многими общественными науками. Она социально-детерминирована и, решая важные жизненные задачи, формируется и развивается. В течение жизни каждая личность активно включается в социальные структуры общества, в связи с чем, ее взаимоотношения с окружающим миром усложняются.
В отличие от правовой, экономической или этической, языковая личность не является частично-аспектным коррелятом личности вообще. Обобщенно языковую личность можно охарактеризовать следующим образом: это собой уникальный феномен, который неоднозначно понимается различными исследователями, однако все они едины в определении этого феномена как продукта неразрывного рассмотрения языка и личности человека [20].
Языковая личность может репрезентировать одного человека и тогда является индивидуальной, а может представлять какой-либо социум и, в этом случае, являться коллективной. Коллективная языковая личность, несущая в себе признаки этнической групповой принадлежности, получила название этнической языковой личности. Ее коммуникативное поведение определяется нормами и стереотипами, обусловленными обычаями и традициями данной культуры, и образует речевой портрет этнической языковой личности.
Согласно исследованию, проведенному Т.Л. Гурулевой, для коммуникативного поведения русской языковой личности свойственны следующие черты: обсуждение нескольких тем одновременно, переключение с одного собеседника на другого, перебивание говорящего и вступление в разговор в середине фразы, помощь формулировать говорящему мысли или высказывать свое мнение. Также, часто присутствуют жалобы на судьбу, несмотря на необязательность следования за ними просьбы о помощи или совете. При этом индивидуальные реплики могут иметь большую продолжительность и эмоциональную окраску (в случае совета, упрека, насмешки и т.п.). Коммуницируя, россияне категоричны, прямолинейны, эмоциональны, искренны, ориентируются на традиции, историю, родственные связи, говорят то, что думают, активно отстаивают свою точку зрения, не признают формальных комплиментов, воспринимают деловое общение как личное. В речи характерно использование побудительных предложений, носящих характер жесткого предписания (помимо отношений «руководитель -подчиненный»). Кроме того, в русском фразеологическом массиве отражены основные черты национального характера, такие, как: всепрощение и человечность, сочувствие и отзывчивость, самокритичность и терпение, трудолюбие и сила воли, мужество, смелость и стойкость, свободолюбие, религиозность, служения идеалам добра и справедливости, обостренное чувство долга. В целом же, поскольку русские достаточно вдумчивы, их общению свойственна ориентация на содержание, а не на форму[7].
Обратимся к краткой истории изучения речевого портрета. Первые описания его звуковой составляющей появились еще в 60-е годы XX столетия в работах Е.Д. Поливанова. Попытку подробного описания, в том числе и фонетической составляющей речевого портрета, осуществили в своей работе М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова. Вопросы речевого портретирования рассматривались в работах Т.Г. Винокур, Т.И. Земской, Т.М. Николаевой, Л.П. Крысина и др. Набольший интерес исследователей это направление вызвало в восьмидесятые - девяностые годы XX века. М.В. Панов исследовал в первую очередь фонетические особенности речи разных людей, Е.А. Земская - речевой портрет ребенка 2–6 лет, И.В. Голубева восстанавливала речевой портрет личности на материале экспрессивного синтаксиса мемуарной прозы, Т.И. Ерофеева описывала речевой портрет говорящего, К.Ф. Седов представил речевые портреты конкретных языковых личностей с учётом социально -психологических параметров, профессии, речевых жанров, информативного общения, речевой фатики и некоторых других критериев. В рамках лингвистики того времени, было сформулировано важное положение о том, что в речевом портрете человека отражается его принадлежность к социальным общностям [16, 24].
Попытки создания речевого портрета личности применимы к любой из известных сфер общения. Современные исследования речевых портретов затрагивают коммуникативное поведение языковых личностей разной социальной и этнической принадлежности [1; 4; 5; 8; 17; 18; 19; 26], а также -их сопоставительный анализ: русской языковой личности [11; 21], английской и русской языковых личностей [12], носителей англоязычных и российской культур [9] и др.
Исходя из упомянутых работ, можно утверждать, что понимание речевого портрета осуществляется, как в узком смысле, так и в широком: особенности речи конкретного носителя языка формируют индивидуальный речевой портрет, а особенности речи представителей какой-либо социальной группы -групповой.
В целом же, анализ современной научной литературы позволяет сформировать следующее определение понятия речевого портрета: средство общения, передачи информации от человека к человеку, по сути дела, специфическая форма взаимодействия людей в процессах их деятельности, осуществляющаяся, главным образом, при помощи языка.
Как уже было сказано, теория социально-речевого портрета носителя языка особенно активно начала развиваться в конце ХХ в., однако принципы создания и описания речевого портрета в лингвистике были впервые даны в обобщенном виде Т.М. Николаевой в статье «”Социолингвистический портрет” и методы его описания». Исследователь указала на ущербность эксплицитного подхода, при котором многие языковые парадигмы не представляют уникальность портретируемого, поскольку «оказываются вполне соответствующими общенормативным параметрам» и рекомендовала «фиксировать яркие диагносцирующие пятна». Метафорическое терминологическое словосочетание «диагносцирующие пятна» сегодня является центральным понятием в методологии создания индивидуальных и коллективных речевых портретов [2].
Продолжая идею уникальности Т.М. Николаевой, другой подход, необходимый для создания речевого портрета, ввел Л.П. Крысин. По его мнению, составными частями речевого портрета выступают фонетические особенности, специфика набора языковых единиц, а также - речевое поведение и языковая игра. Поскольку в речевом портрете человека отражается его принадлежность к социальным общностям, Л.П. Крысин описывает одновременное вхождение человека в структуры нескольких социальных общностей как его полиглоссность. Это понятие лингвист применяет к анализу речевого поведения человека малых социальных групп. Помимо полиглоссности, представителям этих же групп также присуща диглоссия, «проявляющаяся в том, что при внутригрупповом общении они используют одни языковые средства, привержены одной манере речевого поведения (в предельном случае это может быть особый групповой жаргон), а при общении вне группы переключаются на иные, общеупотребительные коммуникативные средства» [13, с. 483].
Согласно замечанию Б.Л. Бойко, речевой портрет социальной группы, ее представителя или социальной среды возможно создать несколькими методами. Первый - анализ и обобщение материала, содержащегося в научных источниках.
Необходимо отметить, что первые попытки создания речевого портрета военнослужащего относятся к 2008 году и базировались на анализе дневниковых записей [3]. Далее, в 2014 году при рассмотрении солдатской переписки [14]. В 2016–2018 годах была проанализирована эмоциональная составляющая речевого портрета военнослужащего [15], описаны речевой портрет командира и курсанта военного вуза [10; 22; 23; 24]. Несмотря на фрагментированность работ, исследователи приблизительно едины в своих выводах, касающихся особенностей портретирования языковой личности военнослужащего. Так, например, Б.Л. Бойко в своей статье обращает внимание на разнообразие лексических средств (терминов, профессионализмов и жаргонизмов) в речи военных моряков и летчиков, десантников, танкистов, мотострелков, причем, часть этих средств используется носителями для самоидентификации, дополняя невербальные идентификаторы [3].
Следующий метод - анализ и обобщение материала, собранного непосредственно лингвистом методом наблюдения.
В результате многолетнего наблюдения, нами была отмечена такая характерная черта коммуникации военнослужащих, как нарушение орфоэпических норм русского языка. Примером могут быть типичные ошибки в постановке ударения: средства́ (вместо «сре́дства»), до́суг (вместо «досу́г»), облегчить (вместо «облегчить»).
Третий метод представляет собой анализ и обобщение материала, содержащегося в текстах деловой прозы, мемуарной и художественной литературы. Поскольку мемуары являются своеобразной письменной формой речи представителя того или иного социума, их справедливо можно считать надежным источником для создания речевого портрета.
Используя намеченную методологию, рассмотрим публикацию воспоминаний Алексея Гавриловича Ходакова - настоящего русского офицера, прошедшего путь от матроса до генерал-майора.
Значение мемуаров невозможно переоценить для дополнения языковой картины мира представителя военного социума, поскольку, как отмечает сам А.Г. Ходаков, он описывает множество деталей военной жизни, которые «помогают лучше понять атмосферу жизни и деятельности коллектива полка, взаимоотношений людей» [25, с. 111]. В главах своей книги автор воссоздает картины многих прожитых периодов своего профессионального становления, ситуации общения с сослуживцами. Содержание мемуаров и письменная речь автора демонстрируют хорошее владение им нормами русского литературного языка. Благодаря подобной форме фиксации прямой речи, становится возможным оценить академическое образование и интеллигентность автора. В данном случае, мы констатируем полное соответствие языковой личности генерала требованиям русской культурно-языковой личности.
При анализе речевого портрета на языковом уровне следует рассмотреть лексику, используемую военнослужащим, особенности грамматического строя высказываний, а также стилистические предпочтения.
Прежде всего, отметим, что неотъемлемой частью записей являются и лексические единицы, характеризующие устно-речевой обмен информацией с подчиненными в процессе управления войсками. Военные термины перемежаются с профессионализмами и жаргонизмами, что помогает экономить время устного общения специалистов. Следует отметить, что широко использующиеся в мемуарах военные жаргонизмы представляют собой наиболее яркую по своей образности составную часть языка военной субкультуры, усвоенную всеми ее представителями.
К наиболее ярким «диагносцирующим пятнам» в речевом портрете военного специалиста можно отнести часть экспрессивной жаргонной и профессиональной лексики.
К военным терминам, постоянно используемым в записях, относится разнообразная лексика.
Во-первых, это терминосистема, обозначающая широкий спектр общевоенных понятий: должности и звания (начальник, старшина, лейтенант, сержант, ефрейтор), тактические термины (боевой расчет, огонь, окоп, траншея, отделение, вводная (задача), блиндаж, заслон, дислоцироваться, захватить языка).
Во-вторых, их дополняет специальная лексика военно-политического характера, например: провокация, агрессия, сопредельная сторона, резервный взвод, усиление, связной, материально-техническая база, моральнопсихологический настрой. В совокупности, их умелое применение характеризуют автора как высококлассного специалиста соответствующей области науки и практики.
Также, к специфике разговорной лексики в военных мемуарах следует отнести широкое применение различных сокращений. Приведем примеры, наиболее частотные в записях автора: ЧП (чрезвычайное происшествие), доппаёк (паёк, выдаваемый дополнительно к основному), погранотряд (пограничный отряд), укрепрайон (укрепленный район), вещмешок (вещевой мешок), политчасть (политическая часть), замполит (заместитель по политической работе), арттех (артиллерийско-техническое) вооружение, помкомвзвода (помощник командира взвода). Несмотря на длину слов, их семантизация не представляет особых трудностей не только для военнослужащих, но и для любого взрослого носителя русского языка, поскольку в процессе словообразования были использованы наиболее значимые части дериватов.
Терминологическая лексика дополняется разговорной, которая является общей для специалиста и неспециалиста. Например: стоять навытяжку - стоять по-военному прямо; сыпануть - открыть огонь («Сейчас по нам сыпанет !» [25, с. 81]); канцелярская крыса - военнослужащий, занимающийся преимущественно офисной работой («<...> не для того тебя в Военно -политическую академию имени Владимира Ильича Ленина рекомендовали, чтобы вышла оттуда канцелярская крыса» [25, с.113]); нашпиговать -наполнить чем-либо (« Нашпигованный инструкциями Близнюка, я с волнением переступил кабинет начальника политотдела...» [25, с. 123]) и др.
Наряду с прочими единицами военного жаргона, обращают на себя внимание наименования военнослужащих войск по их принадлежности к различным силовым ведомствам и дериваты этих обозначений. Яркими примерами являются «вохровцы» - вневедомственная охрана (« вохровская » система) и «армейцы» («Пусть не обессудят меня армейцы , но я глубоко убежден, что главная ее черта - прежде всего, нацеленность на человека» [25, с. 196]).
В результате смешения стилей и клишированности речи, использование профессионализмов в разных ситуациях общения также является неотъемлемой чертой речевого портрета русского военнослужащего. Так, например, автор для характеристики вместо наречия «технически» выбирает словосочетание прилагательного с существительным: «<…> объект оказался не подготовлен в инженерно-техническом отношении» [25, с. 197].
Большую роль в описании лексической составляющей языкового уровня речевого портрета военнослужащего является огромный пласт фразеологической лексики, активно применяющийся в коммуникации. Приведем несколько примеров. Так, например, как альтернативу словосочетанию «быть в курсе ситуации» автор мемуаров использует поговорку «держать руку на пульсе»: «Сначала Александр Кузьмич со мной по два-три раза в неделю встречался, как говорится, держал руку на пульс е, был в курсе всего, чем я занимаюсь, по мере своего взросления эти встречи стали реже, но зато и разговор уже строился по более высоким алгоритмам» [25, с. 6263]. Вместо нейтрального «быть в ведении, в работе у кого-либо» он выбирает «пройти через руки кого-либо»: «В части практически каждый солдат прошел через его руки» [25, с. 79]. В воспоминаниях автора присутствует и известный эквивалент «учить кого-то жизни, давать наставления, вразумлять» - «учить уму-разуму», который помогает понять основательность подхода в обучении, настойчивость, упор на формирование критического мышления: «Так учил меня уму-разуму мой командир» [25, с. 120]. Разговорный фразеологизм «скрепя сердце», обозначающий «с неохотой», также находит отражение в коммуникации военнослужащего, поскольку человеку действия нередко приходится принимать решения против своей воли: « Скрепя сердце пришлось согласиться» [25, с. 166]. Также, необходимо заметить, что иногда в одном предложении встречается использование нескольких фразеологических оборотов. Например: «У нас же поначалу идет игра в молчанку , а вот кода уже скрывать нельзя и становится понятным, что шила в мешке не утаишь , выдается на свет божий информация» [25, с. 149].
По нашему мнению, такое выборочное применение фразеологизмов вместо лексики в прямом значении ндивидуализирует речь автора, способствует передаче личного отношения к описываемым событиям.
Отмеченные индивидуальные черты в речевом портрете военнослужащего, выраженные средствами книжной и разговорной речи, в полной мере отвечают принципу отражения общего в единичном.
Как уже было отмечено ранее, помимо «диагностических пятен», отличительностью речевого портрета является реализация языковой игры. В мемуарах они представлены в использовании вторичных именований. Так, например, варьируется использование антропонимов: сослуживцев автор преимущественно упоминает в различных комбинациях «имя+ отчество + фамилия», а жену и детей - по именам в деминутивной форме (ср.: Алексей Федосеевич Ватченко - Галочка, Валера, Саша). Это свидетельствует о желании соблюсти элемент протокольности в описании служебной деятельности и неформальности - в быту. Помимо антропонимов, в речи военнослужащего присутствуют топонимы - названия географических объектов. Так, Застава имени А.К. Константинова, В.Ф. Михалькова и И.Д. Бузыцкова в мемуарах называется Заставой Трёх Героев, а объект-100, охраняемый 1-й комендатурой, - Соткой. Также используются и традиционные неофициальные хрематонимы: старый пулемёт, стоявший на вооружении отечественных сил, именуется Максимом (по фамилии оружейника Максима), вражеский пистолет-пулемёт MP 40 - Шмайсером (по фамилии оружейника Шмайсера).
Также, необходимо отметить особую форму реализации языковой игры -использование лексики в переносном значении в юмористических целях. Например, автор называет наградные колодки и ордена иконостасом, намекая на сходство в размещении и духовную ценность для офицера «Ты, наверное, обратил внимание на иконостас отца» [25, с. 145].
Переходя к описанию грамматических особенностей речевого портрета российского военнослужащего, отметим, что автор в полной мере, на высоком уровне владеет русским языком и не допускает ошибок при построении высказываний. Выявить какие-либо предпочтения нам также не удалось, поскольку используется весь спектр морфологических единиц и синтаксических конструкций.
Например, к односоставным предложениям можно отнести «Овладевали теоретическими знаниями, учились у старших» [25, с. 142], «Вскакиваю, чтобы представиться» [25, с. 254]; к эллиптическим - «Никаких эксцессов» [25, с. 135], «Пора и к себе в вагон» [25, с. 129].
В монологических фрагментах мемуаров, независимо от типа, чаще используются сложные предложения. Например, сложноподчиненное предложение с союзной связью: «А с дистанции я не сойду, можете не сомневаться, ибо у меня иммунитет давно выработался, когда трудно, в груди второе дыхание открывается» [25, с. 60]. Несколько реже, но активно применяются бессоюзные сложные предложения: «Я сразу понял -сработаемся» [25, с. 176], «Дежурный, коренастый полковник, в кителе и офицерском снаряжении с пистолетом на боку, вежливо попросил нас подождать: командующий говорит по “Кремлевке”» [25, с. 239].
Автор старается максимально эффективно донести до читателя временные, условные и причинно-следственные отношения между различными действиями, поэтому в записях нередко, помимо придаточных предложений в сложных, используются причастные и деепричастные обороты. К наиболее ярким примерам отнесем следующие: « Попив чаю, сходил в соседний вагон, где быстро нашел полковника Жидика, который тоже чаевничал вместе со своим соседом, случайно встретившимся знакомым, главным инженером какого-то завода в Донецке» [25, с. 128], «Я помню, как он прошлый раз возмущался при виде стендов с фигурками солдат, занимающихся строевой подготовкой» [25, с. 202].
Анализируя стилистические особенности речевого портрета российского военнослужащего, отметим взаимовлияние официально-делового и разговорного стилей. Являясь командиром, ответственным за выполнение задачи, поставленной перед его подразделением, в общении с подчиненными автор использует язык военных уставов. Помимо терминологической лексики, это отражается и в синтаксическом членении высказываний, которые зачастую приобретают «списочность», свойственную официально-деловому стилю речи. Например,
«Службу надо было нести через день, то есть 14 раз в месяц, а для этого надо:
-
- быть на инструктаже;
-
- вместе с караулом быть на разводе;
-
- после смены караула прибыть в часть, доложить о том, как прошла служба;
-
- проследить, чтобы была организована чистка оружия, и многие другие заботы;
-
- предъявить командиру роты для утверждения конспекты для завтрашних занятий» [25, с. 58].
В неформальной обстановке с товарищами по службе он беседует как равный, применяя разнообразные языковые конструкции, не всегда коррелирующие с военным подстилем официально-делового стиля речи. Так, в мемуарах частотны неполные предложения. Например: «У меня полк тоже большой - около четырех тысяч ( человек ) личного состава» [25, с. 250]; «Они все время ( находятся ) в напряжении, в любую минуту должны быть готовы применить оружие» [25, с. 274].
Далее, необходимо провести портретирование на втором уровне -речевом. Среди различных подходов к оценке речи (в частности, её эффективности) наиболее продуктивным представляется подход, предусматривающий анализ степени соответствия речи условиям общения и коммуникативным задачам речевых партнёров, то есть коммуникативной целесообразности. Именно такой подход может осуществляться при оценке речи с позиций коммуникативных качеств речи - термина Б.Н. Головина, введённого им в 1976 году в работе «Основы культуры речи». По определению учёного, «коммуникативные качества речи - это реальные свойства её содержательной или формальной стороны. Именно система этих свойств определяет степень коммуникативного совершенства речи» [6]. Коммуникативная ситуация и её составляющие тесно связаны с коммуникативными качествами речи - параметрами, охватывающими все аспекты текста.
С целью выявления речевых особенностей представителя военного социума, необходимо определить соответствие речи автора мемуаров этим основным критериям: точности, логичности, чистоты, уместности, богатства и выразительности.
Точность - это такое коммуникативное качество речи, которое проявляется в использовании слов в полном соответствии с их языковыми значениями. Автор мемуаров умело оперирует не только различными терминами, но и в неслужебном общении не допускает ошибок в словоупотреблении. Приведем пример: «В политотделе была жесткая дисциплина, и конфиденциальность строго соблюдалась» [25, с. 126], «Вот каковыми были вехи моего пути» [25, с. 142], «Работа с кадрами требует индивидуального подхода к человеку, без этого любой руководитель обречен на кулуарный стиль, на отрыв от людей» [25, с. 288].
Логичность - одно из коммуникативных качеств речи, характеризующих соотношение речи и мышления, соответствие общего логического строения текста замыслу автора. Логичность связана с точностью, но, вместе с тем, чётко отличается от неё. Точность является предварительным условием логичности. Неточная логичность не может быть логичной. Логичной считается речь, в которой ясно и правильно выражена связь слов в предложении и связь определённых высказываний в тексте. Логичность речи обусловлена логикой познания. Для соблюдения логичности важно умение логически мыслить и правильно строить высказывание. Речь автора военных мемуаров вполне соответствует данному требованию. Замысел в его высказываниях всегда ясен, даже при учете частых отступлений. Например: «Кумиром для всех офицеров, в том числе и для меня, был командир третьей комендатуры майор Егор Васильевич Попков. Позже он стал начальником штаба полка, получил звание подполковника. Мы с ним не раз встречались в неофициальной обстановке, в том числе и у него дома. Это был человек с богатой и открытой душой, с требовательным, даже жестким характером, но, что удивительно, его твердость не пугала, не отталкивала младших офицеров, а наоборот, она их притягивала, влекла к себе, сплачивала, потому что жесткость Егора Васильевича была обоснованной и всегда справедливой» [25, с. 306].
Еще одним важным критерием является чистота, регулирующая отсутствие в речи слов, выходящих за пределы литературной нормы, лишних слов. К нежелательным элементам в хорошей речи относят диалектизмы, варваризмы, жаргонизмы, вульгаризмы, слова-паразиты.
Следует отметить, что военный жаргон - неотъемлемая часть жизни военнослужащего. Это исторический, социальный опыт людей, закрепляющийся в определенной среде. Но, вместе с тем, военнослужащий является специалистом, ведущим профессиональную деятельность. Поэтому для него особую значимость приобретает профессионально-деловая компетенция и социально-коммуникативная, которая предполагает умение офицера посредством знания языка, военного и светского этикета, предметных и социокультурных знаний организовать и оптимизировать общение как в сфере профессионально-делового взаимодействия, так и за его пределами, базируясь на анализе компонентов речевой ситуации.
В мемуарах мы не нашли лексики, которая могла бы характеризовать речь автора как «нечистую»: нет ни ненормативной лексики, ни диалектизмов, ни посторонних жаргонизмов. Доля лексики, выходящей за пределы литературной нормы, представляется нам ничтожно малой, чтобы негативно характеризовать речь военнослужащего с точки зрения соответствия данному критерию.
Уместность - это такое коммуникативное качество речи, которое характеризуется соответствием речи целям и ситуации общения. В речи военнослужащего она проявляется, в том числе в использовании элементов разговорного стиля речи преимущественно в неформальной коммуникации. Так, например, в быту автор позволяет себе высказывания, содержащие просторечные выражения: « Чертовски устал сегодня» [25, с. 188], «А меня уже пот прошиб от этакой неожиданности» [25, с. 201], «А некоторые офицеры не вылезали из подразделений месяцами, переезжая из одного гарнизона в другой» [25, с. 275].
Богатство и выразительность являются важными качествами речи, создающими ее эмоциональную окраску. Богатство - это коммуникативное качество речи, характеризующееся большим словарным запасом говорящего и разнообразием используемых им конструкций. Выразительность речи помогает привлечь и поддержать внимание и интерес слушателя или читателя.
В мемуарах демонстрируется умение автора пользоваться обширным словарем и синонимическими возможностями языка, многообразием синтаксических конструкций для передачи своих мыслей, тропами и стилистическим фигурами. Так, например, вместо нейтрального «тщательно» автор выбирает книжное «скрупулезно»: «Иван Дмитриевич был бессменным начальником учебного центра и скрупулезно готовил к служебно-боевой деятельности молодое пополнение» [25, с. 79]; вместо «очень» - «весьма»: «Я не ожидал, что решение вводных задач позднее будет высоко оценено командованием войск, хотя я отчетливо понимал, что решали мы их весьма и весьма посредственно, было много накладок» [25, с. 163]. Общеупотребительному «изменению» военнослужащий предпочел «метаморфозу»: «Я <…> поражался метаморфозе , произошедшей на моих глазах [25, с. 137].
Приведем пример типичного сравнения: «Но такой уж у моего нового командира был характер - не искал он тихой заводи в жизни, и оттого его служба рядом с полковым плацем стала подобна бурлящему кратеру » [25, c. 116]. Скрытые сравнения - метафоры - содержатся в таких предложениях, как «Лейтенант вскоре растворился в чернильной темноте кустов» [25, с. 80], «Начинается новая боевая жизнь - охота на двуногих зверей , фашистов» [25, с. 194]. Автор сравнивает очень темный цвет кустов с чернилами, а жестоких фашистов - со зверями, и это добавляет к речевому портрету элементы творчества.
Полиглоссия мемуарных записей генерала проявляется в использовании им пластов лексики, относящихся к литературному языку и его специальным разделам - военному делу, военно-политической работе в целом и ее организации в войсках. В первом случае это - общая лексика литературного языка, во втором - терминологическая. Диглоссия языковой личности автора выражена в использовании им литературной и разговорной лексики и обусловлена его принадлежностью одновременно к формальным и неформальным социальным структурам. Военной лексике, относящейся к литературному книжному стилю речи, в записях автора противопоставлены разговорная лексика и фразеология - профессионализмы и единицы общего военного жаргона.
В результате проведенного исследования, нам представляется возможным сделать следующие выводы.
Понятия «языковая личность» и «речевой портрет» являются одними из самых востребованных в современной лингвистической науке. Каждое из них вызывает среди исследователей споры, касающиеся содержательного наполнения терминов, типологий, структуры.
Знание специфических характеристик коммуникативного поведения языковых личностей разной этнической принадлежности помогает распознавать эти особенности в процессе межкультурного общения, понимать их и правильно интерпретировать, адекватно реагировать на них и использовать эти особенности. Так, основными чертами коммуникативного поведения русской языковой личности являются такие, как открытость, общительность, легкость в установлении контакта, эмоциональность, категоричность, некоторая конфликтность, эгоцентричная модальность, прямолинейность, искренность и др.
При анализе особенностей речевых реализаций языковой личности в дискурсе принято говорить о речевом портрете как компоненте ее структуры.
Проблема речевого портретирования вызывает научный интерес в отечественной лингвистике уже более 50 лет. На сегодняшний день при описании речевого портрета анализируются:
-
1) особенности набора языковых единиц (фонетика, лексика, синтаксис) и отклонения от норм русского литературного языка (если мы говорим о формирующейся ЯЛ);
-
2) особенности речевого поведения (формулы общения, прецедентные феномены и языковая игра).
При этом принципы анализа опираются также на «диагностирующие пятна», полиглоссность и диглоссноть речевого портрета.
Речевой портрет. Языковая личность российского военнослужащего представляется на данный момент недостаточно изученным, что дает возможность всестороннего его рассмотрения.
В качестве материала для портретирования речи военнослужащего приемлемыми считаются как анализ существующих научных трудов, так и результаты наблюдений, а также, рассмотрение письменной речи в виде различных записей, в том числе мемуарных.
На языковом уровне, в речевом портрете в качестве «диагностирующих пятен» следует назвать обширный пласт профессиональной лексики, подразделяющейся на терминологическую и жаргонную, а также, обилие фразеологических оборотов, с помощью которых военнослужащий передает мысль, ориентируясь на знание собеседником национальных крылатых выражений.
Коммуникативная деятельность представителя военного социума имеет свои особенности, обусловленные спецификой военно-профессиональной деятельности, но военнослужащий должен быть готов к речевому взаимодействию и в условиях гражданского общества, где нормы общения регулируются языковыми, социальными нормами. Следовательно, чтобы производить хорошее впечатление, добиться успеха в делах, необходимо знать особенности функционирования языка в обществе, а также нормы, свойственные каждой разновидности языка. Анализ речевого портрета на речевом уровне показал, что российский военнослужащий в любом социуме во всех коммуникативных ситуациях являет собой обладателя хорошей речи, о чем свидетельствуют ее точность, логичность, чистота, уместность, богатство и выразительность.
Полиглоссность в речи военнослужащего проявляется в различных ситуациях общения и обусловлена употреблением лексики следующих групп: военные термины, профессионализмы, жаргонизмы, глагольно-именные идиоматические словосочетания, а также разнообразные фразеологизмы. Диглоссность портрета языковой личности российского военнослужащего как представителя этнического российского социума и профессионального военного позволяет его речи обслуживаться средствами как книжных, так и разговорного стилей речи. Однако при этом необходимо понимать, что военная терминология, военные профессионализмы и жаргонизмы составляют характерные признаки, типизирующие черты обобщенного речевого портрета представителя военного социума, в то время, как речевой портрет конкретного военнослужащего имеет специфические черты, обусловленные его уровнем образования и специальностью, местом службы и прочими факторами.