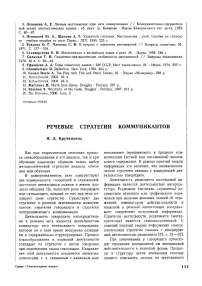Речевые стратегии коммуникантов
Автор: Кручинкина Н.Д.
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Проблемы лингвистики
Статья в выпуске: 3, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14719022
IDR: 14719022
Текст статьи Речевые стратегии коммуникантов
[ Как при теоретическом описании процес-! са знакообразования и его анализе, так и при ■ обучении языковому общению важен выбор : методологической стратегии анализа, описания или обучения.
В коммуникативном акте присутствуют два коммуниканта: говорящий и слушающий, постоянно меняющихся ролями в живом процессе общения. Но, выполняя роль говорящего или слущающего, каждый из них при этом реализует свою стратегию. Существуют две стратегии в речевой деятельности коммуникантов: стратегия говорящего и стратегия воспринимающего коммуникацию.
Деятельность говорящего непосредственно в речевом акте является деятельностью j номинатора того внеязыкового содержания, которое он в свое время воспринял сознанием и содержательно структурировал. Процесс знакообразования в языковой деятельности совпадает по стратегии с актом говорения при порождении языка говорящим. Направление этой деятельности называется ономасиологическим, т. е. связанным с языковым наи менованием передаваемого в процессе коммуникации (устной или письменной) внеязы-кового содержания. В рамках понятии теории информации это означает, что ономасиологическая стратегия связана с кодирующей деятельностью говорящего.
Деятельность реципиента получаемой информации является деятельностью интерпретатора. Реципиент (читатель, слушатель) посредством звукового или графического выражения при наличии фоновых знаний об отраженной номинатором действительности и языковой и речевой компетенции воспринимает содержание полученной информации. Стратегия деятельности реципиента (интерпретатора) является семасиологической. С позиций понятий теории информации семасиологическая стратегия связана с декодирующей деятельностью реципиента [23, с. 31—32].
При означивании у говорящего происходит отражение воспринятой им внеязыковой действительности в знаковой форме. Процессы и структуру актов номинации поэтому принято описывать, исходя из трехчленного отношения («семиотического треугольника») реалия — понятие — имя. При интерпретации слушающим означенного говорящим содержания эта последовательность трехчленного процесса конвертируется: деятельность осмысления произведенной говорящим означенной информации происходит в направлении имя — понятие — реалия.
Стратегия деятельности слушающего, реципиента (интерпретанта) по ориентации самого процесса декодирования и интерпретации воспринятого знака противоположна направлению деятельности номинатора. Когда реципиент воспринимает, т. е. интерпретирует (осмысливает, декодирует) переданную номинатором информацию, его языковая деятельность восприятия (декодирования значе-■ ния знака) направлена от восприятия означающего знака к закрепленному за этим знаком содержанию. Означаемое может быть им адекватно интерпретировано лишь при восхождении (референции) как к моменту истины, к денотату, который в этом восхождении интерпретанта является для него референтом — той содержательной объективной сущностью, к которой обращаются как к последней инстанции.
Ономасиологическая стратегия представляется весьма перспективной в обучении языку и активному общению на иностранном языке. Мы видим актуальность развития ономасиологических исследований и для дальнейшего развития ономасиологии не только в теоретическом, но и в прикладном плане. Полученные результаты могут дать теоретическое обоснование для когнитивной лингвистики, лингводидактики и методики преподавания языков.
Ономасиологическая стратегия актуальна при рассмотрении языка как деятельности (langage), когда активно исследуется динамическая, порождающая сторона языка, о которой говорил еще В. Гумбольдт, затем Ф. Соссюр, а позднее и Н. Хомский.
Ономасиологическая стратегия знакообра-зования вполне справедливо отождествляется с функциональным подходом к категоризации языковых знаков и их категориальной интерпретации [3, с 6, 12—15; 9, с. 13—15]. Справедливость подобной идентификации состоит в том, что, хотя термин функциональный значительно шире термина ономасиоло*
гический, они оба имеют общие семы и общие тенденции описания. И при ономасиологической, и при функциональной ориентациях в исследовании избирается динамический путь от содержания к форме [11, с. 336]: от денотата к сигнификату, и от него к языковому : имени денотата.
Семасиологическая стратегия описания языковых явлений долгое время была наиболее используемой. Традиционные исследования и описания значимых единиц языка проводились в основном в семасиологическом направлении: от формы к содержанию. Семасиологическая стратегия реализовалась в отечественной лингвистике XX в. и в первых системных описаниях семантики предложения.
Такая стратегия исследования и описания была свойственна структурной лингвистике. Семасиологический подход к описанию знаков является наиболее традиционным, так как наиболее характерным способом описания языка был считавшийся наиболее объективным формальный способ с конечным набором формантов. Его широкое использование объясняется и особенностями развития лингвистических описаний в постсоссюрианский период.
В В. Богданов достаточно категорично j высказывается о недостатках такого подхода ■ при работе с языковыми единицами высшего : уровня: «Моделиоование семантики ппедло- 1 жения на базе его структурной схемы оказывается во многих отношениях малоудачной > попыткой и не приводит к получению удовлетворительных результатов» [1, с. 182].
Справедливости ради надо все же заме- ■ тить, что семасиологическая стратегия описания языковых явлений принесла немало открытий на фонологическом и морфологическом уровнях. Такое направление исследований и описаний позволяло наиболее легким путем — от доступных для наблюдения языковых форм к заключенному в них содержанию — проводить классификации этих наблюдаемых форм, составлять системные грамматики разных языков, формировать языковую компетенцию [19, с. 101].
При обнаружении недостатков узкого, i внутриязыкового подхода «в самом себе и для себя» весьма востребованной оказывается ■ ономасиологическая стратегия исследования ; семантики не только предложения, но и слова ;
[8; 13], Г. А. Климов, ссылаясь на авторитетное мнение А. Е. Кибрика, отмечает продук-I тивность и перспективность даже сопостави-! тельных исследований в направлении от зна-[ чения к форме [6, с. 14].
Оба названия стратегий речевой деятель-| ности участников коммуникативного акта по । своей языковой мотивированности совпадают со значением конечной цели деятельности. Ономасиологическая стратегия указывает на означивающую (номинативную) деятельность, а семасиологическая — на семантическую (осмысливание, понимание означенного содержания) цель деятельности.
Наши разыскания показывают, что две про-i тивоположно ориентированные стратегии при исследовании и описании содержательной стороны языка, а значит и знака, получают, с одной стороны, у разных лингвистов разные названия, с другой — употребляемые ими общеизвестные термины получают разные толкования или приобретают разную значимость и другую внутреннюю форму.
Так, В. В. Богданов ономасиологическую стратегию называет онтологоцентрической, а семасиологическую — синтактикоцентричес-кой. Давая названия разным стратегиям, он исходит в мотивации терминов не из конечной цели процесса, а из его начальной, стартовой позиции. Поэтому лингвист ономасиоло- ГИЧССКОИ СТрйТвГИИ ДйСТ ИпОС МОТИВИрОВйН- ное название: он называет ее онтологоцент-рической [1, с. 163—167]. В его интерпретации при онтологоцентрическом подходе отправной точкой отношения реалия — понятие — имя признается «онтология, т. е. отражаемая языком экстралингвистическая действительность» [1, с. 163]. Семасиологической стратегии В. В. Богданов дает название син-тактикоцентрической [1, с. 163, 181—182], так I как отправная точка этой стратегии — рече-; вая синтагматика высказывания в ее синтак-; тическом представлении. Ярким проявлени-1 ем использования синтактикоцентрического подхода В. В. Богданов считает теорию структурных схем предложения Н. Ю. Шведовой. Такая направленность анализа в опреде-: ленных чертах совпадает и со способом сис-| темного описания семантики предложения I О. И. Москальской.
Если онтологоцентрическая стратегия ха-; рактеризует иерархическую поэтапность ре- чепорождения, то синтактикоцентриче-ская стратегия характеризует языковую стадию поэтапности речевосприятия — языковую интерпретацию смысла языкового знака (декодирование смысла).
-
А. Рей, говоря о разных подходах к описанию, означаемых в лексической семантике, также выделяет традиционный семасиологический аспект. Одновременно он говорит о важности учета и ономасиологического аспекта семантики. Однако, отмечая область описания ономасиологической семантики (semantique onomasiologique), он вместе с тем отграничивает ее от семантики означивания (semantique de la designation),хотя и не дает четкого разграничения одной и другой разновидностей стратегии порождения языка, а лишь делает отдельные ремарки по этому поводу. В частности, он считает, что семантика означивания ориентирована на знание мира и противится систематизации, за исключением области терминологии, где речь идет как о конструировании, так и об открытости [26]. Видимо, в его понимании ономасиологическая семантика имеет дело с определенной языковой регламентацией и систематизацией процесса лексического обозначения денотатов и с немотивированной номинацией, а семантика означивания — с творческим процессом номинативной деятельности (мотивированная номинация).
-
В. М. Павлов, выделяя пути представления языкового означаемого, ономасиологический подход определяет как функционально-семантический, противопоставляя его семасиологическому, который он характеризует как морфологоцентрический [14, с. 3—14].
Как при выборе ономасиологической стратегии описания языковых знаков, так и при функциональном подходе к их анализу осуществляется интегративный, межуровневый принцип отбора компонентов функциональносемантических парадигм. При функциональном подходе к использованию и категориальной оценке языковых знаков разной природы принимается во внимание инвентарь языковых средств независимо от их принадлежности к тому или иному языковому уровню (морфологическому, синтаксическому или лексическому), так как точкой отсчета служит типовое, категориальное содержание языковых знаков. По мнению А. В. Бондарко, вся специфика функциональной лингвистики, во всей полноте ее признаков проявляется в подходе «от семантики к грамматике» [2, с. 15]. Однако подход «от семантики» в интерпретации А. В. Бондарко заключает в себе предваряющее знание результатов традиционного описания «от формы». В обоих случаях речь идет о кодирующей функции языка и системы языковых знаков конкретного языка. Поэтому важно отметить, что наиболее эффективные результаты исследования воз-|можны при предварительном использовании данных семасиологических исследований.
Если в коммуникативном акте выбор ее участниками ономасиологической или семасиологической стратегии строго закономерен и зависит от участия в акте коммуникации номинатора или реципиента, то при анализе, описании или моделировании языковых и речевых явлений лингвист имеет альтернативу в выборе того или иного подхода к анализу, описанию или моделированию в зависимости от методологических установок исследования, его целей и задач. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» выделение ономасиологического или семасиологического подходов к описанию или исследованию языка как знаковой системы или проблем номинации связывается с зависимостью выбора того или иного подхода от отправной точки исследования языковых знаков или от выбора языковых пользователей [11, с. 336].
Если ономасиологическая стратегия деятельности знакообразования отнесена лингвистами к активной грамматике, то стратегию восприятия (осмысления, интерпретации) лингвистического (знакового) содержания обычно относят к пассивной грамматике. Конечно, термины активный и пассивный в определенном смысле условны для обозначения участников коммуникативного акта, так как и говорение, и слушание — творческие, активные процессы. Просто такими взаимно соотнесенными по значению терминами удобнее отображать инициатора процесса (говоряще-го-номинатора) и соучастника процесса (реципиента информации в процессе коммуни-кации=интерпретатора).
Существование двух основных подходов исследования языковых явлений вообще и семантики языковых единиц в частности отмечается в работах по семантике разных лет (7,
-
с. 124; 12, с. 79—85; 11, с. 336; 15, с. 246; 24, с. 14]. Так, Н. А. Слюсарева, выделяя семасиологический и ономасиологический подходы, «которые позволили сделать заключение о... направлениях связи языковых единиц с миром экстралингвистического», констатирует правомерность как одного, так и другого подхода [15, с. 246].
Можно сказать, что ономасиологический и семасиологический способы представления знаков находятся в отношениях парадигматической конверсии: ономасиологический способ представления иерархизации соотношений между означаемым и означающим противопоставляется семасиологическому по направлению деятельности участников коммуникативного акта и по ролевому участию этих коммуникантов.
Выделение ономасиологического и семасиологического подходов, как вполне справедливо отмечает А. Рей, не является чем-то новым [27, с. 9, 12]. Так, во французской лингвистике в 1911 г. появляется первый том фундаментальной многотомной грамматики «Des mots a La репзёе» Ж. Дамуретта и Э. Пишона, исследовавших французский язык в направлении от формы к заключенному в ней содержанию, т. е. на семасиологической основе. Однако, как замечает А. Рей, анализируя принципиальную основу теории грамматики Дамуретта и Пишона — от слов к мысли («Des mots а la репзёе»), эти известные грамматисты изначальной операцией считали путь от мысли к языку [27, с. 12; 10, ; с. 220—221]. Видимо, они уже осознали недо- 1 статочную эффективность семасиологичес- j кого подхода к языку.
Очевидно, в результате осознания этого факта и другими французскими лингвистами вскоре появляется другой фундаментальный по замыслу и объему мысли труд Ф. Брюно «La Pensee et la Langue», в котором французская грамматика, как следует уже из самого названия, исследуется в ономасиологической стратегии: от мысли к языку [21].
В зарубежной лингвистике ономасиологическая ориентация лингвистического описания впоследствии оказалась представленной в одном из вариантов в «Философии грамматики» О. Есперсена [5], в концепциях Г. Гийома [4], Б. Потье [25], в теории У. Чейфа [20] и в целом в теории семантических па- дежей [16; 17; 181, в продолжающем и развивающем традиции ономасиологической (функциональной) грамматики труде французско-। го лингвиста П. Шародо [22]. С учетом достижений современной лингвистической семантики это направление описания языка должно быть продолжено и в области препозитивной семантики.
Следует заметить, что в большинстве случаев лингвисты, обращаясь к вопросу о стратегиях исследования и описания, опираясь на одну из стратегий, неизбежно подчер; кивают возможность или необходимость выбора и другой (или других) стратегии (стратегий) или возможность/ необходимость использования как одного, так и другого подхода.
В современной лингвистике, вышедшей в анализе и описании языковых и речевых явлений за пределы языковой системы, исследователи обращаются к прагматической отправной точке речепроизводства и речевосприятия — языковой личности, которая, прежде чем означить мысли, должна иметь в сознании представление об означаемом содержании — концепт явления, события.
Это связано и с тем, что в последнее десятилетие в отечественной лингвистике большое внимание уделяется тому этапу речевой деятельности, который обычно в предшествующий период хотя и упоминался, но выносился за скобки или рассматривался более внимательно лишь в исследованиях психолингвистической направленности. Этот этап связан с деятельностью мышления в его познавательной и интерпретирующей роли. При следовании этой стратегии в пропозитивной семантике за исходный пункт принимается «не ситуация, а концептуальная структура, лежащая в основе предложения. Указанная структура из-i влекается не из экстралингвистических фактов, а непосредственно из данных языка» [1, с. 167]. Такой подход, при котором за начальную | точку отсчета принимается не экстралингвис-; тическая действительность, а когнитивная ак-; тивность воспринимающего лица, В. В. Богда-| нов назвал концептоцентрическим. Если гово-[ рить об этапности процесса номинации, то кон-цептообразующий этап предваряет этап фор-I мирования языковых знаков.
Концептоцентрический подход в интер-i претации В. В. Богданова фактически явля ется в определенной мере вариантом онтологоцентрического подхода. Его отличие от онтологоцентрического подхода состоит в том, что отправной точкой признается не языковой субстрат (внеязыковая действительность, бытие), а имеющаяся в сознании номинатора концептуальная структура субстрата. При этом отмечается, что сама концептуальная сфера как отправная точка номинации (означивания), равно как и внелингви-стическая основа концептуализации, не являются лингвистическими явлениями и не могут быть проанализированы лингвистическими средствами, так как выходят за пределы лингвистических знаков.
Признавая факт существования доязыковых этапов, в этом случае лингвисты «выносят за скобки» исследование самих явлений, событий реальной действительности и акцентируют внимание на двух сторонах знака и стратегиях его использования в коммуникативных процессах и описания как двусторонней единицы.
Таким образом, та или иная стратегия описания знаков и знаковых систем может быть выбрана произвольно, в зависимости от целей изучения и обучения, от методологических установок ученых, их философских установок, в зависимости от возможностей и достижений, установившихся традиций самой лингвистики.
Вместе с тем выбор той или другой стратегий и строго регламентирован, когда этот выбор связан с коммуникативным актом и его участниками — говорящим или слушающим, с процессом речепорождения или речевосприятия. В коммуникативном акте ономасиологическая стратегия ориентирована на процесс порождения речи и лежащую в его основе номинацию, а семасиологическая стратегия —- на процесс интерпретации (декодирования) заложенной в номинации мысли.
Названия ономасиологической и семасиологической стратегий, принятые для обозначения конечных целей процессов говорения (означивания) и слушания (понимания), в коммуникативном процессе наиболее используемы. В лингвистике существуют и связанные с каждой из этих стратегий названия научных теорий — ономасиологии и семасиологии.
i t | t 5
Список литературы Речевые стратегии коммуникантов
- Богданов В. В. Моделирование семантики предложения//Прикладное языкознание. СПб.: Издво Санкт-Петерб. ун-та, 1996. С. 161-200.
- Бондарко А. В. Основы функциональной грамматики. Языковая интерпретация идеи времени. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 1999. 260 с.
- Гак В. Г. К типологии функциональных подходов к изучению языка//Проблемы функциональной грамматики. М.: Наука, 1985. С. 5-15.
- Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М.: Прогресс, 1992. 224 с.
- Есперсен О. Философия грамматики. М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. 408 с.
- Климов Г. А. Принципы контенсивной типологии. М.: Наука, 1983. 224 с.
- Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 352 с.
- Комлев Н. Г. Слово в речи: денотативные аспекты. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1992. 216 с.
- Кручинкина Н. Д.„ Синтагматика и парадигматика пропозитивного номинанта: монография. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1998. 104 с.
- Кручинкина Н. Д. Функциональная грамматика и функциональная семантика пропозитивных номинантов (на материале французского языка)*//Теоретические проблемы функциональной грамматики: Всероссийская научная конференция. СПб.: Наука, 2001. С. 220-223.
- Лингвистический энциклопедический словарь/под ред. В. Н. Ярцевой. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.
- Новиков Л. А. Семантика русского языка. М.: Высш. шк., 1982. 272 с.
- Норманн Б. Ю. Грамматика говорящего. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 1994. 229 с.
- Павлов В. М. Полевые структуры в строе языка. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та экономики и финансов, 1996. 116 с.
- Слюсарева Н. А. О семантической и функциональной сторонах языковых явлений//Теория языка, методы его исследования и преподавания. Л.: Наука, 1981. С. 243-249.
- Филлмор Ч. Дело о падеже//Новое в зарубежной лингвистике: лингвистическая семантика. М.: Прогресс, 1981. Вып. 10. С. 369-495.
- Филлмор Ч. Дело о падеже открывается вновь//Новое в зарубежной лингвистике: лингвистическая семантика. М.: Прогресс, 1981. Вып. 10. С. 496-530.
- Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания//Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1988. Вып. 23. С. 52-92.
- Хомский Н. Вопросы теории порождающей грамматики//Философия языка. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 99-140.
- Чейф У. Л. Значение и структура языка. М.: Прогресс, 1975. 432 с.
- Brunot F. La Pensee et la Langue. 3-eme edition revue. 3e tirage. P.: Masson et Cie, 1965. 982 p.
- Charaudeau P. Grammaire du sens et de l’expression. P.: Hachette, 1992. 927 p.
- Germain C., Le Blanc R. Introduction a la linguistique gendrale. La semantique. Montreal: Pr. univ. De Montreal, 1982. 124 p.
- Martin R. Inference,antonymie et paraphrase. Elements pour une th£orie semantique. P.: Klincksieck, 1976. 174 p.
- Pottier B. P^sentation de la linguistique. Fondement d’une theorie. P.: Klincksieck, 1967. 71 p.
- Rey A. A propos de la semantique lexicale//Travaux de linguistique. Ou en sont les etudes sur le lexique? Bilan et perspectives. 1991. № 23. P. 179-193.
- Rey A. Remarques semantiques//Langue Francaise. 1969. № 4. P. 5-29.