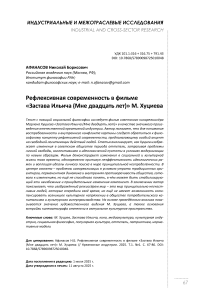Рефлексивная современность в фильме «Застава Ильича (Мне двадцать лет)» М. Хуциева
Автор: Афанасов Н.Б.
Журнал: Креативные индустрии | Creative Industries R&D @creativejour
Рубрика: ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | INDUSTRIAL AND CROSS-SECTOR RESEARCH
Статья в выпуске: 1 (1), 2025 года.
Бесплатный доступ
Текст с позиций социальной философии исследует фильм советского кинорежиссёра Марлена Хуциева «Застава Ильича (Мне двадцать лет)» в качестве значимого произведения отечественной креативной индустрии. Автор полагает, что для понимания востребованности и внутреннего конфликта картины следует обратиться к философскому концепту рефлексивной современности, предполагающему особый акцент на свободной легитимации действий людей. Статья анализирует, как Хуциев изображает изменения в советском обществе периода оттепели, затрагивая проблемы личной свободы, коллективизма и идеологической пустоты в условиях модернизации по новым образцам. Фильм демонстрирует изменения в социальной и культурной жизни того времени, одновременно критикуя неэффективность идеологических рамок и воплощая идеалы личного поиска в мире принципиальной неопределённости. В центре сюжета – проблемы самореализации в условиях утраты традиционных ориентиров, перманентная динамика и внутренняя противоречивость общества, готового к изменениям, но ещё не способного понять, в чём может быть стабилизирующий эти неизбежные и принудительные изменения компонент. В заключении автор показывает, что изображённый режиссёром мир – это мир принципиально несчастливых людей, которые опередили своё время, но ещё не имеют возможность скомпенсировать возникшее культурное напряжении в обществе потребительского капитализма и культурного гиперпроизводства. На основе проведённого анализа показывается значение художественного видения М. Хуциева, а также основания встройки кинематографа оттепели в актуальное культурное пространство.
М. Хуциев, Застава Ильича, кино, медиакультура, культурная индустрия, социальная философия, популярная культура, оттепель, патриотизм, нормативные модели
Короткий адрес: https://sciup.org/14133490
IDR: 14133490 | УДК: 101.1:316 + 316.75 + 791.43 | DOI: 10.7868/S7890098725010048
Текст научной статьи Рефлексивная современность в фильме «Застава Ильича (Мне двадцать лет)» М. Хуциева
Кинематограф оттепели – это важнейшая часть не только советской, но и современной медиаиндустрии. Он относится к советскому художественному наследию, которое напрямую участвует в формировании актуальной российской культуры и пользуется устойчивым коммерческим спросом. Многим лентам той поры удалось избежать участи превращения в музейный экспонат, интересный только архивистам и историкам. Для интеллигенции – именно она продолжала (вос-)производить культурную норму [5, с. 243] новой постсоветской России и отчасти сохраняет за собой эту роль – мир шестидесятников, запечатлённый в кинематографе, авторской песне, реалистической прозе, поэзии и просто бытовом фольклоре, остаётся внутренним ориентиром. Для многих интеллектуалов те годы ассоциируются с надеждой на лучшее, гуманистическое и свободное время. Период стал тем, что по выражению немецкого теоретика и философа истории Р. Козеллека, называется «прошедшим будущим» [24]. Для зрителей же, как заставших советскую эпоху, так и совсем молодых, многие картины 1960-х – это просто интересные и любимые фильмы, которые можно с удовольствием посмотреть с семьёй или друзьями; а то и вовсе выделить время и наслаждаться шедеврами советской «новой волны» как самоценными произведениями искусства, которые способны вызвать эстетическое и интеллектуальное переживание.
Немногочисленные критические реплики об «оттепели» затрагивают конкретные и частные вещи, фокусируются на роли личности в истории (в особенности останавливаясь на фигуре Н.С. Хрущёва), противопоставляют и сравнивают «оттепель» со сталинизмом, «застоем», «перестройкой» [6, c. 63]. Но актуальность художественного языка и общая проблематика не ставятся под сомнение. Даже если это и происходит, то значение рубежа пятидесятых – шестидесятых, пусть и в виде объекта критики, от этого не становится меньше. Это одна из отправных точек нашей локальной современности (в значении «одновременности» [15, c. 5]). Литература, кино, музыка и театр охотно обращаются к стилю и сюжетам того времени, предлагая их современную интерпретацию, ярким примером чего может служить работа с феноменом «стиляжничества» [1, c. 128]. Такой взгляд находит выражение не только в самой культуре, но и в теоретических работах: «Есть мнение, что в настоящее время наше кино находится на подъёме, кассовые сборы растут с каждым годом, и никаких существенных проблем, в этой области нет. Однако, по нашему мнению, современное российское кино пребывает в глубоком затяжном кризисе. <…> И не случайно мы обращаемся к одному из самых успешных и ярких периодов в истории отечественного кино – периоду “оттепели”» [12, c. 294].
Современность превращает собственное (историческое) осмысление в неотъемлемую часть культуры [13, c. 407–410]. Говоря проще, науки о духе – история, культурология, философия – сами становятся формой культурного производства. Фильмы Марлена Хуциева (1925–2019) считаются символом и отражением эпохи1. Сегодня через его авторское видение зрители и теоретики получают представление об умонастроениях молодых людей тех лет. Кино Хуциева – это рефлексивное и интеллектуальное творчество. Он не только талантливо изображает, но и предлагает свою оригинальную авторскую интерпретацию происходящего. Делается это на нескольких уровнях: 1) изображение проблематики, в которой существуют персонажи; 2) акцент на противоречиях, которые существует во внешнем по отношению к фильму контексте. У Хуциева предметом исследования становится само меняющееся общество оттепели, мимолётность и эфемерность тех социальных конфигураций, которые представлялись героям и критикам того времени незыблемыми. Многие из его художественных открытий вместе с художественной ценностью картин сохраняют теоретическую значимость сегодня.
Теоретические предпосылки
К работе над «Заставой Ильича» Марлен Хуциев приступил в 1959 г. Режиссёр продолжал темы, начатые в картине «Весна на Заречной улице» (1956). Соавтором сценария стал важный для советского кино тех лет сценарист, Геннадий Шпаликов (1937–1974). Дату начала съёмочного процесса легко запомнить: первой снималась сцена первомайской демонстрации. Соответственно, Хуциев приступил к тому, чтобы положить свои идеи на плёнку 1 мая 1961 г. Картина была закончена уже в 1962 г., но на экраны в ограниченном прокате вышла лишь спустя три года. Это была подвергнутая цензуре, порезанная версия, которая из «Заставы Ильича» превратилась в «Мне двадцать лет». Только в 1988 г. зрители смогли увидеть авторскую версию картины, длинный (общий хронометраж более 3 часов) двухсерийный фильм. Исключение ключевых сцен в версии 1965 года никак не повлияло на то, что фильм стал символом эпохи, а за М. Хуциевым закрепилась репутация одного из лучших режиссёров того времени. Сейчас мы располагаем авторской версией фильма, на которую и опираемся при анализе.
В обращении к картине мы предлагаем взглянуть на «Заставу Ильича» с точки зрения проблематизирующей современность социальной теории. Кино можно смотреть, прибегая к разным оптикам: социолога [17, с. 10], философа, историка и др. Предметом нашего же рассмотрения станут не художественные особенности этой картины, но то содержательное высказывание о современности, которое она предлагает. Мы полагаем, что именно они сегодня наиболее значимы в качестве характерообразующих картину черт. Хуциев зафиксировал значимые изменения социального, которые происходили в советском обществе 1960-х гг. и требуют внешнего комментария. Сегодняшний зритель, для которого контексты кинематографа оттепели являются внешними, может поймать себя на мысли, что эти фильмы интересны и в них есть что-то современное . Этот эффект актуализации обусловлен не только внутренним художественным гением и «вечной» проблематикой, которой часто характеризуют большое искусство. Между молодыми героями тех лет и сегодняшними двадцати-, тридцати- и даже сорокалетними (с 60-х в плане поколенческих границ многое изменилось) есть связь, которая определяется через принадлежность к (со-)временности. Несмотря на различие в контекстах и внешней конъюнктуре внутренняя логика той жизни и сегодняшнего мира пересекаются - это современность, а под «временностью» мы понимаем их (или авторское, режиссёрское) восприятие частной временности, то есть своей конкретной истории.
Трудность состоит в том, что «современность» - это очень сложное понятие. Оно протяжённо во времени, охватывает исторический промежуток более чем в два столетия, именуемый как «Модерн». Существует множество авторских концепций современности/модерна. В русском языке нет окончательного согласия даже на уровне перевода терминологии: Модерн, модерность, современность? Для анализа социального в фильме мы прежде всего прибегнем к теории рефлексивной модернизации, предложенной в конце XX-го столетия ведущими социальными теоретиками Энтони Гидденсом, Ульрихом Беком и Скотом Лэшем [22], воспользуемся идеями Зигмунта Баумана и, наконец, обратимся к философскому дискурсу о модерне, предложенному Юргеном Хабермасом [19]. Большинство из перечисленных концепций были сформулировали на рубеже 1980-х и 1990-х гг., а катализатором их появления выступила полемика с постмодернизмом [26, p. 3–7].
Этот сложный дисциплинарный контекст играет нам на руку: во-первых, теория обращается к тому, что уже хорошо знакомо (трудности всегда возникают, когда говорят о «настояще-современном», т.е. «одновременном», а мы имеем дело с прошедшей современностью), а, во-вторых, она вынуждена решать прикладную задачу: отграничивать себя от постмодерна. Тем самым достигается предельная ясность в определении характеризующих современность черт. Общество периода оттепели, которое изображает Хуциев, окажется не только советским , но просто обществом , которое столкнулось с неизбежными противоречиями, возникающими в ходе социальной модернизации. Пересечения с глобальным контекстом будут служить дополнительным аргументом в пользу правильности избранного нами подхода. Герои «Заставы Ильича» вынуждены жить своим умом, статус традиции для них поставлен под сомнение. Они в меру одиноки, ограниченно несчастливы, частично отчуждены от своего окружения. В их жизни всё больше индивидуалистичного, и меньше – коллективного. Им вроде бы несложно проживать свою жизнь – в целом, она относительно благополучна с материальной точки зрения –, но даже сформулировать, что именно делает их несчастными, они не могут. Иначе говоря, это вполне современные люди.
Изложение основного материала Пространственная динамика города
Причиной того, что «фильм вышел на экран сокращённым, с большими купюрами, переснятыми и доснятыми эпизодами – перемонтированным, пе-реозвученным и даже переименованным» [10, c. 63], стала работа советской системы идеологического контроля. Цензура безошибочно уловила, что картина представляет собой критическое высказывание, которое продвигает отличное от конвенционально-государственного видение патриотизма. Высказывание режиссёра сочли неприемлемым. У зрителей из числа советских чиновников картина вызывала недоумение и раздражение, несколько выходящие за рамки традиционного противопоставления отцы – дети. В этой истории мы сталкиваемся с ценностно-рациональным конфликтом.
Правы те защитники работы Хуциева, которые утверждали, что фильм был патриотической работой. Правы также и те, кто находят замечания цензоров и лично Н.С. Хрущёва поверхностными и неуместными. Трагический парадокс этой истории состоит в том, что цензоры не ошиблись: система безупречно опознала «чужое», а советская цензура показала свой профессионализм. Различия в оценках зависят от системы отсчёта, в которой мы находимся. Цензоры рассуждали в профессиональной логике обыденно-нормативного сознания, полагая, что существующую идеологию нужно защищать, а та ценностная картина мира, в которой они мыслили, абсолютна. Наивным будет утверждать, что Хуциев не разделял декларируемые и отстаиваемые ценности и практики жизни. Скорее он осознавал, что идеологический потенциал старого образца иссякает. Требуется обновление и гуманизация патриотизма в соответствии с духом времени. Мы предлагаем пойти дальше, задав вопрос: понимал ли сам Хуциев, что то, что он делает, подрывая функционирование официозной и сложившейся модели, наполняя его реальным содержанием, на самом деле не обязательно будет способствовать утверждению искомой им «подлинности»?
Оппозиция «подлинности» и «неподлинности», «настоящего» и «ненастоящего», «серьёзного» и «несерьёзного» является стержневой для картины. Именно работа с этими сюжетам позволяет говорить о том, что фильм стал выражением духа времени. Тема вписывается и в более общий историко-культурный контекст, в котором существует литературоцентричная [25, p. 108] русская культура и мысль. В интеллектуальном анализе, благожелательно настроенном по отношению к советскому проекту, чаще всего можно встретить такую схему: идея (романтического) коммунизма была верна, но его конкретная реализация, виной которой стали исполнители «на местах», похоронила гуманистический пафос советского проекта. Это критика не самой системы или идеи, но их конкретного воплощения, попытка приведения реального положения дел в соответствие с декларируемыми ценностями. Советский философ Александр Зиновьев относил этот дискурсивный разрыв к одной из основных причин настигшего коммунизм краха: «Среди причин <…> существенное место занимает <…> несоответствие фактического уровня жизни обещанному, и тому, как жизнь изображается в пропаганде» [8, c. 285]. Для современного российского осмысления истории и многих попыток, предпринимавшихся уже в советские годы независимыми мыслителями, актуальность отмеченной проблемы сохраняется. Для реальности же картины «Застава Ильича» не могло существовать иного выбора. Ощущение того, что «что-то не так», могло быть передано только в качестве упрёка в несоответствии с желаемым, фиксацией движения не в ту сторону. В противном случае фильм никогда не был бы снят.
Для описания социального, на которое нам предлагает взглянуть режиссёр, предложим метафору «демобилизованного общества». Она описывает положение советских граждан на рубеже 1950-х и 1960-х гг. Образ демобилизации многократно обыгрывается при помощи выразительных средств и движения сюжета. Картина открывается продолжительной сценой, которая показывает неспешный проход революционного патруля по улицам Москвы. На фоне идут титры, и в один из моментов, когда три фигуры с красными повязками отдаляются на достаточное расстояние от камеры, можно заметить, что направление движения меняется. Спустя мгновение от нас уходят не солдаты, но к нам иной, расслабленной и даже весёлой походкой приближаются трое молодых людей: два парня и девушка. Серьёзный тон картины, который задаёт звучащая классическая музыка, меняется.
Зритель, кому наверняка доводилось беззаботно бродить по Москве, получает возможность отождествить себя с происходящим на экране. Но одновременно задаётся и система временных координат: это всё тот же город, по которому ходили военные патрули. Главный герой, 23-х летний Сергей, отслужив в армии, возвращается домой, в Москву к матери и сестре. Его приезд становится одним из тех немногих событий, которые формируют сюжет картины. Окончание военной службы должно было бы стать началом новой жизни. Герой, выполнив свой долг, сможет найти и реализовать себя, получить образование, обзавестись семьёй, стать достойным советским гражданином. Но простота и ясность распорядка советской армии – «в армии всё просто», меланхолично замечает Сергей – сменяется гнетущей неопределённостью.
Степень личной свободы человека в жёстко регламентированных структурах по определению сильно ограничена, но, как мы и видим на примере Сергея, при сохранении лояльности авторитету и искренней патриотической позиции, ограничения становятся осознанными и добровольными. Говоря проще, они не становятся источником внутреннего конфликта.
Москва и советское общество показаны в фильме достаточно подробно, чтобы можно было дать их социально-философскую интерпретацию. Сергей и двое друзей, Николай и Вячеслав, живут в величественном городе, столице мировой державы. Размышляя об актуализации мифа в картине Хуциева, исследователь кино Алексей Беззубиков отдельно останавливается на том, что «… значительная часть экранного времени отдана под, казалось бы, не имеющие отношения к непосредственному действию сцены, живописующие среду, в которой живут персонажи. Пространство, где происходит действие, служит не только фоном, который было бы достаточно заявить в экспозиции фильма, но и полноценной сюжетной единицей со своей логикой развития и взаимодействия с героями и зрителем картины» [3, c. 595].
Пространство «Заставы Ильича» принципиально динамично. Фильм построен на натурных съёмках, даёт широкие панорамы центральных улиц Москвы. Именно там главные герои перемещаются и буквально обретают себя в динамике. Британский социолог Зигмунт Бауман пишет, что «… в качестве возможного “отличия, определяющего различия”, выделяется одна особенность современной жизни и её течения – ключевая особенность, из которой вытекают все другие характеристики. Эта особенность – изменяющиеся отношения между пространством и временем» [2, c. 15]. Постоянное движение героев не случайно. От бесцельных прогулок по улицам Москвы, поездок на работу в общественном транспорте или шествия на Первомайской демонстрации персонажи встраиваются в жизнь современного города, которая немыслима без возможностей комфортного и быстрого перемещения. Для этого создаётся инфраструктура, этого требует социально-экономические условия ведения хозяйственной и культурной жизни. Тома «Лирика», украшающего полку книжного шкафа недостаточно для наслаждения стихами – 60-е требуют посещения вечера поэзии в Политехническом музее. Москва даёт возможность героям комфортно перемещаться на метро, в троллейбусах, просто пешком. Широкие проспекты и обустроенные тротуары – это важные социальные маркеры устройства общества. Британский социолог Джон Урри замечает на этот счёт: «… чем мощнее пешеходная система, тем меньше социального неравенства в обществе» [18, c. 197–198]. При этом сами места во многом теряют свою функциональную значимость для героев, они легко заменяемы. В одной из сцен отец Ани, девушки, в которую влюблён Сергей, говорит: «Тебе в любом (курсив мой – Н.А. ) месте будет трудно». Его фразу можно трактовать не только как желание остепенить дочь, но и как фиксацию её символической практики перемещаться. Если можно сменять место по своему выбору, то это многое говорит о том, как устроена жизнь.
Картина фильма предлагает не только динамику объектов, персонажей, динамичные планы съёмок, но и показывает, что сам город постоянно перестраивается. Несмотря на то, что основные съёмки проходили в историческом центре Москвы, который к рубежу 50-х и 60-х приобрёл знакомый вид, зрителю легко заметить, что сам город меняется. Режиссёр показывает нам кадры стройки. Герои часто проходят мимо бетонных плит и крупноузловых деталей канализационных коллекторов. Вячеслав трудится на стройке оператором экс-каватора-демолятора и расчищает ландшафт модернизирующегося города от ветхих зданий. Сам он семейный человек, по нынешним меркам достаточно рано вступивший в брак: у них с женой уже есть ребёнок. Допустима и психологическая интерпретация его трудовой деятельности, в соответствии с которой будет подчёркнут противоречивый характер его личного благополучия. В одной из сцен, последовавшей за семейной ссорой, режиссёр показывает нам, как рушится здание. Но общая пространственная ткань фильма лишена этой драматичности: Хуциев не сожалеет по утраченным ветхим домам, наоборот, деятельный процесс непрекращающейся стройки показан как органичная часть того жизненного мира. Советская Москва не статична, но подстраивается, чтобы идти в ногу со временем.
Материальной стороне советской жизни в картине уделяется достаточно внимания, чтобы считывать её как важную составляющую художественного высказывания автора. Прежде всего, быт героев относительно скромен. Это мир коммунальных квартир, где у персонажей нет отдельных комнат, а окружающие их бытовые предметы сложно назвать роскошными: часто это просто довоенная мебель, которая исправно выполняет свою функцию. Героев это не беспокоит. Они пережили и более серьёзные ограничения, а в том, что их жизненные условия станут лучше, нет никаких сомнений. Во-первых, уже упомянутый процесс строительства в городе имеет своей целью в том числе и улучшение жилищных условий. Квартиру можно получить, приложив для этого какие-то усилия. И, во—вторых, перебравшись в собственное индивидуальное жильё, сделать там ремонт в соответствии со своими предпочтениями. Отец Ани, получив собственную комнату, первым делом именно это и делает: организует ремонт. В разговоре с Анной и Сергеем он подчёркивает, что происходящее (и новое жильё, и его обновление) - это результат тяжёлой работы и правильных взглядов на жизнь. Иначе говоря, труд овеществляется в материальных благах.
Если жизненный мир Сергея в квартире с сестрой и матерью скуден и минималистично-функционален - стол служит столом, а кровать - кроватью -, то рабочее пространство подчёркнуто сверхсовременно. Сергей трудится оператором на ТЭЦ, оборудованной советским оборудованием по последнему слову техники. Его окружают современные, требующие высокой квалификации персонала, машины. Помещение чисто убрано. ТЭЦ, обслуживающую Москву, посещает иностранная делегация, что подчёркивает передовой уровень развития кооперации между советской наукой и техникой. На уровне риторики и образности техническая линия дополнена портретами Гагарина и макетами космических кораблей, которые несут люди на демонстрации. Тема технического прогресса - это не главная тема «Заставы Ильича», но съёмки, претендующие на реалистическое изображение советской жизни, заключают в себе внутренний посыл веры в гуманистическую силу технического прогресса, подчёркивая инструментальную, динамичную природу советского общества. Герои живут в мире, который успешно преобразуется благодаря технике и достижениям науки.
Ей на уровне риторики противостоит индивидуальное стремление к бытовому, «мещанскому» потребительству. Выше мы отмечали, что героев преимущественно устраивает та скудная по нынешним меркам материальная база, в которой предстоит разворачиваться их жизням. Но это отдельно дополняется оценочными нюансами, которые усложняют картину. В фильме нет однозначно отрицательных персонажей, но есть те герои, которых - а, может быть, только их конкретные действия - Хуциев противопоставляет упомянутому дискурсу «подлинности». Сестра героя, Вера беззлобно, но всё же упрекает его в том, что он «накопитель, и стяжатель». Это шутливое замечание, не имеющее отношения к реальности, но оно задаёт те ценностные координаты, в которых существуют персонажи.
Вячеслав видит свою задачу в том, чтобы обеспечить себя и свою семью всем необходимым. В одном из эпизодов фильма он с горечью замечает: «Сегодня кресло купили, а шкафов - нет». Вячеслав, в отличие от Николая и Сергея, обязан заботиться о материальной стороне жизни: он обеспечивает жену, которая ухаживает за ребёнком. Хуциев показывает, что материальных трудностей, поставивших бы под вопрос физическое благополучие молодой семьи, нет, но тем не менее бытовое в их контексте демонстрируется как что-то недостойное. Говоря проще, это не сатира, но скорее бытовая драма. Без материального жизнь семьи невозможна, но что-то в символическом порядке разрушается, когда список покупок, польские лыжи, шкафы или новый телевизор становятся содержанием жизни. Вячеслав любит свою жену и ребёнка, они отвечают ему взаимностью. Суть показанных в фильме проблем в другом, мы ещё к этому вернёмся, но взгляд социальной теории фиксирует их конкретную опосредованность социальным.
Счастье лозунгов
Фильм «Застава Ильича» предлагает зрителю картину жизни трёх молодых людей, чуть старше 20-ти, которые пытаются жить современно. Это демобилизованное общество, как на уровне сюжета, так и на уровне бытового мира. Сюжет картины сложно назвать захватывающим, он строго не определён, что служило причиной упрёков в сторону режиссёра. Но именно это является сознательной стратегией изображения и художественной честностью: демобилизованное общество находится в перманентной динамике, но не идёт к какой-то цели. Имея опыт сверхнапряжения сил - революция, 1937-й год, война - это упразднение внешней рамки, структурирующей жизнь, оказывается вызовом для героев. Они не знают, как жить, потому что никто им этого не сказал и сказать не может. В силу не зависящих от высшего политического руководства причин 1960-е стали в достаточной степени «современными», чтобы поставить перед героями вопросы не выживания или достижения какой-либо большой цели в рамках большой идеи, но вопросы самореализации и обретения личного счастья. Реальная социально-философская проблема состоит в том, что в рамках существовавшего идеологического дискурса эти внутренние вопросы не могли быть разрешены. Хуциев предпринимает попытку апелляции к подлинности ушедшего. Им становится война, ставшая особым опытом для каждой семьи, но содержательно это работает не так, как того хотелось бы автору. В сущности, ничто, что могло быть показано в картине, не способно сделать Сергея, Вячеслава и Николая счастливыми.
Проблема как раз и заключается в том, что проблематизация происходит по линии обретения счастья через опыт трансцендирования повседневности, через обращение к опыту эпохального события: победе в Великой отечественной войне, не только ставшей точкой сборки нескольких поколений, но и в силу трагичности протекания конфликта события, разрывающего социальность и публичность [11]. Прежде всего это беспокоит Сергея, но на уровне сюжетных действия он пытается не воспроизвести утраченные опыты подлинности, но обрести личное счастье в романтических отношениях. Тем же заняты и его друзья. Для «современного» общества, характерной чертой которого является отчуждённость от общего дела, именно в приватной сфере видится возможность обретения собственной ценности и значимости. Партнёрские отношения с тем, кого ты любишь, призваны заполнить пустоту внутренней жизни, облегчить груз свободы самоопределения, которую взваливает на плечи освободившегося от традиции и принуждения человека. Пример Вячеслава показывает, что и это не всегда является решением. Парадокс в том, что советское общество 1960-х, и Хуциев с присущей большому художнику наблюдательностью улавливает это, оказалось современнее чем культура, которая могла бы дать ответ на те противоречия, которые порождает модернизация.
Внутренний разрыв в социальной рефлексивности фильма лежит на границе перехода между отстранённым и беспристрастным взглядом социолога и художественным высказыванием гражданина и патриота. «Застава Ильича» авторский фильм не только в силу жанровых особенностей, но и в качестве оригинального ответа художника на ту проблему, которая его занимает. «Подлинность» как идеал и «неподлинность» как реальность мыслятся им как то, что дóлжно преодолеть. Сохраняя абсолютную лояльность господствовавшему проекту построения счастливого социалистического, коммунистического – точнее будет сказать «советского» – общества, Хуциев видит своей задачей вскрытие нарушений в работе идеологической машины, приведение её в соответствие со своими собственными установками. Это важная тема, если мыслить фильм как политическое высказывание. Но в таком преломлении его содержание оказывается подчинено нарративу дискуссии о природе социализма, лишает его художественной автономии.
Картина предлагает два возможных выхода из состояния внутреннего противоречия, в которое вслед за героями погружается и зритель. Разрыв внутренней логики, как она может быть представлена в оптике актуальной социальной теории, осмысляющей современность как растянувшийся во времени процесс, происходит при трансцендировании бытового уровня. Режиссёрское изображение жизни поколения реалистично, и в рамках канонов реализма его представители не видят внутренних ресурсов для преодоления своего несчастья. Они действуют в логике модерного времени, хотя степень рефлексивности их действий различается (от думающего Сергея, сложного Николая до противоречивого Вячеслава и беззаботных Ани и Веры). И эта общая логика времени не может найти ответа в конкретно-исторических условиях. Сам Хуциев значительно старше своих героев и представляет другой взгляд на возможности развития общества. Для него способом обрести полноту существования оказывается сила классического искусства и апелляция к большим нарративам истории.
Точками подлинности, разрывающими ткань социальной повседневности для кино стали поэзия и классическая музыка. Музыкальный ряд картины наполнен классическими, торжественными произведениями. Они встроены в звуковое сопровождение жизни героев, но адресованы прежде всего зрителю. Картина Хуциева работает с темой на двух уровнях: на первом зрителю предлагается оценить ту музыку, которую слышат сами герои: «Звуковые приметы быта 60-х <…> используются как приём включения в нарратив фильма, приём, заменяющий художественную условность повседневной реальностью. Звуки города – танцевальная музыка во дворах, песни выпускников на Красной площади, десятиминутная сцена первомайской демонстрации – составляют сферу публичного, общественного, в то время как тишина формирует интимное пространство героев»2. А на втором она помещается в контекст общего художественного высказывания через добавление классических композиций. Смена дорожек - от джаза и зарубежной поп-музыки до Баха - работает на поддержание динамики фильма, подчёркивая современность героев. Но для самого Хуциева и отчасти Сергея это имеет ещё один смысл.
Для понимания авторского высказывания ключевыми являются две кульминационные сцены в картине. Сергей и Анна попадают на праздничный вечер к своим богемным знакомым, где показана атмосфера непринуждённости и ироничного цинизма. Демонстрируя портрет этой социальной группы, Хуциев выходит за рамки отстранённого наблюдения. Один из участников вечеринки ставит пластинку с народной песней, что вызывает насмешки гостей. Конфликт пролегает между представлением о том, что важно и почему, и тем, что это несомненно важное в представлении Хуциева оказывается предметом иронического снятия и отчуждения. Сергей, что в общем-то является нарушением социальной нормы в кругу, в который он попал, реагирует через конфликт и апелляцию к тому, что многое в истории его страны имеет значение и не может быть подвергнуто ироническому снятию. Адекватной реакцией было бы шутливое и по возможности остроумное замечание своему оппоненту, которое избавило бы от неловкой и кризисной ситуации. Но он произносит те слова, которые контекстуально гораздо нагруженнее, чем того ожидает публика: «революция, интернационал, 37-й год, картошка». Этот ряд разрывает внутреннюю логику фильма. Если революция, интернационал и картошка являются органичным для мира патриотично настроенного гражданина СССР, то говорить о «37-м годе» на вечеринке в начале 60-х всё ещё могло быть опасным. К тому же самоочевидность репрессий оставалась таковой только для независимо настроенных молодых людей и прогрессивной части общества. В этом замечании говорит не сам Сергей, а обобщённое представление М. Хуциева, адресованное зрителю. Более того, на протяжении предшествующего сцене хронометража фильма мы видим реальную работу образов революции (проход революционного патруля в начале), интернационала (иностранные гости на ТЭЦ, Первомайской демонстрации, зарубежная музыка, искусство).
Сцена с «картошкой» на уровне нарратива приоткрывает взгляды режиссёра, которые до того могли остаться незамеченными зрителем, очарованным панорамами Москвы и обаятельными молодыми героями. На протяжении всего фильма мы сталкиваемся с умолчанием о чём-то важном, что герои картины предпочитают не обсуждать, но что формирует их идентичность по отношению к стране и к самим себе. Это трансцендендирующий образ-воспоминание о войне. Утраченное воспоминание. Из молодых людей, мир которых изображает Хуциев, никто не воевал. Фактически целое поколение росло без отцов, которые воспринимались как героические и очень далёкие фигуры. Дистанцирование от повседневности неизбежно увеличивалось по мере рутинизации быта, погружения в повседневное. Сверхнапряжение Победы и страдания поколения для молодых людей были фактом семейной истории.
Перед походом Сергея на вечеринку его мама и сестра находят военные карточки на продукты. Они потерялись давным-давно между страницами старой книги. Живо воспоминание о том, как тяжело далось переживание этой случайности. Маме пришлось вместе с солдатами отправиться за город и копать картошку, на которой они с Сергеем смогли продержаться целый месяц до получения новых карточек. Эта история могла окончиться и трагически, но самоотверженность, терпение, смирение и сама мёрзлая земля спасли семью. Для Сергея, не склонного к легкомысленному отношению к вещам, которые многие дети представителей высшего слоя советского сочли бы достойными разве что шутки, картошка становится личным символом опыта «войны» и подлинности. Хуциев не снимает кино о войне в привычном смысле. Кино с батальными сценами, полное трагизма и опытов возвышенности. Он работает в парадигме представления эпохального события через рефлексивную актуализацию драмы на уровне каждого человека. Изображения боевых действий вызывают другой спектр эмоций и часто отчуждают от индивидуальности. Это патриотический опыт, нравственная добродетель, но его монополизация оказывается невозможной. Больших побед не бывает без страданий, а светлое чувство патриотизма легко выхолащивается, если оно прекращает быть рефлексивным.
На уровне истории с картошкой мы имеем дело с ретроспективным опытом рефлексивности. Сергей никогда прежде не знал этой истории, хотя и имел представление о том, как его матери было тяжело одной в тылу. Наверняка ему в детстве также пришлось пережить ограничения. Склонность героя к рефлексии, которую постоянно подчёркивает в фильме М. Хуциев, порождает внутренние противоречия тогда, когда речь идёт о самоопределении в новом мире и адаптации к окружающей его социальной реальности. Но эта же способность оставаться рефлексирующим субъектом оказывается способом обретения героем своего собственного, непоколебимого «я», которое в своей изменчивости и противоречивости становится абсолютно герметичным, поскольку формируется мышлением самого героя.
Размышляя о судьбе современного человека, немецкий социолог Ульрих Бек прибегает к метафоре из экзистенциальной философии: «… индивидуализация не основана на свободном решении индивидов. Используя выражение Сартра, люди обречены на индивидуализацию» [21, p. 14]. Философия экзистенциализма, истоки которого восходят к XIX веку и работам С. Кьеркегора, стала значимым фактом культурной жизни именно в середины XX века. Возможно, наряду с марксизмом это первая по-настоящему «современная» – не в значении «модерновая», но в значении актуальной современности – философская традиция. Если на стороне марксизма был мощный пропагандистский аппарат, сеть объединений и славная история советских достижений и успехов, то экзистенциализм завоевал сердца многих молодых людей через талантливые литературные произведения Ж.-П. Сартра и А. Камю и кино. Знаменитый французский режиссёр Филипп Гаррель заметил по этому поводу: «“Новая волна” в кино – это то же самое, что экзистенциализм в литературе».
Сергея смутно беспокоит это ощущение ответственности за свою жизнь, взгляды, если буквально, то «идентичность». Его друзья охвачены тем же ощущением, но меньше отдают себе в этом отчёт. Это не тот же самый конфликт, который лежал в основе становления молодого советского общества, общества тоже современного . Социалистический проект был радикально модерновым в своей основе, накладывая на общество обязательство по постоянному движению вперёд, отказу от традиции, её переформатированию. Это накладывало особенные обязательства на каждого члена этого общества, призывало его к мобилизации всех внутренних сил и ресурсов для того, чтобы стать тем, кем он должен был стать. Различие заключается в том, что отправной точкой в первые десятилетия советской власти были чаще всего люди, укоренённые в традиции (неважно – крестьянской, буржуазной и проч.). Им предстояло закалить свой дух и тело, стремясь к определённым образцам, которые предлагала советская культура. Достаточно привести в пример художественный образ Павла
Корчагина из романа «Как закалялась сталь» Николая Островского или широко растиражированные образы передовиков производства. Симптоматично, что именно образ Корчагина противопоставляет новым деидеологизированным героям исследователь Д.В. Харитонов, когда отмечает новаторство картины «Летят журавли»: «... фильм нёс идеи общечеловеческие, лишённые какого-либо идеологического привкуса, а героем кинокартины становился не “абсолютный” Павка Корчагин или слащавый передовик, а обычный человек с его сомнениями, заблуждениями, ошибками и своими собственными (а не коллективными) радостями и горестями» [20, с. 56]. Эти нормативные модели по-своему обыгрывались в советской литературе (ср., к примеру, произведения Андрея Платонова), сохранявшей критический художественный пафос.
Герои «Заставы Ильича» лишены таких образцов. Их значение осталось в истории и во многом было исполнено: от Победы до полёта первого человека в космос. Требовались новые культурные паттерны, которые могли бы работать в усложняющемся, модернизирующемся и всё более подталкиваемом к рефлексии советском обществе. Оказалось, что для многих из числа интеллигенции эти образцы оказались неубедительными. Тотальная демобилизация общества после периода титанического напряжения сил невольно высвобождала свободное время, необходимое для критического суждения. Возросшее материальное благосостояние (с дальнейшей перспективой улучшения!) совпало с эфемеризацией целей всемирной революции. Социальный философ и писатель Александр Зиновьев со свойственной ему прямотой писал о том, что причиной краха коммунизма стало не недостаточное потребление, но рост материального благосостояния граждан. Массовое общество, которым на первых этапах своего развития являлось советское, нуждается в мобилизационных идеологиях. Бытовой комфорт же диктует свою логику: он постулирует преумножение благ в качестве самоцели, не имеющей предела.
Люди, может быть, не устали от самой идеи, и даже были бы готовы ждать её воплощения в жизнь и упорно трудиться для её достижения, но что-то в самом мире изменилось. Фильм Хуциева предлагает одну из версий произошедшего. Реальное воплощение развитого послевоенного социализма не соответствовало декларируемым им же нравственным идеалам. Разрыв порождал ощущение ненастоящего, неподлинного, от которого каждый стремился спастись, как умел. Это художественная фиксация положения дел, граничащего с социально-философским и отчасти документальным наблюдением. На уровне композиции фильм стремится точно передать детали быта, обстановку и жизненный мир молодых людей того времени, о чём мы уже сказали. Москва перестраивается, её улицы прекрасны, но не лишены изъянов. Это натурные съёмки. Сцена поэтического вечера в Политехническом музее стала знаменитой в отрыве от фильма уже в наше время. Фактически это одно из немногих документальных свидетельств, запечатлевших реально проходившие вечера поэзии на площадках СССР. «Вечер в Политехническом» не был кинематографической постановкой, зрители в зале - это не массовка, а обычные советские люди, которые пришли вживую услышать, как декламируют свои стихи Е. Евтушенко, Р. Рождественский, М. Светлова, Б. Ахмадуллина, Р. Казакова, С. Поликарпов, Б. Окуджава. Их реакции подлинные и это становится дополнительной основой для художественного высказывания, поскольку они органично смотрятся в художественном фильме. Если жизнь так легко смешивается с кино, то это ещё одна иллюстрация того, что сама жизнь является срежиссированной и воспроизводит определённые паттерны.
Сложно сказать, насколько реалистично воспринимались эти кадры тогда, чувствовали ли зрители дистанцию между актёрской игрой и полудокумен-тальными съёмками. Логично предположить, что близкая М. Хуциеву в социальном отношении публика восприняла бы это как сопричастность историческому процессу культурной жизни, взятие его под контроль. Режиссёрский замысел состоял в том, чтобы художественными средствами уравнять перформативную силу кадров актёрской игры и документальной хроники. Вспомним, что не только «вечер в Политехе» - это реальность. Первомайская демонстрация тоже во многом снималась вживую. В интервью Евгению Безбородову автору документальной ленты «Мне двадцать лет (Застава Ильича). Фильм о фильме» (2008) Марлен Хуциев прямо говорит, что хотел в главном герое хотел показать свой внутренний конфликт и переживания. Режиссёр идентифицировал себя с Сергеем, а в его друзьях и социальном окружении картины попытался воплотить неоднозначный образ советской богемы тех лет.
Показательно, и точно неслучайно, что проблемы возникли при съёмке сцены вечеринки. Профессиональные актёры не могли убедительно сыграть равнодушных, циничных и ироничных представителей культурной элиты. Хуциеву пришлось приглашать исполнить роли своих знакомых , социальное положение которых совпадало с тем, которое требовалось изобразить на экране. Тот самый гость, ироничное замечание которого о картошке спровоцировало Сергея, это никто иной как Андрея Тарковский. Будет излишним преувеличением утверждать, что он и другие знакомые Хуциева сыграли сами себя, но им точно было знакомо не только то, о чём шла речь на таких вечеринках, они также могли безукоризненно подражать поверхностному стилю ведения подобных светских бесед. Натуралистическая линия в картине очень сильна. Хуциев изображает социальную реальность, как видело её его поколение и люди его окружения. Прежде чем перейти к заключительным пунктам нашего анализа, отдельно отметим, что генерализация переживаний героев фильма (и самого режиссёра) должна быть ограничена и помещена в свой контекст. Марлен Хуциев, несомненно, один из ведущих интеллектуалов своей эпохи, в силу таланта и наблюдательности, аналитического склада ума сумевший поймать что-то во времени, а после - талантливо это изобразить. Впечатляющий фильм может увести от тех ограничений в понимании социального, которые ему неизбывно сопутствует.
Картину Хуциева называют гениальным выражением эпохи. Показательно, в каких выражениях о кинематографе оттепели пишет отечественная исследовательница Татьяна Злотникова: «Превзойти снятые в конце 1950 и начале 1960-х годов фильмы М. Хуциева, Г. Данелии, Г. Чухрая, Г. Калатозова, М. Ромма невозможно (курсив мой - Н.А.)» [9, с. 326]. Перечисленные режиссёры стали наиболее значимыми в истории советского послевоенного кинематографа. Никто из современных российских авторов не получил столь же бесспорного признания. Марлен Хуциев снимает об обычных людях - демобилизовавшемся из армии Сергее, молодом строителе и муже Вячеславе, начинающем учёном Николае, находящейся в процессе развода Анне и многих других, чью жизнь и проблемы легко примерить на себя. Эта художественная условность существует в конкретно-историческом перформативном контексте, т.е. Хуциев не мог снять по-другому в Советском Союзе в начале 1960-х гг. Под конкретно-историческим мы подразумеваем не только объективные требования цензоров или особенности производства фильмов на стадии им. Горького, но ту ограниченность видения, которая присуща каждому, кто погружён в свою эпоху. Поэтому наивно полагать, что фильм, схватывающий «оттепель», делает это единственно возможным способом. Дело в том, что осмыслением ленты и её вписыванием в современный ретроспективный контекст заняты прежде и чаще всего наследники интеллектуальной культуры того времени. Во многом, современный гуманистический пафос гуманитарного знания, работающего с шедеврами советской эпохи, восходит к художественным опытам шестидесятников. Социально это объяснимо, но не должно заслонять критический взгляд на представленную проблематику.
Мы подробно остановились на том, что «Застава Ильича» предлагает взглянуть на индивидуализирующегося героя, который обречён стать кем-то, модель кого он сам, свободно, выберет. Это анализ, обращённый к самому нарративу и образности художественного фильма. «Застава Ильича», однако, предлагает ещё один контекст рефлексивности: собственную позицию режиссёра, который, будучи идейным прототипом героя, имеет за спиной совершенно другой опыт. После конфликта на вечеринке Сергей возвращается домой. То неявно присутствующее, но до этого момента эфемерное, «подлинное» измерение в традициях магического реализма материализуется. Сергей оказывается в землянке, где встречает своего отца, который погибнет через несколько дней. Этот разрыв повседневного реализма даёт герою возможность обрести то, чего он так искал: получить ответы на беспокоящие его вопросы. Сергей не может их лаконично сформулировать, но смысл у них один. Отец является для него бесспорным авторитетом, прожившим достойную жизнь. Сыну хотелось бы узнать, как ему жить.
Именно эта сцена вызвала возмущение Н.С. Хрущёва. После известного эпизода на выставке художников-авангардистов в декабре 1962 г. [7] в марте 1963 г. «состоялась идеологическая встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. В ходе обсуждения вопросов художественного мастерства Хрущёв позволил себе грубые и непрофессиональные высказывания в адрес <…> режиссёра кинофильма “Застава Ильича”» [4, c. 268–269]. Глава Советского государства не мог понять, как могло выйти так, что отцу нечего сказать своему сыну. У этой критики есть несколько уровней, которые могут подвести черту под нашей попыткой показать рефлексивность (со-)временности в «Заставе Ильича».
В контексте идеологического просвещения, как оно понималось партийными руководителями, генеральный секретарь совершенно верно указал на разрыв идеологического нарратива. Критика была уместна в той картине мира, в которой жил Н.С. Хрущёв, представитель старшего поколения, но выглядела смешной для тех, кто мыслил более современно, как это делал М. Хуциев и его окружение. В картине не было ничего, что могло бы повредить Советскому государству и его идеологии. Она представляла собой попытку через рефлексивное реконституирование традиции вернуть ощущение подлинности, которое подрывала «показушная» действительность (ср. со звучащим в фильме фрагментом стихотворения Р. Рождественского «Оптимисты»: «И считаю / личной / обидой / бледно-розовый / оптимизм, / показуху / высотных шпилей!..»). В таком виде трактовка этого эпизода в последующей интеллектуальной культуре стала общепринятой, подчас представляя Н.С. Хрущёва необразованным, грубым и вовсе непонимающим. Проблема в том, что отбрасывая тональность критики и вопросы эстетики, мы сталкиваемся с диалогом не художника и зрителя, но представителей двух картин мира. Правы и не-правы оба. Н.С. Хрущёв, и вслед за ним чуткая советская цензура, с филигранной точностью зафиксировали разрыв в господствующем нарративе, считали не только внешний уровень гуманистического послания М. Хуциева, но и подрывную силу, которую таила в себе картина.
Вернёмся немного назад. Остряк Николай в разговоре с друзьями произносит забавную, но двусмысленно-серьёзную фразу: «Люди делятся на тех, с кем пьют, и с кем можно разговаривать». Он обращается к своим друзьям, с которыми он, в общем-то разговаривает часто, и нередко выпивает, но разговор и взаимопонимание тем не менее утрачиваются, что показывает режиссёр. Во многом, их коммуникация становится ритуальной и будничной, поддерживается автоматическим следованием социальной норме, в то время как развитие внутренней жизни каждого из героев с необходимостью замыкает его в себе. В этом нет конфликта, друзья не виноваты, но тот опыт сообщества, товарищества, который преподносится режиссёром и более ранней советской культурой в качестве нормативного, утрачивается. Люди не становятся хуже, они просто меняются, замыкаясь в себе и своих личных интересах. Когда Сергей встречается с отцом, эта пронзительная сцена обещает нам ответ на волнующие главного героя и сопереживающих зрителей вопросы. Вот-вот, сейчас отец скажет, как нужно жить, даст герою напутствие, которому тот будет следовать. Но в реальности этой встречи сын и отец обмениваются трогательными и бессодержательными репликами, выпивают водки и навсегда прощаются друг с другом. Отцу нечего сказать сыну, но не потому, что он не знает, как жить. Он знал и осуществил это на деле: пошёл в атаку и погиб, защищая родину. Но что бы он ни сказал, это не может быть передано так, чтобы это звучало не фальшиво. Сергей как современный молодой человек с радостью бы услышал напутствие отца, но реалистичная правда в том, что это ничего бы не поменяло. Для героев фильма как сложноустроенных и эстетически точно изображённых персонажей «подлинность» никогда не будет доступна, но не потому, что «идеология» плохая, а потому, что они, став рефлексивными, динамичными и определяющими себя свободно, обречённые на выбор, уже не люди, которые могли бы слепо следовать авторитету. Сергей действительно старше своего отца, и ему предстоит самому убедиться в том, что то, что он всегда искал – это опыт подлинности во времени, принадлежащий другому поколению, другому миру, но не вневременная идея, которая могла бы наполнить его жизнь смыслом. Для Марлена Хуциева как талантливого художника это вполне ясно, но принять эту правду как гражданин, патриот и гуманист он не может.
Выводы
Советский кинематограф 60-х был важнейшей частью комплекса отечественных креативных индустрий второй половины XX века. Именно этот вид массового искусства более всего претендует на то, чтобы быть маркированным как «популярное» [23, p. 72–73], т.е. совмещает в себе одновременно несколько смысловых пластов. Произведение популярного искусства, особенно если оно качественное, одновременно работает на нескольких содержательных уровнях, каждый из которых в качестве предмета потребления адресован определённой социальной группе. Этот набор поверхностей создаёт ощущение глубины и содержания, но не следует забывать о том, что значимая часть этого содержания располагается как раз в самой «упаковке» разных сообщений в одном продукте. Говоря проще, популярность и ориентированность на зрительский успех не должны приводить к тому, чтобы культурный продукт воспринимался несерьёзно [16]. Дополнительное измерение фильмам оттепели придаёт то, что они оказываются востребованы и современным зрителем. Безусловно, через кино тех лет осуществляется преемственность воспроизведения национальной культуры, но этого недостаточно для того, чтобы объяснить, почему те фильмы «смотрятся» и сегодня самыми разными зрителями.
В предложенном социально-философском рассмотрении фильма М. Хуциева «Застава Ильича (Мне двадцать лет)» мы обратились к нескольким аспектам, которые делают эту картину современной. Важнее всего, что в киноленте показан переход к обществу, основанием действия индивидов в котором становится ситуация перманентного кризиса идентичности и смыслов. Конфликт поколений в данном случае – это органичная часть повествования, а не то, что вообще может быть преодолено или снято. Недосказанность фильма, на которую мы обратили внимание, интерпретируя сцену встречи главного героя Сергея с погибшим отцом, более всего показывает, что художественное чувство режиссёра не позволило ему пойти против правдивости эстетического видения. В конечном итоге перед нами принципиальная неразрешимость конфликта подлинности исторического события, большого нарратива, его интерпретирующего, живой исторической памяти и людей, которые не могут со всем этим жить, потому что они уже другие. Мир вокруг них тоже другой.
Для самого Хуциева изображённое – «замечательное время» [14], потому что он значительно старше своих героев. Он видит возникшую перед ними проблему в трансляции культуры и старается предложить способ её рефлексивной ретрансляции посредством диалогического художественного высказывания. Эта установка может быть интерпретирована как попытка ретрадициона-лизации, т.е. решения важнейшей для современной культуры задачи по поддержанию своей историчности. Фильм имеет ограниченный успех в этом аспекте и не решает ни одной из поставленных перед гуманистически и патрио-тически-настроенным режиссёром задач, что служит причиной конфликта с официальной советской цензурой. Опираясь на социальную и культурную теорию, мы можем утверждать, что эти задачи и не могли быть решены. М. Хуциеву удалось запечатлеть действительно современных людей, которые уже несчастливы, но ещё не поняли, что это новая норма их повседневности. Культурной индустрии, которая помогла бы им справиться, как и обществу потребления с его бесконечными и легко взаимозаменяемыми стратегиями жизненного выбора, только предстоит появиться, чтобы заполнить сбой в передаче реального. В этом контексте сегодня, уже будучи частью ностальгической культуры, фильм «Застава Ильича (Мне двадцать лет)» куда органичнее встраивается в отечественную культуру, чем это было в 60-е гг. XX века.
Список литературы Рефлексивная современность в фильме «Застава Ильича (Мне двадцать лет)» М. Хуциева
- Багдасарян О.Ю. Поколение, образовавшее субкультуру: репрезентации стиляжничества в произведениях 1990–2000-х гг. // Известия УрФУ. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2016. Т.18. №4(157). С. 127–138. DOI: 10.15826/izv2.2016. 18.4.070.
- Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. А.Ю. Асочакова. СПб.: Питер, 2008.
- Беззубиков А.О. Актуализация мифа как способ построения саморефлексирующего сюжета фильма «Застава Ильича» // Обсерватория культуры. 2019. Т.16. №6. С. 595–605. DOI: 10.25281/2072-3156-2019-16-6-595-605.
- Васильев В.А. Идеологическая трансформация «оттепели» // Социально-гуманитарные знания. 2016. №6. С. 262–274.
- Глебкин В.В. Интеллигенция // Вестник культурологии. 2015. №1. С. 221–247.
- Гордина Е.Д. Эволюция темы «Оттепели» и застоя на страницах перестроечной прессы (на материале журнала «Огонёк») // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Сер. «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». 2016. №3. С. 61–68.
- Зеленина Г.С. «Это – извращение, это ненормально»: рационализация эстетического шока в Манеже 1 декабря 1962 г. // Шаги/Steps. Т. 6. № 4. 2020. С. 52–70. DOI: 10.22394/2412-9410-2020-6-4-52-70.
- Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма. М.: Центрполиграф, 1994.
- Злотникова Т.С. Культурная память нации в массовом сознании современной России // Ярославский педагогический вестник. 2016. №3. С. 325–328.
- Ковалов О. Четвёртый смысл. «Застава Ильича»: гипотеза прочтения кинотекста // Искусство кино. 2008. №10. С. 63–72.
- Коваль О.А., Крюкова Е.Б. Кризис общности и перспективы его преодоления. Уроки Арендт и Камю // Человек. 2023. Т.34. №6. С. 161–177. DOI: 10.31857/S023620070029310-8.
- Косинова М.И. Кинорепертуар и зрительские предпочтения в эпоху «оттепели» в России // Знание. Понимание. Умение. 2015. №4. С. 293–305. DOI: 10.17805/zpu.2015.4.28.
- Люббе Г. В ногу со временем. Сокращённое пребывание в настоящем / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Куренного; под ред. В. Куренного. М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2019.
- Марлен: Марлен Хуциев в воспоминаниях друзей и коллег, документах и фотографиях / Авт. проекта и сост. А. Хржановский. М.: Рутения, 2024.
- Павлов А.В. Заметки о современности и субъективности. Модерн и пластичность // Социум и власть. 2012. №6(38). С. 5–11.
- Павлов А.В. Философия постмодерна и популярная культура // Вопросы философии. 2019. №3. С. 206–214. DOI: 10.31857/S004287440004486-9.
- Радаев В.В. Смотрим кино, понимаем жизнь: 19 социологических очерков. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2021.
- Урри Дж. Мобильности / Пер. с англ. А. Лазарева. М.: Праксис, 2012.
- Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. М.: Весь Мир, 2008.
- Харитонов Д.В. Особенности становления творческого менталитета в эпоху «оттепели» // Вестник Челябинского гос. ун-та. Сер. 2. Филология. 1997. №2. С. 52–58.
- Beck U. The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization // U. Beck, A. Giddens, S. Lash. Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Stanford: Stanford University Press, 1994. Pp. 1–55.
- Beck U., Giddens A., Lash S. (Eds.) Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Stanford: Stanford University Press, 1994.
- Feigelson K. Soviet Television and Popular Mass Culture in the 1960’s // Euxeinos. 2018. Vol.8. Iss.25–26. Pp. 72–81.
- Koselleck R. Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995.
- Stel’makh V.D. Reading in Post-Soviet Russia // Libraries & Culture. 2001. Vol.33. Iss.1. Pp. 105–112.
- Wagner P. Modernity, Capitalism and Critique // Thesis Eleven. 2001. Vol.66. Iss.1. Pp. 1–31. DOI: 10.1177/0725513601066000002.