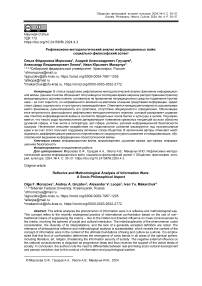Рефлексивно-методологический анализ информационных войн: социально-философский аспект
Автор: Морозова О.Ф., Груздев А.А., Леопа А.В., Макарчук И.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предложен рефлексивно-методологический анализ феномена информационной войны. Данное понятие обозначает получившую в последнее время широкое распространение практику международного противостояния, основанную на применении нетрадиционных средств подавления противника - за счет скрытого, но направленного влияния на массовое сознание средствами информации, задействуя сферы социального и культурного взаимодействия. Отмечается междисциплинарность рассматриваемого феномена, разноплановость его трактовок, отсутствие общепринятого определения. Обосновывается актуальность философского рефлексивно-методологического анализа, который раскрывает содержание понятия информационной войны в контексте предельных основ бытия и культуры в целом. Подчеркивается, что такого рода противостояние детерминирует появление кризисных тенденций во всех областях духовной сферы, в том числе в литературе, арт-сфере, религии, угрожая информационной безопасности социума. Негативное внешнее воздействие на национальное сознание маскируется под прогрессивные идеи и за счет этого получает поддержку активных слоев общества. В заключение авторы отмечают необходимость дифференциации реального перспективного социокультурного развития и псевдоэволюции, обусловленной ведением информационно-психологической войны.
Информационная война, мировоззрение, духовная сфера, арт-сфера, информационная безопасность
Короткий адрес: https://sciup.org/149145008
IDR: 149145008 | УДК: 172 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.3
Текст научной статьи Рефлексивно-методологический анализ информационных войн: социально-философский аспект
,
,
,
В силу актуальности и специфики феномена информационные войны стали объектом исследования в ряде наук (Бухарин, Цыганов, 2007; Воронцова, Фролов, 2006; Панарин, 2012; По-чепцов, 2000), соответственно, можно констатировать, что предметно-проблемное поле в этой области знания достаточно разнопланово и само по себе требует упорядочивания.
Как любой иной феномен подобного рода, информационные войны имеют специфические черты, связанные с социокультурными условиями и детерминантами их возникновения и развития. Поэтому в философском познании возникают новые задачи, связанные с приведением методологического инструментария фундаментальных источников информационных войн в соответствие с современными мировоззренческими парадигмами.
Широта проблемного поля позволяет констатировать диссонанс между тематической разбросанностью, несоотнесенностью представлений различных наук о данном явлении и стремлением к наиболее адекватному освещению информационных войн в контекстах современной военной практики.
Теоретическое осмысление рассматриваемого противостояния дает все основания сделать вывод о наличии антагонистичных исследовательских векторов в изучении данного феномена: центробежном и центростремительном. Естественно встает вопрос об их соотнесении, что и позволило обозначить новый подход к рассмотрению информационных войн в науке. Стоит отметить, что к вопросам рефлексии и методологии исследования последних обращается каждый, кто изучает проблемы возникновения информационного противостояния, механизмы зарождения и разрешения конфликтов в информационной сфере, пытается увидеть перспективы развития данного феномена.
Термины «рефлексия», «методология», «методологические основы» активно используются в литературе, посвященной обозначенной проблематике, но в то же время рефлексивно-методологическое знание выглядит достаточно мозаично, что не способствует созданию целостного каркаса теории информационных войн. Остается неопределенным как сам состав знания о них, так и категориальный аппарат, дефиниции основных понятий; нет ответов на вопросы, каким образом выстраиваются модели информационного противостояния и определяются пути его разрешения.
Мы исходим из того, что в рефлексии нуждается любое научное знание. Это принципиально важное положение детерминировано необходимостью контроля над процессом получения, формирования и анализа научных представлений1. При этом рефлексивные установки распространяются на все структурные компоненты методологии и ее уровни: философские основания, социальные цели, тезаурус базовых и периферийных понятий, специфический язык, методы исследования, проектирования и прогнозирования, а также критерии эффективности.
Чтобы научная рефлексия и методология выполняли свои функции, необходимо проследить, как в исследовательской практике соотносятся составляющие их процессы: результаты первой составляют основу для формирования второй и наоборот. Отметим, что конструктивность методологии без критико-аналитической фазы обработки научного знания значительно уменьшается, а рефлексия постоянно нуждается в методологических механизмах. Кроме того, успешность исследования информационных войн зависит от умения сочетать принципы научной рефлексии со степенью соответствия имеющейся методологии тем идеалам и нормам, которые уже утвердились в практике научного сообщества, с особенностями ее содержания и структуры в контексте видоизменений базовых компонентов общенаучного и конкретно-научного знания.
Рефлексивно-методологический анализ информационных войн обусловлен практикой, определяющей динамичные преобразования представлений о них в ходе развития данного феномена и в зависимости от специфики культуры. С течением времени модифицируются также логические основания и методы образования категориального аппарата теории информационных войн.
Как показывает обзор литературы, достаточно широко распространена так называемая элементарная рефлексия, то есть самообращенность сознания индивидов, участвующих в опросах об оценке и смысле информационных войн. Что касается научной рефлексии, то критика и анализ представлений о данном феномене осуществляются практически во всех отраслях гуманитарного знания, достаточно обратить внимание на социологические, политологические, психологические исследования (Волковский, 2003; Красовская, 2016; Леопа и др., 2022; Почепцов,
-
2 015). Вместе с тем назрела потребность философского рефлексивно-методологического анализа, который позволит раскрыть суть понятия информационной войны в контексте предельных основ бытия и культуры в целом. В содержательном плане он может включать следующие исследовательские блоки:
-
– рассмотрение мировоззренческих оснований информационных войн, исходя из положения, что социум является системой, в которой материальное и духовное образуют единство, наличествуют взаимопереходы, взаимодействия и смешение феноменов;
-
– рефлексия разнообразных компонентов знания об информационных войнах для выяснения того, насколько правомерно применение тех или иных методологических подходов;
-
– обобщение теоретических знаний об информационной войне, определение того, каким образом трактовки отдельных наук обеспечивают формирование общего содержательного поля данного феномена;
-
– интерпретация форм и методов научного исследования с точки зрения той или иной картины мира.
Рефлексивно-методологическая практика репрезентации конкретного дисциплинарного знания включает в себя тезаурус как базовых, так и периферийных понятий. Обращают на себя внимание разночтения в определениях информационной войны, идеологической борьбы, что вызвано различными ракурсами рассмотрения данного феномена с точки зрения истории, психологии, социологии и других отраслей знания, и это закономерно, но иногда затрудняет научный диалог. На данном этапе конкретизируются субстратный, структурный, функциональный, системный, информационный подходы, метод моделирования, единства исторического и логического; актуализируются рефлексивные механизмы и инструменты научного поиска; на технологическом уровне прорабатываются методы планирования, прогнозирования, проектирования отдельных задач и проблем.
В свете сказанного становится очевидным, что феномен информационной войны нуждается в анализе с позиций трансдисциплинарности: имеется необходимость досконального рассмотрения объекта с позиций различных гуманитарных и общественных наук в рамках единого исследования, избегая методологической полифонии. Рефлексивные изыскания здесь должны быть осуществлены коллективным субъектом в зависимости от стратегии и целей научного поиска, которые могут трансформироваться поэтапно. При этом широко может быть использована миграция и ассимиляция компонентов дисциплинарной методологии. Пути для рефлексивно-методологической практики различны, поэтому их определение должно быть обусловлено логикой решения конкретных задач.
Среди исследователей различных направлений есть серьезные разногласия не только при установлении того, какое место занимает информационная война в общей картине мира, но и того, каковы субстратные, структурные, функциональные ее характеристики. Несмотря на то, что в настоящее время не выработано общепризнанного научного определения информационной войны, мы уже имеем ряд широких, контекстуальных дефиниций, предлагаемых общественными науками. Мы не ставим задачу предложить свое определение данному понятию, но полагаем необходимым зафиксировать ряд его существенных признаков, которые помогут реализовать исследовательскую цель данной работы: концептуализировать с философских позиций имеющуюся рефлексивно-методологическую практику в отношении рассматриваемого феномена. В этой связи отметим следующее.
Во-первых, обратим внимание на то, что информационно-психологическое противостояние превращается сегодня в доминирующий вид борьбы между субъектами исторического процесса. Витальный страх перед применением ядерного и других видов оружия, которое является обою-доопасным, заставляет человечество обратиться, как представляется, к менее опасным, но весьма действенным формам противостояния.
Во-вторых, информационно-психологические войны приобретают характер тотальных противодействий в том смысле, что в них вовлечены не только военнослужащие или количественно ограниченные субъекты и слои населения. Не остается ни одной сферы, где бы не происходила явная или скрытая борьба, начиная от экономики, политики до различных элементов культуры – материальной или духовной. Этим, в частности, объясняется, что информационно-психологические войны стали объектом внимания различных наук, в первую очередь, конечно, общественных и гуманитарных.
В-третьих, информационно-психологическая война – явление комплексное, которое начинает приобретать системный характер. Это идеологическое противостояние, использующее психологические и когнитивные механизмы информации и дезинформации, переходы массового в индивидуальное, открывающее каналы связи между когнитивными факторами и поведенческими.
В-четвертых, комплексность прирастает многоуровневостью. В информационно-психологических войнах участвуют коллективные и индивидуальные субъекты: государства, общности, слои населения, масс-медиа, отдельные личности, поэтому информационные потоки имеют многочисленные пересечения по вертикали, горизонтали, а также в системе «вызов - ответ».
В-пятых, наличие диаметрально противоположных целей у субъектов порождает их конфликт, в разрешении которого задействованы как политические, так и психологические инструменты. Более того, на результаты борьбы оказывают влияние технические средства разворачивания военных действий, их совершенство или несовершенство. С помощью них информация может уничтожаться, целенаправленно видоизменяться, трансформироваться, модифицироваться и т.д. Это тайная война, успех в которой определяется умением противников не допустить организованного сопротивления.
В-шестых, результаты противоборства в информационном поле зависят от того, в какой социальной системе - устойчивой или неустойчивой - оно происходит. Здесь положительный или отрицательный результат воздействия не может быть гарантирован. Предлагаемая информация может вызывать следствия, далекие от ожиданий субъектов, вплоть до ее неприятия или же мотивации действовать вопреки. В информационно-психологических войнах сосуществуют воздействие и противодействие ему, искусство нападать и защищаться, естественно-научное знание об информации, философия и психология.
И, наконец, в-седьмых: поскольку информационно-психологическая война не ограничена отдельным локусом и фиксированным числом участников, то задачей исследователя становится проникновение в то идейно-смысловое ядро социокультурной системы, которое обнаруживается в философско-культурологическом анализе данного феномена. Также обращает на себя внимание, что, раскрывая связи и взаимодействия в информационно-психологической войне, мы не можем игнорировать сознательно и целенаправленно конструируемые механизмы регуляции и управления. Они используются не только изолированно в экономике, политике, на бытовом уровне, но и в социокультурной системе в целом. Соответственно, детерминанты обнаруживаются в предпосылках и условиях возникновения информационных войн во всех их проявлениях.
Философское осмысление рассматриваемого феномена позволяет констатировать, что информационная культура не является неким квазиабсолютом, обнимающим и порождающим в духовном мире «всё и вся». Есть, безусловно, рациональное зерно в том, что мыслители Нового и Новейшего времени видели в культуре некое демиургическое начало, творящее современный мир, и связывали кризисные явления в обществе с утратой культурного контекста духовного мира человека технической цивилизации и общества потребления. Отечественные стандарты теоретизирования подводят к мысли о том, что информационная культура не может быть представлена самодостаточным онтологичным основанием, она вторична, поскольку в ней наличествуют символизация и отчуждение. Так возникает требование перейти в некую первореальность во всей ее полноте, характеризующуюся неизмененными качествами. В противном случае культурные символы выглядят как искусственно созданные конструкции, задуманные идеологами противоборствующей стороны и отвечающие их сиюминутным задачам. Чтобы противостоять этому, и нужно реализовать потребность «прорваться» сквозь символы к первореальности.
В информационной культуре присутствует триединство аспектов: духовно-личностного, интерсубъективного, включающего информационное поле общественной системы, инфосферу во всем ее многообразии, и сверхкультурного, который уводит субъекта в своеобразную трансцен-денцию, скрытую от обыденности, закодированную в объективированном духовном мире, способную вызывать почти мистический трепет и вдохновение.
В информационной культуре личности образуется своеобразный «солярис», характеризующийся неявным переплетением культурных дискурсов и смыслов, с которыми человек себя идентифицирует или, напротив, которые воспринимает как чуждые. При этом реализуются личностные фундаментальные потенции.
Информационная культура личности - это сфера ее креативной активности, в рамках которой субъект избирательно воспринимает, перерабатывает информацию, готовится её транслировать и действовать в соответствии с ней. Поэтому мир информационной культуры человека, подвергающийся нападению в ходе гибридной войны, не является чем-то онтологически статичным, завершенным и значительно трансформируется. Отсюда задачей того, кто призван организовать противодействие нападающим и обеспечить информационную защищенность граждан в ходе психологической войны, является приведение сознания человека в «не-дуальное» состояние, которое позволит ему противостоять манипулированию, блокировать нежелательные воздействия, сохранять способность к адекватному восприятию информации.
В ходе рассматриваемого типа войны противниками активно используется мозаичность данных. Выстроенная фрагментарно информация воспринимается непроизвольно, но ее разрозненные отрывки связываются воспринимающими субъектами в зависимости от их интеллектуального и духовного уровня. Обладая силой «сцепления», они способны образовать несвойственные менталитету структуры, в результате чего в общественном и личностном сознании возникают противоречивые идеи.
Культурный код как базовая единица социокультурной жизни, олицетворяет собой ее метауровень, является способом самоорганизации общества. Благодаря такому свойству, как универсальность, он «работает» в историческом времени-пространстве и тем самым обеспечивает сохранение связи времен и поколений, традиций. Его статичность является гарантом того, что в результате информационно-психологической войны сохранится духовная стабильность общества. Кроме того, культурный код выступает самодостаточным образованием для укрепления социальной идентичности, поэтому в информационно-психологической войне важно не только беречь его, но и использовать как надежный щит, отражающий разрушительные для целостности социума нападения.
С концептуальным стержнем культурного кода призваны знакомить общественные практики, в ходе которых социализирующаяся личность осваивает образцы поведения, предлагаемыми обществом, участвует в работе институтов, которые демонстрируют и транслируют социально-значимые продукты мира культуры, а также с произведениями искусства. В данных феноменах в концентрированной форме содержится «кодировка» субъектов, которые одновременно становятся и донорами, и реципиентами информации. Именно в поле их деятельности происходит разрешение того противоречия, которое может перерасти в информационно-психологическую войну.
Культурный код имеет открытый характер, что делает его исторически изменчивым, способным отвечать на вызовы современности, поэтому в ходе информационно-психологических войн на прочность проверяются все параметры культурного кода: его предметность, знаковость и идеальность.
В наиболее распространенной модели информационных войн признается, что зародыши идеологического противостояния и противоборства появляются в элементах материальной культуры – в технике, бытовой сфере, предметах потребления, одежде; в социальной культуре – возникают новые лица с соответствующей манерой действовать в экономических структурах, на политической арене, в сфере быта, с новым стилем поведения; в культуре духовной – нечто чуждое внедряется в сознание, в кинематограф, произведения искусства, язык и т.д.
В процессе «освоения» и трансляции подобных материальных ценностей возникает новая архитектура массового сознания субъектов информационных войн. При этом непревзойденной остается вековая мудрость религиозного толка: «Не бойтесь убивающих тело, бойтесь убивающих душу»1.
В данном случае мы отметим только два значимых фактора ‒ трансляция ценностей и предметно-вещный мир.
Информационные войны порождают кризисные проявления во всех областях духовной сферы, отвечающих за формирование аксиологической картины мира у людей. Для населения, особенно для подрастающего поколения современной России, преодолевающего сложности мировоззренческих преобразований, болезненными оказываются искажения отечественной истории, сути русской идеи, национального культурного кода.
По мере развития технического прогресса и совершенствования бытовой сферы объектом информационного воздействия становится предметно-вещный мир как латентный носитель данных. Порождаемый в ходе информационных войн мир – это мир искусственный, мир «второй природы», целенаправленно создаваемый, управляемый и регулируемый. Субъект информационно-психологической войны использует продуцированные артефакты культуры, и материальной, и духовной, которые ненавязчиво, исподволь внедряют в сознание реципиента определенную информацию. Через них в концентрированном виде изменяются объективные условия его существования, культурная традиция, личность субъекта культурно-исторического процесса.
Безусловно, невозможно игнорировать массу предметов потребления, которые делают жизнь современного человека легче и приятнее. Наше существование немыслимо без бытовой техники, электроприборов, теле-аудио-аппаратуры, смартфонов, телефонов и т.д. Обладание вещами становится статусным признаком личности, показателем ее уровня жизни. Но человек неизменно превращается из господина техники в ее раба. Эта общая тенденция не может оставаться незамеченной субъектами информационно-психологических войн. Средства массовой информации и реклама закрепляют в общественном сознании желание во что бы то ни стало не отстать от технического прогресса, что определяет мотивацию поведения человека и может деформировать его стремление к достижению определенного уровня материального благополучия.
В процессе социализации, соприкасаясь с предметно-вещным миром и входя в него, человек формирует свои мировоззренческие приоритеты и привычки. Источником духовности становится народное художественное творчество. К счастью, Россия относится к числу тех стран, где оно продолжает развиваться как составляющая национальной культуры. В народном художественном творчестве нет противопоставления «свой – чужой», акцент делается на общечеловеческих ценностях и, конечно, на любви к созданному в рамках своей культуры.
Отметим, что сегментация рынка художественных промыслов разнообразна. Он включает товары как массового потребления, которые широко востребованы населением в силу сравнительно невысокой стоимости (подарки, сувениры), что позволяет через них интегрировать в общественное сознание национальные идеи, так и ограниченного, высокие цены на которые делают их доступными лишь для части общества. Однако и те, и другие составляют основу национального культурного достояния, повышают информированность граждан об истинных приоритетах, фундирующих этническое самосознание.
В условиях информационно-психологических войн мы считаем позитивной тенденцию к созданию Домов ремесел и народного творчества, Центров прикладного творчества (например, на базе ОАО «Красцветмет» в Красноярске), небольших мастерских, где любители могут реализовать свои потенциальные возможности и стремления. Их деятельность перспективна в плане трансляции в общество национальных приоритетов, традиционных ценностей и исторических умений, что повышает сопротивляемость граждан негативному информационному воздействию со стороны.
Следующей составляющей культурного кода является язык. Имея знаковую природу, он оказывает влияние на социокультурную целостность не только через логотерапию и психотехники, но и через артефакты материальной культуры. Здесь актуализируется форма культурного общения, построенная на орудийно-знаковой деятельности людей, исторически явившейся предпосылкой возникновения культовой практики, ритуала, которые сознательно или стихийно используются субъектами социально-культурного воздействия или же противостояния. Знаковые параметры культурного кода сами по себе исторически изменчивы, их реконструкция требует специальных исследований. Сегодня они широко используются, например, в становлении корпоративной культуры, что дает возможность человеку, воспринимая определенные символы усваивать и предлагаемую в компании систему ценностей.
Обратимся к рассмотрению влияния на информационную сферу искусства. Это очень важно в условиях стирания и видоизменения межкультурных границ, когда диффузные процессы в сфере арт стали угрожать процессам национальной идентификации и самоидентификации. Благодаря доминанте культурного кода, в искусстве функционируют многочисленные разновидности менеджерских практик, которые отличаются побудительно-мотивационным характером регламентации жизни. В определенных условиях арт-сфера также способна привести в действие механизмы консолидации и самоорганизации в мире культуры.
В настоящее время востребованы инструменты управления визуальными искусствами, среди которых: кино, телевидение, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, музейная и выставочная деятельность. Достаточно эффективно развивающиеся креативные и культурные индустрии охватывают широкий круг территорий, целенаправленно привнося в ментальные конструкции дополнительные ценности и смыслы. Музыкальные композиции, включенные в арт-терапию, врачующие или деформирующие душевное состояние человека, могут стать побудительными импульсами, призывающими к защите или нападению в условиях информационно-психологической борьбы. Так возникает социальный антропологический опыт выработки идей и построения новых отношений.
Распространившиеся в результате глобализационных культурных процессов образцы мышления и поведения, вестернианские тренды взаимодействия породили новую тенденцию в массовой культуре - воспитание насилием и страхом, которые являются действенными средствами управления личностью, социальной группой и обществом в целом. В восточной и отечественной культуре подобные эмоции относятся к факторам, разрушающим «психическую энергию» человека. Именно страх оказывает негативное влияние на психологическое состояние человека и его способность сопротивляться угрожающим обстоятельствам. На фоне социальной нестабильности и продолжающихся открытых военных действий хоррор-индустрия становится востребованным инструментом информационно-психологического воздействия на массы. Такого рода сюжеты активно включаются в информационно-психологическую войну и путем достижения особых эмоциональных состояний персонажей через посредство масок активизируют дидактические возможности кинематографа в этическом и эстетическом воспитании.
Помимо хоррора телевидение предлагает обществу духовный идеал, репрезентируемый в сериалах низкого качества - «мыльных операх», по сюжету которых никто не трудится, редко читает и учится, а все живут «красиво». Восприятие таких моделей поведения с экрана провоцирует интенсификацию продвижения культа потребления с параллельной деградацией ключевых общечеловеческих идеологий, что в рамках информационно-психологической войны является грозным оружием на уровне массового сознания.
Одной из молодых социокультурных практик и проводников (или разрушителей) культурного кода является шоу-бизнес. Сегодня он превратился в достаточно развитый институт, который удовлетворяет потребности и интересы человека, а через это регулирует социальные отношения. Он оказывает влияние на обеспечение устойчивости или изменчивости социокультурной жизни.
В стремлении заполнить духовный и интеллектуальный вакуум в обществе, по-новому организовать досуг людей создаются интересные привлекательные для массовой аудитории шоу и игры. Вероятно, еще предстоит внимательно исследовать и оценить последствия их популярности для развития духовного мира человека и общества. Но то, что эти последствия неоднозначны, уже очевидно.
Таким образом, информация сегодня превратилась в базисный фактор исторического процесса, значительно активизируется ее социотворческая функция. Нарастающее глобальное противостояние в информационном поле требует исследования его детерминант. В ходе так называемых гибридных войн появляется особый социально-культурный мир, который выступает одновременно и результатом, и источником информационно-психологического противостояния. Поскольку общество есть мир культуры, то методологической основой исследования причин, перспектив, направлений информационно-психологической войны может стать принцип культуроцентризма, способный обнаружить идейно-смысловое ядро происходящих в обществе событий. С помощью анализа культурного кода социальной системы становятся очевидными тайные, скрытые механизмы информационно-психологических войн, функционирующие в материальной и духовной культуре.
Обычно алгоритм ведения войны сводится к дихотомии «чужое – свое», формируются способы защиты, методы нападения. Мы же считаем возможным и необходимым представить иную сторону информационно-психологических войн. Они основаны на неявном противодействии, как правило, рассчитанном на перспективу. Информационные потоки при этом «обряжаются» в маску «своего», репрезентируются как нечто новое, современное, сверхактуальное, и само воздействие на массовое сознание ненавязчиво, опосредованно, завуалированно, однако проводит нужные идеи. Традиционное в этом случае может быть объявлено устаревшим, а его сторонники – ретроградами, противниками прогресса, утопистами, стремящимися повернуть развитие вспять. Манипуляция сознанием скрыта, более того, она сопровождается уверениями «ничего в том страшного», «просто это другое» на уровне науки – допустимый и даже необходимый плюрализм. Однако беспечность в вопросе информационно-психологического противостояния в условиях современных гибридных войн может обернуться упущенным временем и потерей стратегически значимых позиций в социокультурном отношении.
Список литературы Рефлексивно-методологический анализ информационных войн: социально-философский аспект
- Бухарин С.Н., Цыганов В.В. Методы и технологии информационных войн. М., 2007. 382 с. EDN: QVNDOH
- Волковский Н.Л. История информационных войн: в 2 ч. СПб., 2003. Ч. 1. 512 с.
- Воронцова Л.В., Фролов Д.Б. История и современность информационного противоборства. М., 2006. 192 с.
- Красовская О.В. Информационная война как коммуникативный феномен // Политическая лингвистика. 2016. № 4 (68). С. 53-59. EDN: WKYFWL
- Леопа А.В., Фельде О.В., Волчок К.В. Информационно-психологическая война в философском и лингвистическом осмыслении. Красноярск, 2022. 152 с. EDN: OPMTTR
- Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны. М., 2012. 260 с.
- Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.; К., 2000. 576 с.
- Почепцов Г.Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. М., 2015. 256 с.