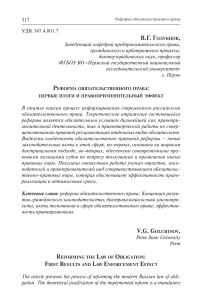Реформа обязательственного права: первые итоги и правоприменительный эффект
Автор: Голубцов В.Г.
Журнал: Пермский юридический альманах @almanack-psu
Рубрика: Предпринимательское право, гражданский и арбитражный процесс
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье описан процесс реформирования современного российского обязательственного права. Теоретическое отражение состоявшейся реформы является обязательным условием дальнейшей как правоприменительной деятельности, так и правотворческой работы по совершенствованию правовой регламентации отдельных видов обязательств. Выделены особенности обязательственно-правовой реформы - новые законодательные акты в этой сфере, во-первых, основаны на широком доктринальном подходе, во-вторых, обеспечены своевременными правовыми позициями судов по вопросу толкования и применения новых правовых норм. Показана совместная работа ученых-юристов, законодателей и правоприменителей над совершенствованием обязательственно-правовых норм, которая обеспечивает эффективность правореализации в оптимальные сроки.
Реформа обязательственного права, концепция развития гражданского законодательства, доктринальная основа законопроекта, акты толкования в сфере обязательственного права, эффективность правоприменения
Короткий адрес: https://sciup.org/147228334
IDR: 147228334 | УДК: 347.4.001.7
Текст научной статьи Реформа обязательственного права: первые итоги и правоприменительный эффект
Нынешняя реформа российского гражданского права, свидетелями которой мы являемся – процесс очень непростой, широко обсуждаемый и еще далекий от завершения – может явиться и, смеем надеяться, явится примером организации законотворческой работы, которая войдет в историю развития права в качестве процесса, имеющего самостоятельную историческую и правоприменительную ценность.
Так уже было в истории России при разработке проекта Гражданского уложения Российской империи, когда император Александр III, 12/26 мая 1882 года, утвердил высочайшее повеление «Об общем пересмотре действующих гражданских законов и о составлении проекта гражданского уложения»1. Однако, как известно, колоссальная работа, проделанная при правлении двух императоров, цветом тогдашней российской юриспруденции, не увенчалась результатом – проект так и не был принят.
В отличие от не слишком удачного опыта наших великих соотечественников, не сумевших в силу объективных причин воплотить плоды своих трудов в действующие законы, результат нынешней реформы – не менее сложной как с содержательной, так и с организационной точек зрения – уже осязаем и усилия современников на этом треке вселяют надежду на скорейшее завершение этого принципиально важного этапа развития современной российской правовой системы.
Колоссальный положительный опыт, в том числе организационный, разработчиков Проекта гражданского уложения (надо полагать именно он был положен в основу организации деятельности по раз- работке нового отечественного гражданского законодательства) был учтен при организации работы над проектом нового гражданского кодекса, что отрадно и заслуживает поддержки даже с точки зрения утилитарной – формирования бережного отношения к отечественным традициям, в том числе в сфере нормотворчества.
Как известно еще в 1999 г. в России была создана особая институция – Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ1, который и занялся с привлечением широкой юридической общественности комплексной работой по определению основ и концептуальных подходов к совершенствованию гражданского законодательства.
Советом было подготовлено семь концепций совершенствования (развития) гражданского законодательства: общих его положений, законодательства о юридических лицах, недвижимых вещах, ценных бумагах и финансовых сделках, вещных правах, общих положений обязательственного права, норм об исключительных правах и норм о международном частном праве.
Если говорить о начале работы, собственно, над проектом гражданского Кодекса Российской Федерации, – то она началась с указа Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»2, проект которого и был подготовлен Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
В соответствии с указом сначала была подготовлена Концепция развития гражданского законодательства (которая в рабочем варианте представляла собой документ объемом более 700 страниц), активно обсуждалась на разных площадках и в разных форматах, изменялась и совершенствовалась. В результате чего на утверждение Президенту РФ был представлен конечный вариант Концепции в объеме около 140 страниц, содержащий самые принципиальные предложения.
-
7 октября 2009 г. Концепция была одобрена на заседании Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством Президента Российской Федерации. В де-
кабре 2010 г. был подготовлен единый проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был внесен в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации 2 апреля 2012 г., где получил номер 47538-6, а 27 апреля 2012 г. был принят в первом чтении.
Дальнейшая судьба законопроекта повторяет судьбу проекта Гражданского уложения Российской Федерации в той части, в какой законодателями было принято абсолютно, как представляется, оптимальное решение о принятии законопроекта по частям, с тем, чтобы та часть реформированного законодательного массива, по которой на основе проведенных концептуальных разработок был достигнут консенсус, в том числе с многочисленными заинтересованными группами, наличие которых неизбежно в процессе обсуждения «экономической конституции» страны, стала действующими законами.
Оставив за рамками полемику в отношении оптимальности принятого решения и обсуждение судьбы тех частей законопроекта, которые еще не стали законами (по достаточно, как представляется, объективным причинам, связанным с серьезностью намерений разработчиков и законодателей, замахнувшихся на решение колоссальной сложности задачи), обратимся к более конструктивным рассуждениям о правоприменительном эффекте, который возник в связи с принятием части принципиальных и важнейших изменений, поскольку жизнь не стоит на месте, а усилия законодателей и разработчиков, вне всяких сомнений, приведут к завершению начатой работы, вопреки массе как обоснованной, так и не всегда обоснованной критики, что неизбежно при реализации столь масштабных замыслов и проведении столь радикальных и значимых реформ.
При этом очевидно, что пока не будет принят раздел II Гражданского Кодекса РФ, реформу нельзя считать завершенной, потому что основные принципиальные положения касаются регулирования вещных прав – и это еще предстоит сделать.
Далее запланирован следующий этап реформы – это пересмотр традиционных договоров по части второй Гражданского Кодекса РФ. Но переход к этому этапу невозможен без понимания и осмысления результатов реформирования общей части обязательственного права.
С 1 июня 2015 г. вступили в силу изменения и дополнения в раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) «Общая часть обязательственного права», принятые Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть пер- вую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – закон № 42-ФЗ)1 – на них мы как раз и остановимся (не касаясь при этом изменений, введенных законопроектом о залоге и цессии2).
Предваряя общий анализ существующей в этой сфере ситуации, заметим, что работа над общей частью обязательственного права может быть признана наиболее успешной (как и в случае с проектом книги Гражданского уложения Российской империи, посвященной обязательственному праву). Здесь можно отчасти согласиться с тем, что говорили еще дореволюционные цивилисты о том, что «Русское право об обязательствах является самой развитой частью гражданского права. Реформирование этой части наиболее легка; ею не затрагиваются интересы иногда политические…»3, но при этом отметить, что такой результат обусловлен в первую очередь скрупулезностью разработчиков, предложивших законодателю теоретически и структурного выверенный проект изменений, явившийся плодом весьма обширной дискуссии, имевшей место на стадии разработки проекта, а не после его принятия, как это зачастую бывает.
Между тем, необходимо отметить, что реформирование в широком смысле слова не заканчивается принятием нормативных установлений, которые хоть и явились результатом серьезной работы, но все же не могут быть лишены недостатков, да и имущественный оборот работа над общей частью обязательственного права может быть признана наиболее успешной – это весьма подвижная, наиболее активно меняющаяся вслед за изменением экономических реалий материя, что приводит в выводу о том, что именно правоприменение должно явиться тем индикатором, который позволит оценить эффективность проведенных изменений и полезность их для оборота и в конечном счете – для адресатов реформы – субъектов гражданских правоотношений.
Отрадно отметить, что в этом процессе как на стадии разработки Концепции и законопроекта, так и сейчас на стадии его применения активную роль играли и играют судебные инстанции, что принципиально важно, поскольку субъекты правоотношений в этом случае не остаются один на один с новейшим законодательным массивом, а при активном участии судов в формате своевременного формирования практики применения нового законодательства достигается цель получения адекватного произведенным затратам правоприменительного эффекта.
В первую очередь речь идет, конечно, о разъяснениях высших судебных инстанций, касающихся применения обновленных положений законодательства о договорах и обязательствах. Верховный суд РФ занял в этой сфере самую активную позицию, что также является важнейшей особенностью нынешней реформы и характеризует усилия заинтересованных субъектов как реально направленные на достижения конечного результата.
Конечно, нельзя не вспомнить, что в свое время, когда 21 октября 1994 г. новый гражданских кодекс только был принят, уже 28 февраля 1995 г. появилось совместное постановление Пленума ВС РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»1, а 1 июля 1996 года было принято также совместное постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»2 – именно тогда и была заложена «традиция» своевременного и если можно так сказать «синхронного» с законодателем разъяснения высшими судебными инстанциями вновь принятых норм гражданского законодательства.
По этому пути пошла высшая судебная инстанция и в этот раз, приняв постановление от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»3.
Достаточно серьезный по объему документ – постановление содержит 133 пункта – включает по большинству своему (за исключение необходимого в целях достижения результата цитирования новелл) принципиальные для формирования практики разъяснения, в том числе касающиеся обязательственного права.
Так, получили разъяснения положения, касающиеся практики применения статьи 10 ГК РФ о злоупотреблении правом, сохранившие вызывающее критику расширительное ее понимание, допускающее, в частности, признание сделок недействительными на основании статей 10 и 168 ГК РФ, – то есть разрешены принципиальные теоретические вопросы, имеющие серьезный правоприменительный эффект, которые активно обсуждались на страницах юридической печати, и по которым мы также ранее высказывали свое мнение1
Появились разъяснения о порядке заключения и исполнения корпоративного договора, что, конечно, относится к сфере корпоративных прав, но имеет и прямое отношение к праву обязательственному.
Есть и непосредственно относящиеся к обязательственным правоотношениям разъяснения. Так, в практике возникал вопрос о средних процентных ставках в зависимости от срочности вклада, о том, какие ставки нужно применять – соответствующие разъяснения появились и сняли существующие проблемы. Достаточно четко выписана спорная до недавнего времени в практике позиция о соотношении неустойки и процентов по ст. 395 ГК РФ и возможности применения к таким санкциям положений ст. 401 ГК РФ, ст. 333 ГК РФ.
Особо хочется также отметить имеющиеся в постановлении разъяснения, касающиеся новой нормы, закрепленной в ст. 317.1 ГК РФ. После этого, будем надеяться, закончатся затянувшиеся дискуссии о природе процентов годовых, каковые могут быть: законной неустойкой, специальная мерой ответственности, а также платой и регулируются всякий раз по-особому, указания на что четко сформулированы в постановлении.
Однако, в этот раз – и это является, как представляется, достаточно позитивной особенностью современного этапа реформирования гражданского законодательства – высшая судебная инстанция не ограничилась единственным (пусть и достаточно объемным и содержательным) разъяснением положений вновь принятого законодательства, а продолжила этот процесс в достаточно активном ключе.
Применительно к обязательственному праву после принятия соответствующего раздела кодекса появилось еще несколько достаточно важных разъяснений Пленума Верховного суда РФ, сыгравших, в определенном смысле, на опережение, что позволило сформировать изначально стабильную практику применения положений законодатель- ства, а не исправлять издержки правоприменения с учетом практики самого Верховного суда РФ.
29.09.2015 было принято постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 (действующее на сегодня в редакции от 07.02.2017) «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»1, в котором разъясняются спорные вопросы применения норм об исковой давности, в частности, соответчиками (по соответствующим обязательствам), третьими лицами, в случае замены ответчика. Разъяснено, что срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, а срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (статья 330 ГК РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки. Отдельно отметил Верховный суд РФ в упомянутом постановлении также то обстоятельство, что в случае предъявления иска о взыскании лишь суммы основного долга срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки продолжает течь, а также то, что согласно пункту 1 статьи 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям, в том числе возникшим после начала течения срока исковой давности по главному требованию.
Отдельно необходимо обратить внимание на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»2, которое было призвано снять многочисленные спорные вопросы, связанные как с принятием новых норм, так и разрешить существующие проблемы в сфере применения норм об ответственности, в том числе и в первую очередь по обязательствам.
Так, в постановлении разъяснено, что по общему правилу стороны обязательства вправе по своему усмотрению ограничить ответственность должника (пункт 4 статьи 421 ГК РФ), кроме случаев, ког- да это нарушает законодательный запрет (пункт 2 статьи 400 ГК РФ) или противоречит существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства. Подробно разъяснены вопросы, связанные применением с возмещением убытков при прекращении договора (статья 393.1 ГК РФ). Особо указано на применение статьей 406.1 новой редакции ГК РФ, устанавливающей правила о возмещение потерь, которые являются новеллами Кодекса, так же, как и положения об ответственности за недобросовестное ведение переговоров (статья 434.1 ГК РФ). Отдельно разъяснены положения об исполнении обязательства в натуре, в частности порядок и условия применения положений о судебной неустойке (пункт 1 статьи 308.3 ГК РФ), являющейся новеллой действующего законодательства. В частности, указано, что уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ), правила пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ не распространяются на случаи неисполнения денежных обязательств, а начисление предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов на сумму судебной неустойки не допускается. Разъяснен целый ряд спорных вопросов, касающихся применения ст. 395 ГК РФ, в частности, указано, что положения статьи 333 ГК РФ в этом случае не применяются (пункт 6 статьи 395 ГК РФ), а проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства, к указанным в статье 319 ГК РФ к процентам не относятся и погашаются после суммы основного долга. Установлено также соотношение статьей 317.1 ГК РФ с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ и прямо указано, что в отличие от процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, проценты, установленные статьей 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, а представляют собой плату за пользование денежными средствами. Более 20 пунктов постановления посвящены вопросам начисления и уплаты неустойки. В частности, разрешен бывший долгое время спорным в практике вопрос о начислении неустойки при прекращении договора, в частности установлено, что если при расторжении договора основное обязательство не прекращается, например, при передаче имущества в аренду, ссуду, заем и кредит, и сохраняется обязанность должника по возврату полученного имущества кредитору и по внесению соответствующей платы за пользование имуществом, то взысканию подлежат не только установленные договором платежи за пользование имуществом, но и неустойка за просрочку их уплаты (статья 622, статья 689, пункт 1 статьи 811 ГК РФ), а также указано, что окончание срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств по договору, в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором (пункты 3, 4 статьи 425 ГК РФ). Детально прописаны в упомянутом постановлении вопросы применения положений ст. 333 ГК РФ и установлено, что правила статьи 333 ГК РФ и пункта 6 статьи 395 ГК РФ не применяются при взыскании процентов, начисляемых по статье 317.1 ГК РФ.
Следующим разъяснением, имеющим непосредственное отношение к формированию практики применения реформированного законодательства об обязательствах является постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»1, где разрешаются все спорные, связанные в частности с применением положений не только так называемых «абсолютных новелл», в частности пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ, статьи 165.1 ГК РФ статьи 327.1 ГК РФ пунктом 2 статьи 17.1 ГК РФ статьи 319.1 ГК РФ, статьи 308.1 ГК РФ (пункт 1 статьи 320.1 ГК РФ), но и норм, применение которых раньше имело неоднозначную практику и вызывало вопросы (в частности, норм о встречном исполнении, исполнении обязательства внесением долга в депозит нотариуса, об исполнении по альтернативным и факультативным обязательствам, начислении процентов и соотношении требований о начислении процентов при неисполнении обязательства и др.). Принятие указанного постановления позволило комплексно разрешить существующие и вновь возникшие вопросы при применении норм об исполнении обязательств, что также может быть расценено как исключительно позитивное направление в работе высшей судебной инстанции, позволяющее комплексно разрешать вопросы правоприменения, связанные с конкретными базовыми институтами обязательственного права в условиях реформирования законодательства.
В конце 2017 г. было также принято отдельное постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»2, которое, как уже было указано, принято во исполнение отдельного Фе- дерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», регулирующего правила о залоге и цессии и не является предметом настоящего исследования, но о котором в целях полноты представлений о проделываемой правоприменителем в лице высшей судебной инстанции работе по формированию правоприменительной практики нельзя не упомянуть.
Таким образом, как показывает предпринятый нами достаточно общий анализ положения дел, касающегося применения положений реформированного кодекса, необходимо отметить, что отличительной особенностью сегодняшней реформы стало активное участие высших судебных инстанций в формировании правоприменения путем принятия соответствующих постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации на основе сформированный в период реформы доктринальных подходов, а не на основе постепенного формирования практики самого Верховного Суда РФ, что позволило достичь своего рода «превентивного» эффекта и предвосхитить появление разночтений по многим принципиальным вопросам.
При этом необходимо отметить, что привычные форматы работы высшей судебной инстанции также сохранились, о чем свидетельствует планомерная работа по обобщению судебной практики, которая приводит к внесению в плановом порядке изменений дополняющего характера в принятие постановления, а также активная работа экономической и гражданской коллегии Верховного суда по формированию практики применения измененного Гражданского кодекса.
Не остаются в стороне от активного процесса формирование единообразных подходов к правоприменению также кассационные суда округов в рамках утвержденных форматов обобщения и формирования практики, в том числе по вопросам, связанным с реформой обязательственного права. Так, 1–2 июня 2017 года состоялось заседание научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа, на итогам которого приняты рекомендации № 1/2017 «Вопросы применения законодательства об отдельных видах обязательств»1, где разрешены злободневные вопросы, касающиеся, в частности, возможности начисления на сумму долга по договору или неосновательного обогащения процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ в период предоставления должнику отсрочки (рассрочки) исполнения су- дебного акта; начисления процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ на сумму предварительной оплаты в случае расторжения договора; об оценке судом действительности оснований расторжения договора; о правовых последствиях возврата кредитором полученного от третьего лица на основании подп. 1 п. 2 ст. 313 ГК РФ и др.
Возникают в практике и иные вопросы, которые не нашли отражения во всех упомянутых разъяснениях, а также являются частными случаями, возникающих на практике проблем, например, по начислению и соотношению процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, ст. 317.1 ГК РФ и неустойки, связанные с размером процентов, периодом начисления, возможностью их уменьшения, возможностью начисления по день исполнения, применения норм об очередности, сроке исковой давности, их соотношении с убытками, необходимости применения досудебного порядка и пр., что свидетельствует о том, что практика применения новых норм обязательственного права окончательно не сформирована и правоприменителю (а может быть и законодателю) придется еще не раз вернуться к этому вопросу.
Обобщая сказанное, хотелось бы отметить две имеющих место быть отличительных особенности осуществляемого в настоящее время реформирования гражданского законодательства, в частности, обязательственного права: предварительная, глубокая, системная доктринальная проработка положений законопроекта на основе легально закрепленных процедур подготовки законопроекта до его внесения в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации и активное «упреждающее» разъяснение принятых норм высшей судебной инстанцией путем принятия соответствующий постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации, что позволит, как представляется, избежать многих проблем на стадии применения реформированного закона и достичь в оптимальные сроки требуемого правоприменительного эффекта.
Список литературы Реформа обязательственного права: первые итоги и правоприменительный эффект
- Голубцов В.Г. Принцип добросовестности как элемент правового механизма стимулирования должника к надлежащему исполнению обязательств и гарантирования интересов кредиторов: анализ судебно-арбитражной практики // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. Вып. 2(32). С. 175-184.
- Слиозберг Г. Проект книги V Гражданского уложения «Об обязательствах» // Вестник права. 1899. № 6. С. 93-94.
- Экономическое правосудие в Уральском округе. 2017. № 1. С. 16-31.