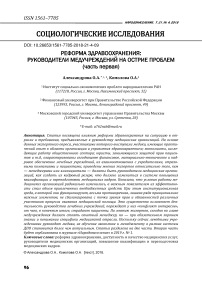Реформа здравоохранения: руководители медучреждений на острие проблем (часть первая)
Автор: Александрова Ольга Аркадьевна, Комолова Ольга Алексеевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Социологические исследования
Статья в выпуске: 4 т.21, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена влиянию реформы здравоохранения на ситуацию в отрасли и требования, предъявляемые к руководству медицинских организаций. На основе данных экспертного опроса, участниками которого выступали медики, имеющие практический опыт в области организации и управления здравоохранением; экономисты, исследующие работу общественного сектора; юристы, занимающиеся защитой прав пациентов и т.д., охарактеризованы сегодняшнее финансовое, материально-техническое и кадровое обеспечение лечебных учреждений, их взаимоотношения с учредителями, страховыми компаниями и пациентами; приведены мнения экспертов относительно того, кем - менеджерами или клиницистами - должны быть руководители медицинских организаций, как создать их кадровый резерв, что должно измениться в системе повышения квалификации и переподготовки медицинских кадров. Показано, что условия работы медицинских организаций радикально изменились, а важным показателем их эффективности стал объем привлеченных внебюджетных средств. При этом институциональная среда, в которой они функционируют, весьма противоречива, лишена ряда принципиально важных элементов, не сбалансирована с точки зрения прав и обязанностей различных участников процесса оказания медицинской помощи. Это существенно осложняет деятельность руководства лечебных учреждений, порождает у них «конфликт интересов», от чего, в конечном итоге, страдают пациенты. По мнению экспертов, сегодня во главе медучреждения должен стоять опытный менеджер, но - при обязательном хорошем знании и понимании специфики медицинской отрасли. Поскольку сейчас лечебными учреждениями руководят медики, их обучение экономике и менеджменту в рамках системы ДПО становится более чем актуальным. Статья разделена на две части. Вторая часть будет опубликована в журнале «Народонаселение» в 2019 г. № 1.
Реформа здравоохранения, доступность и качество медицинских услуг, руководители медицинских организаций, повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров
Короткий адрес: https://sciup.org/143173603
IDR: 143173603 | DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-4-09
Текст научной статьи Реформа здравоохранения: руководители медучреждений на острие проблем (часть первая)
Российская система здравоохранения переживает самую радикальную трансформацию с начала постсоветского периода. Об этом свидетельствует и официальная статистика (данные РОССТАТА, отчеты Счетной палаты РФ), фиксирующая заметные изменения в сети лечебных учреждений, численности медперсонала, количестве коек и т.д., и опросы общественного мнения, говорящие о том, что возможность получения своевременной и качественной бесплатной медицинской помощи стала одной из самых волнующих население тем [1]. Неслучайно, обсуждение положения дел в здравоохранении выносится на заседания Государственного совета, форумы провластных общественных структур [2] и т.д. Основным вектором реформ стал окончательный отход от советской модели здравоохранения, связанной с именем Семашко, к модели, в которой медицинская помощь рассматривается как услуга [3], в связи с чем заметное место начинает занимать частный сектор, чему способствует само государство [4]. Более того, коммерческий интерес привнесен и в медицинские организации, собственником которых является государство: в развитие закона «Об основах охраны здоровья граждан» от 2011 г., официально разрешившим государственным учреждениям взимать плату с пациентов, в 2012 г. Постановлением Правительства был утвержден и сам порядок предоставления платных медицинских услуг. Вопреки заверениям властей, скептики тогда указывали на то, что, никакого четкого разделения на бесплатную и платную помощь нет, поскольку разрешено оказывать за деньги и те медицинские услуги, которые входят в ОМС. Правда — при добровольном согласии пациента и информировании об объеме помощи, которую можно получить бесплатно, в связи с чем прогнозировалось, что фактором «добровольного согласия» станет длительное ожидание получения бесплатной услуги [5]. Кроме того, эксперты указывали на то, что размыты и сами государственные гарантии (минимальный набор бесплатных услуг) — «во всех документах имеется достаточно широкое поле для маневра в области определения конкретных обязательств государства» [6. С. 79].
Сразу оговоримся, что в советской модели здравоохранения также хватало проблем. Критиковавшие ее специалисты указывали на то, что, положительно зарекомендовав себя в борьбе с инфекционными заболеваниями, она не смогла обеспечить должный уровень лечения хронических заболеваний [6. С. 80]. Неудовлетворенность работой медицинских учреждений высказывало и население: так, согласно опросу. проведенному Госкомстатом СССР в 1987 г. (были опрошены 62 тыс. семей), работой поликлиник было недовольно более 25% горожан и более 17% жителей сел. При этом горожане в основном (77%) жаловались на большие очереди, еще треть респондентов указывали на неудовлетворительное качество и каждый пятый — на отдаленность поликлиники от местожительства. Жителей села не устраивала отдаленность медучреждений (около 60% отметивших), еще порядка 40% были недовольны очередями; на плохое качество работы лечебных учреждений указывали 14% [7].
С началом перестройки недостатки работы системы здравоохранения стало принято объяснять «остаточным принципом» финансирования социальной сферы, что, как пишет Т.В. Чубарова, «имеет, скорее, эмоциональную, чем научную окраску», поскольку «в строго научном смысле он означает, что при формировании расходной части бюджета вначале удовлетворяются заявки других отраслей, и только после них — социальной сферы, в том числе, здравоохранения»; в СССР же действовала «система сметного финансирования социальных учреждений на основе соответствующих нормативов. Поэтому более уместно говорить о несовершенстве нормативного метода или о нерациональности расходования социальных средств». Однако вместо совершенствования бюджетной модели здравоохранения в постсоветской России стали внедрять страховую медицину. При этом, судя по структуре бюджета, «государство сменило так называемый остаточный принцип на принцип минимизации социальных расходов» [6. С. 84]. Действительно, даже в «тучные» 2000-е годы Россия расходовала на здравоохранение в разы меньше, чем развитые страны Запада (в % от ВВП втрое ниже, чем в США, и вдвое — чем в Германии и Франции [8. С. 25]) и даже те страны Восточной Европы, что входили в советский блок и имеют сопоставимый с Россией объем ВВП на душу населения [9].
Одной из социальных групп, поставленных реформой на перекрестье ключевых проблем, являются руководители государственных (муниципальных) лечебных учреждений: им спускаются директивы, за выполнение которых с них строго спрашивают различные органы, им же прихо- дится организовывать работу медперсонала, ежедневно, лицом к лицу сталкивающегося с пациентами, оказавшимися в новой реальности, охарактеризованной исследователями как «фундаментальное и драматическое изменение в жизнеустройстве всего народа» [10. С. 5]. Предполагается, что в этой ситуации многое будет зависеть от умелости управленцев. Как пишет Т.В. Чубарова, «реформа медицинской отрасли сосредоточена, главным образом, на изменении организационных структур и финансовых потоков, поэтому маловероятно, что она будет успешной без улучшения качества управления», тем более, что «основной тенденцией политики государства в отношении медицинских услуг является расширение институциональной свободы в сфере оперативного управления» [11. С. 1]. В то же время, как признают и сами медики: «их учили врачевать, а управление — совсем другая профессия» [12]. Тем более, что и от управленцев теперь требуется иное: «стратегическая цель российского образования администраторов публичной сферы — превратить руководителей учреждений государственного сектора из чиновников, расходующих государственные деньги, в экономных менеджеров, отвечающих за результат» [11. С. 4].
Удается ли осуществить указанную трансформацию? Какую роль здесь может сыграть система повышения квалификации и переподготовки кадров? И, главное: как эти перемены влияют на выполнение медицинской отраслью миссии, связанной со здоровьем населения, качеством и продолжительностью его жизни? Получить ответы на эти вопросы позволила проведенная в 2017 г. серия углубленных структуриро- ванных интервью с экспертами в области организации и управления здравоохранением — как медиками, так и с не имеющими медицинского образования экономистами, специалистами в области государственного управления, юристами, чей профессиональный интерес связан с исследованием работы системы здравоохранения, а также практической защитой прав пациентов (всего 10 экспертов).
Сценарий экспертного интервью состоял из 4-х разделов. Первый раздел начинался с вопроса, какие проблемы были основными для здравоохранения и способны ли предусмотренные реформой меры их преодолеть, далее шли блоки уточняющих вопросов, посвященные финансовому и материально-техническому обеспечению деятельности медицинских организаций (МО); обеспеченности МО медицинскими кадрами; регулированию процесса оказания медицинской помощи; ситуации на рынке медицинских услуг; взаимоотношениям МО и медицинских страховых компаний; взаимоотношениям МО и пациентов. Второй раздел был посвящен влиянию, которое изменения в условиях работы МО оказывают на требования к их руководству, и так же состоял из блоков уточняющих вопросов, посвященных изменениям, касающимся роли и функций руководства МО; взаимоотношениям руководства МО и учредителей. Третий раздел был призван выяснить, как изменения в требованиях, предъявляемых к руководству МО, должны отразиться на работе системы подготовки управленческих кадров; каких знаний сегодня, прежде всего, не хватает руководителям МО, как они их, в основном, восполняют. И далее: какая форма (очная/заочная) повышения квалификации руководителей МО предпочтительнее, что должно быть обязательно предусмотрено в учебной программе. Затем следовали вопросы о том, насколько справляется с новыми задачами нынешняя система повышения квалификации руководителей МО. Заключительный раздел был посвящен вопросам формирования кадрового резерва: какие изменения происходят в корпусе руководителей МО, целесообразно и возможно ли создание соответствующего кадрового резерва и т.д.
Ниже представлена картина, описывающая условия работы лечебных учреждений и их руководителей на основе информации, полученной от экспертов. Но, как подчеркнул один из наших собеседников, «начинать надо с обозначения целей, поскольку система здравоохранения — это лишь инструмент для их достижения. До недавнего времени количественной целью, определенной в указе Президента России от 2012 года, было достижение к 2018 г. ожидаемой продолжительности жизни в 74 года. Теперь эта цель отодвинута до 2025 года, когда ожидаемая продолжительность жизни должна достичь 76 лет».
В принципе, цель представляется эксперту вполне достижимой: например, в странах Восточной Европы, имеющих сопоставимый с Россией объем ВВП, уже сегодня ожидаемая продолжительность жизни — 78 лет. Другое дело, что в России на здравоохранение выделяется в 1,5 раза меньше средств, притом, что ожидаемая продолжительность жизни — интегральный показатель, зависящий от различных факторов, включая работу системы здравоохранения; последняя же в значительной степени зависит от объема бюджетных ассигнований:
«График зависимости между объемами бюджетного финансирования и ожидаемой продолжительностью жизни говорит о том, что Россия находится в той зоне (от 500 до 2000 долл. на душу населения по ППС), где эта зависимость прямая: даешь больше денег — ожидаемая продолжительность жизни растет. Столь прямой зависимости нет в старых странах Евросоюза, которые уже насыщены и финансированием, и лекарствами, и врачами».
При этом, по мнению наших экспертов, переход на страховой принцип финансирования медицинской помощи не только не решил проблему недостатка денег, но и усугубил ситуацию, отвлекая средства на содержание посреднических структур и проведение финансовых транзакций. Нехватка бюджетных средств и приводит к росту объема платных услуг:
«Рассчитывали, что дополнительные средства будут привлечены из медицинского страхования. Начали брать дополнительный налог (взнос). Но (банальная вещь из школьной программы!) увеличение числа финансовых потоков и потребность в их обслуживании привели к тому, что налогоплательщик платит больше, а средств именно на медицинскую помощь идет меньше: раньше средства налогоплательщиков шли на оказание медицинской помощи и частично на содержание органов управления, а теперь мы кормим страховые компании и еще 10 банкиров в придачу. И если человек болен, а поступающих из ОМС средств — таких, чтобы выздороветь, нет, то вложить их может только пациент»;
«Основной объем платных услуг, как выясняется, — не в частных учреждениях, а в государственных. Это разрешено законом. Естественно: когда объем бесплатной медицинской помощи падает, население платит из своего кармана».
Рассуждая о пределах привлечения средств непосредственно из карманов граждан, одни эксперты делали акцент на факторе безвыходности:
«Снижения объема средств не будет — тут все рассчитано: последнее отдашь, чтобы заплатить за лечение. Им не важно, что люди почку продадут… »;
«Как только мы медицину выпускаем на рынок, а на нем здоровье является этаким бесценным товаром, тут же люди начинают продавать квартиры, последних коров и т.д. — чтобы спасти ребенка, близкого, самому остаться жить».
Другие — подчеркивали, что платежеспособность российского населения весьма ограничена, а его непосредственное участие в оплате медицинских услуг по объему уже превысило как показатели развитых стран, так и лимиты, рекомендуемые ВОЗ, и, следовательно, немалая часть населения просто отсечена от медицинской помощи:
«В нашей стране средства, которые население тратит на медицинские услуги и лекарства, составляют 36% от всех расходов на здравоохранение. В других странах, включая новые страны ЕС — в среднем, 20%. То есть, наше население уже отдало последнее. Поэтому оно будет или впадать в катастрофические для семейных бюджетов расходы, или отказываться от медицинской помощи».
«Даже частный сектор, хоть он сейчас и растет, понимает, что дальше расти некуда. Какой толк, что вы плодитесь, если у людей нет денег? «Вышка» ( НИУ ВШЭ — прим.
авт .) посчитала, что система давно уже за пределами лимита (по их расчетам у нас уже 50% вложений в здравоохранение из карманов населения, а предел, согласно ВОЗ, 20%): мы же не знаем, сколько у нас людей умирает вообще без медицинской помощи, которая реально очень сильно сокращена».
Проблема недофинансирования усугубляется запутанностью финансовых потоков, а также неверно выбранными приоритетами расходования средств ( «Создали центры, съедающие 42% от всех ассигнований. Весь мир старается лечить пациентов на ранних стадиях более дешевыми способами, мы же — убрали первичное звено»; «В последние годы в реальных ценах расходы на здравоохранение сократились на 10%. При этом непропорционально большие ресурсы ушли на борьбу с младенческой смертностью, хотя она составляет лишь 0,16% в общем показателе смертности» ).
Нехватка средств и, одновременно, необходимость оказания определенного госзаданием объема медицинской помощи, а также выхода на требуемые показатели по зарплате медперсонала приводит к нарастанию кредиторской задолженности.
По мнению одних экспертов, неадекватно низкий уровень государственного финансирования является отражением положения дел в экономике ( «В стране со слабой экономикой сильного здравоохранения не сделаешь» ). Другие видят в этом проявление господства неолиберальной идеологии, ратующей за минимизацию функций государства и перевод социальной сферы на рыночные рельсы, что, по их мнению, в принципе неприменимо к здравоохранению:
«В начале 90-х государство со своими либеральными ценностями решило, что рынком можно отрегулировать все. Но охрана здоровья — такая же функция государства, как охрана границ, правопорядка и т.д., потому что это тоже национальная безопасность. Нам ведь не придет в голову дать право пограничнику, прокурору, таможеннику зарабатывать деньги в рыночных условиях? Но здравоохранение мы в свободное плавание отпустили. И это — ключевая ошибка: когда у одной стороны целью является извлечение прибыли, а у другой (пациента) имеется обусловленный болью, страхом, тревогой порок воли ( юр. термин — прим. авт. ), то это изначально не может привести к позитивному результату».
В случае России, имевшей советский опыт организации здравоохранения, переход к страховой медицине вообще является социальным регрессом:
«Зачем? Просто потому что так на Западе? Но Запад шел к этому эволюционно. В Средние века лечиться могла лишь аристократия. Когда появились мануфактуры, люди смогли вскладчину привлекать врача — возникли «больничные кассы» с их страховым принципом: здоровые платят за больных, работающие за неработающих. По мере своего роста, кассы превращались в страховые компании и отделялись от предприятий. Затем выяснилось, что страховая компания может обанкротиться и, значит, кто-то этот риск должен покрывать. Ну и кто этот «кто-то»? Государство, которое и стало глобальным страховщиком. Сейчас б о льшая часть мира зависла на ситуации, когда, взяв на себя эту функцию, государство просто оплачивает медицинскую помощь. Следующая ступень
— когда государство говорит: «Зачем мне платить кому-то? Дешевле самому оказать эту помощь и ни от кого не зависеть». Так мы (Россия) все эти эволюционные этапы уже прошли! Внедрять сегодня рисковое страхование — это безумие! Мы что, в Средние века вернемся? Вон сейчас МедСи (частная медицинская организация — прим. авт.) , в которую пришла куча народа из ОМС, находится в состоянии банкротства — и как люди получат помощь?».
В последние годы проблема хронического недофинансирования здравоохранения дополнилась т.н. «оптимизацией», одной из причин которой стала необходимость выполнять «майские указы» президента, связанные с повышением оплаты труда медиков, при прежних объемах государственного финансирования и даже их фактическом (в реальных ценах) снижении. Эксперты убеждены, что поднимать зарплату медработникам было необходимо («Это очень важная цель, так как все самое главное происходит в точке взаимодействия врача и пациента. Зарплата же очень отставала. И это был способ привлечь новых врачей в отрасль» ), однако, то, как это реализуется, представляется им, с точки зрения целей не бухгалтерских, но медицинских, нонсенсом:
«Минфин, когда увидел, сколько средств нужно на увеличение фонда оплаты труда медработников, сказал: «У меня таких денег нет, пусть здравоохранение сократит свои неэффективные расходы – койки, врачей». К сожалению, наши организаторы здравоохранения не смогли доказать Минфину абсурдность этих сокращений. Но и поднять зарплаты до того уровня, до которого хотели, не удалось. Вот письмо профсоюзов: по- ловина медработников работает больше 60 (!) часов в неделю; треть врачей получает зарплату ниже, чем в 2012 году».
«Реформы как таковой не было — в рамках Госпрограммы утвердили дорожные карты, предусматривающие сокращение объемов скорой и стационарной помощи, коек, врачей, что и привело к сокращению объемов первичной помощи в поликлиниках, а также стационарной помощи. Число же больных не сократилось, а выросло. Поэтому часть из них не получила медицинской помощи. А на оставшийся медперсонал растет нагрузка…»
В силу указанных причин обеспеченность МО медицинским персоналом представляет проблему и в количественном, и в качественном отношении:
«Три года назад в Москве не хватало 25% участковых терапевтов. После этого шли только сокращения. В регионах ситуация не лучше. По жалобам от пациентов все так и есть — доступность, особенно специализированной помощи, снижается».
«В отношении качества врачей могу лишь ретранслировать вам цифру, которую несколько раз слышал от достаточно серьезных людей (академиков, представителей частного сектора): только 10% выпускников вузов можно допускать к пациенту».
При этом способ, которым выпускников медицинских вузов сейчас, по сути, заставляют пойти работать в поликлиники, представляется экспертам в корне неверным:
«В первичное звено найти специалистов очень трудно. Молодежь туда идти не хочет. Но сейчас она туда пойдет — примерно 50% выпускников, которые не прошли интернатуру. На мой взгляд, отмена интернатуры — абсолютно неверное решение, поскольку, худо-бедно, но после интернатуры люди получали дополнительные навыки. Это было сделано, якобы, для того, чтобы пошли в первичное звено. На самом же деле, врачи первичного звена должны быть очень грамотными, чтобы поставить правильный диагноз, назначить правильное лечение. Во всех развитых странах после окончания вуза (то есть 6-ти лет) их учат не менее 2-х лет — и это серьезное качественное образование, потому что допустить к пациенту можно только серьезного грамотного специалиста».
Неверным представляется экспертам и перенос акцентов при аттестации медицинских кадров, в силу чего проигрывают врачи-практики, имеющие большую врачебную нагрузку ( «Один пашет в операционной, а другой — «лялякает» на конференциях, но в результате этот с высшей категорией, а тот — с первой...»).
Что касается оснащения медицинским оборудованием, то «обеспеченность увеличивается количественно, но не качественно» , поскольку МО нередко не хватает средств на расходные материалы, техническое обслуживание, обучение персонала.
Лекарственное обеспечение также оставляет желать лучшего — как по качеству, так и по цене. Причина — в неспособности государства сопротивляться влиянию лоббистов фармацевтических компаний, а также устанавливать надлежащий контроль за качеством лекарств и их предоставлением льготным категориям пациентов ( «Когда в Великобритании мы спросили про лекарства, они не поняли вопрос: «Не хочешь продавать по ценам, устраивающим государство
— найдем других поставщиков». Но когда я предложила такой же подход нашей комиссии по лекарственному обеспечению, сразу: «Что вы такое говорите?! — от нас все уйдут!»). Притом, что, на самом деле, адекватное лекарственное обеспечение больных распространенными заболеваниями государству выгодно ( «Кумулятивный эффект от приема ежедневной таблетки гипертоником 1:7 — при инсульте издержки государства возрастут в 7 раз»).
Недофинансирование государством и, одновременно, легализация и даже стимулирование оказания платных услуг провоцируют у медиков и медицинских учреждений « бесконечный конфликт интересов»:
«Когда врач говорит, что нужно одно, второе, третье, он руководствуется желанием вылечить больного и в этом они с пациентом едины. Но когда врач обнаруживает, что он может не только высокую задачу решать, но еще и свое благосостояние улучшить, то …» .
«В государственной стоматологической клинике заведующая говорит: «Лечить? Мы? Бесплатно? Наше дело — боль снять, а остальное — за деньги». А дальше была история: женщина пришла с болью, а ей говорят: «Очередь. Хотите без очереди — за деньги». Она накатала на них «телегу». Был скандал, штраф. А я подумала, что теперь они будут просто писать другой диагноз».
«Сначала, еще в конце СССР, реформы продвигали из принципа «надо, чтобы было что-то другое». Это были рыночники: увидели, что в Германии — страхование, значит, и у нас будет страхование (притом, что наши проблемы связывали с нехваткой денег, а страховая медицина — это заведомо более затратный вари- ант). Интересы уже потом «нарисовались». Сейчас, мне кажется, это уже необратимый процесс, поскольку теперь здесь присутствуют и интересы главврачей. Я как-то вела у них занятие по зарплате и решила «подковырнуть»: показала данные, где у главврача — 200 тысяч, а у врача — 70. И молчу. Они говорят: «Да, маловато». Тут кто-то: «А вот Марья Ивановна, зам. главврача в такой-то горбольнице, оформлена на три ставки, так у нее пол миллиона выходит». И все — про меня они просто забыли».
Такая ситуация не может не отражаться на отношениях МО и пациентов. При этом население не только не в курсе тех условий, в которые поставлены МО, но и находится под воздействием информации из СМИ, транслирующих бодрые рапорты высокого медицинского начальства. Соответственно, адресатом недовольства граждан, у которых телевидением сформированы завышенные ожидания в отношении того, что им положено бесплатно, становится медперсонал, а не взявшее курс на коммерциализацию общественного сектора государство. Свои претензии пациенты адресуют, в основном, рядовым медработникам, реже — главврачу. Обращения в страховые компании и судебные инстанции крайне редки — в силу отсутствия традиции, а также низких сумм возмещения ущерба. Это радикально отличает ситуацию в России от тех стран, на которые она, как будто бы, «равняется», радикально перестраивая свою систему здравоохранения ( «За рубежом, там, где внедрены рыночные механизмы, каждый акушер-гинеколог за время своей работы с вероятностью 100% попадает в суд. То есть, там врачи несут гражданскую ответственность. А наши — нет»; «В
США я спросил хирурга, сколько на него заведено дел. Отвечает: «45». — «А сколько выиграешь из них?». — «50%». — «А какая сумма, если проиграешь?» — «Миллионов пять». — «Но если ты проиграешь 20 миллионов, ты же будешь нищий?!» — «Нет, — говорит, — за это платит страховая компания или медицинская ассоциация». А у нас врачебной ошибки не существует, вот и получается — то больной запущен, то артерия не там была расположена…» ) . Свою роль здесь играет и отсутствие реально независимой патологоанатомической экспертизы, хотя на уровне законодательства некоторые подвижки появились:
«До недавнего времени посмертной экспертизе в стационарах подвергались лишь порядка 20-25% пациентов, а среди скончавшихся дома — и того меньше. Теперь, по закону патологоанатомическая экспертиза — обязательна, однако, как и прежде, патологоанатомические бюро находятся на территории МО и фактически от них зависят. И если раньше патологоанатомы говорили о 20-25% несовпадений посмертных диагнозов с прижизненными, то теперь — о 15% с кучей оговорок».
Внедрение стандартов и иных документов, дополнительно формализующих работу МО, по мнению экспертов, не решает задачи повышения качества медицинской помощи, поскольку они используются как инструмент планирования («если я понимаю, как, в среднем, оказать помощь больному, то дальше — только арифметика» ), а не как гарантия качества.
Более того, эксперты указывают на то, что накладываемые на врачей рамки в виде компенсации МО расходов на лечение только одного конкретного заболевания, притом, что у многих пациентов имеется целый «букет» болезней, прямо противоречат интересам больных:
«Тут все наоборот: если я буду лечить всех по стандарту, половину, учитывая индивидуальные особенности, я угроблю»;
«Стандарты нужны, но нужно подразумевать и отклонение от стандартов — индивидуализация должна быть, иначе не понятно, что такое персональная медицина. А сейчас, если в поликлинике пациенту поставлен двойной диагноз, то ему говорят: «Выбирайте: мы вас можем положить по такому-то диагнозу, хотите по другому диагнозу — тогда вызывайте скорую. Сегодня, если ты лег с сердцем, тебе не будут лечить почки — сама была свидетелем, когда хороший врач знает, что нужно сделать, но не говорит, потому что им нельзя это говорить».
Экономическая необоснованность стандартов, порядков, а также клинических рекомендаций ставит МО в заведомо уязвимое положение перед многочисленными контрольно-надзорными органами:
«Существуют стандарты и порядки оказания медицинской помощи, а также клинические рекомендации и критерии качества. Стандарты — это медико-экономический инструмент, который отвечает на вопрос, какой объем усредненной помощи по тому или иному заболеванию мы должны оказать. Но сегодня стандарты экономически не обоснованы. Порядки оказания медицинской помощи — это и штатные нормативы, и то, как пациент должен двигаться по цепочке оказания помощи. Но поскольку отсутствовали процедуры разработки этих порядков, они тоже оказались экономически необоснованными. А если документы не просчитаны, не обоснованы, они теряют свой смысл. Клинические рекомендации отвечают на вопрос, как лечить, но они под собой тоже не имеют никакой экономической базы. При этом к ним привязаны показатели контроля качества медицинской помощи, и все контрольно-надзорные мероприятия основаны на обязательном выполнении этих вещей. В результате получаются «ножницы»: как МО может выполнять клинические рекомендации, если они экономически не обоснованы?! Это одно из самых важных противоречий действующей нормативной базы. Поэтому каждый год контрольные мероприятия выявляют 30% нарушений. Но если невозможно выполнить, то штрафование оказывается пустым занятием. При этом МО только и делают, что готовятся то к одной проверке, то к другой».
«Система ОМС создана так, что ничего не понятно — ни в самой системе, ни в системе контроля. Если я начну перечислять контролеров, вам станет нехорошо. Внутри системы это — Росздравнадзор, страховые компании, ТФОМС, Минздрав РФ, администрации субъектов РФ со своими контролирующими органами, лицензирующие органы. И плюс вне системы здравоохранения — прокуратура, Следственный комитет, МВД».
«МО говорят: «Таблеток нет, оборудования нет — какой вам стандарт?». А п рокуратура и суд говорят, что довод субъекта РФ о том, что у него не хватает денег, имеет неправовую природу, и суд не может им руководствоваться при принятии своего решения».
Невнятность правовой среды наряду с нехваткой бюджетных средств, а также используемые сегодня подходы к оценке работы МО (в том числе, соответствие показателя средней заработной платы медперсонала «майским указам»), которые могут иметь для главврачей кадровые последствия, и, наконец, просто корыстные мотивы приводят к припискам и фальсификациям.
Список литературы Реформа здравоохранения: руководители медучреждений на острие проблем (часть первая)
- ВЦИОМ: проблемы в системе здравоохранения остаются главными для россиян. . -Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/5270172 (дата обращения: 20.08.2018).
- ОНФ раскритиковал состояние системы здравоохранения в России. -Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/2239739 (дата обращения: 20.08.2018).
- Улумбекова Г. Курс Минздрава -бросаем пациентов, спасаем частника. -Режим доступа: http://expert.ru/2015/01/28/kurs-minzdrava-brosaem-patsientov-spasaem-chastnika/(дата обращения: 20.08.2018).
- Батчиков С., Кара-Мурза С. От здравоохранения к продаже медицинских услуг//Экономические стратегии. -2013. -№ 2.
- Ртищева Е. За официально бесплатную медицину придется официально платить. -Режим доступа: http://www.doctorpiter.ru/articles/4506/(дата обращения 18.03.2014).