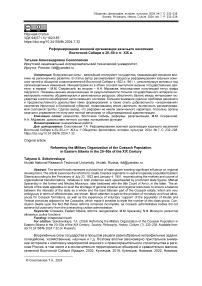Реформирование военной организации казачьего населения Восточной Сибири в 20-50-х гг. XIX в
Автор: Соколовская Татьяна Александровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
Вооруженные силы - важнейший инструмент государства, оказывающий огромное влияние на региональное развитие. В статье автор рассматривает процессы реформирования казачьих воинских частей в обширной и малонаселенной Восточной Сибири в 1822 и 1851 г., реконструируя мотивы и ход организационных изменений. Инициаторами их в обоих случаях выступили видные государственные деятели: в первом - М.М. Сперанский, во втором - Н.Н. Муравьев, впоследствии получивший титул графа Амурского. Показаны весьма неоднозначные по результативности попытки государственного аппарата нивелировать нехватку общеимперских и региональных ресурсов, обеспечить баланс между интересами государства и восточносибирской части казачьего сословия. Большое внимание уделено проблеме денежного и продовольственного довольствия таких формирований, а также опыту добровольного «оказачивания» населения Иркутской и Енисейской губерний, позволившему втрое увеличить численность рассматриваемой сословной группы. Сделан вывод, что реформы не имели законченного характера, поскольку органы казачьего управления не получили полной автономии от общегражданской администрации.
Казачество, восточная сибирь, реформы, реорганизация, м.м. сперанский, н.н. муравьев, довольствие личного состава, полицейские функции
Короткий адрес: https://sciup.org/149145572
IDR: 149145572 | УДК: 94(571.5)“182/185” | DOI: 10.24158/fik.2024.7.32
Текст научной статьи Реформирование военной организации казачьего населения Восточной Сибири в 20-50-х гг. XIX в
Соколовская, 2023). Достаточно обстоятельно в отечественной научной литературе рассмотрена и история казачества Восточной Сибири, включая ее имперский период (Зуев, 1993; Романов, Новиков, 2009). Исследователи особо подчеркивали, что главным отличием казачьего населения Енисейской и Иркутской губерний, Якутской области от остальных представителей данного сословия служило отсутствие войскового статуса и органов самоуправления (Дацыншен, Тарасов, 2010). К началу XX в. это привело к тому, что казаки «ввиду малочисленности … не жили по станицам, но… приписаны к сельским обществам, подчинены старостам, старшинам и прочим деревенским властям и совершенно смешались с русским населением» (Краснов, 1962: 2).
В статье проанализированы две реформы по созданию казачьих полков: сначала «городовых» (1822 г.1), а затем «конных» (1851 г.2), при этом мы стремились реконструировать как мотивы, так и сам ход организационных преобразований. В предметном внимании к внешнему контексту государственных решений в отношении казачества – социальным и военно-стратегическим последствиям и заключается главная новизна предлагаемого анализа.
Неопубликованные делопроизводственные источники по теме сосредоточены главным образом в Российском государственном военно-историческом архиве и Государственном архиве Иркутской области, причем ретроспективную информацию содержат более поздние (начала XX в.) документы, так как современная реформам документация была частично утрачена. Многочисленны содержательные упоминания казачества Восточной Сибири в справочной литера-туре3 и сборниках опубликованных документов4.
В качестве основных методов исследования были применены историко-ситуативный (с целью учета контекста), структурно-типологический (для выявления особенностей функционирования казачьей военной организации) и аналитический.
Первая реформа казачества Восточной Сибири была осуществлена видным государственным деятелем императорской России – М.М. Сперанским. Стремясь улучшить управление сибирским регионом, упорядочить все стороны его социально-экономической жизни, он не мог ни обратить самое пристальное внимание на сибирское городовое казачество. Чрезвычайная скудность региона в людском контингенте привела к тому, что одним из эффективных полицейских инструментов стали немногочисленные городовые казачьи команды (Богуцкий, 2013). Именно их реформирование с последующим приспособлением к существующим реалиям было необходимо осуществить в первую очередь.
Согласно «Высочайше утвержденному уставу о сибирских городовых казаках» от 22 июля (3 августа) 1822 г.5, все городовые казачьи команды объединялись в 7 городовых конных казачьих полков. В Западной Сибири были сформированы 3 полка: Тобольский, Сибирский и Томский. Первый городовой казачий полк включал 600 чел., другие два – по 500. В Восточной Сибири было организовано 4 полка: Енисейский, Иркутский, Забайкальский и Якутский. Все полки шестисотенного состава, за исключением последнего, который имел по штату 500 единиц. Однако Иркутский и Енисейский городовые конные казачьи полки были вскоре переведены, ввиду нехватки казаков, также на пятисотенный штат (а спустя десять лет еще и «спешились»); в Якутском полку никогда не набиралось и 300 казаков. В прежнем качестве остались только две городовые казачьи полицейские команды (из 24) – Камчатская и Верхотуровская ввиду чрезвычайной отдаленности их размещения и крайней необходимости6.
В Иркутский городовой казачий полк зачислили все казачье население Прибайкалья, разбросанное по городам Иркутску, Нижнеудинску, Киренску и Илимску, по солеваренным заводам и пересыльным трактам, а также казаков Тункинской линии в пограничной полосе с Монголией. Однако в полк не вписали станичных нижнеудинских и иркутских казаков (то есть тех, кто получил хоть небольшой земельный надел и вел хозяйствование). Их оставили в полном подчинении уездным исправникам для несения полицейской службы только по месту жительства.
В Енисейский казачий полк зачислили членов трех городовых команд – Красноярской, Енисейской и Туруханской. В станичный разряд были внесены абаканские линейные и саянские (минусинские) станичные казаки, которые составляли примерно третью часть от всего енисейского каза- чества. А вот население Якутии, относящееся к данному сословию, целиком попало в полковой разряд – оно в то время практически не вело какой-либо хозяйственной деятельности и жило исключительно за счет несения полицейской службы, нужда в которой для властей была просто огромной.
Реформа 1822 г. разделила казаков на 2 разряда: полковой (то есть тех, кто не имел хозяйства и жил исключительно за счет службы) и станичный, причем абсолютное большинство иркутских представителей сословия (свыше 90 %) оказались в первом. Впрочем, и те, и другие находились в полном подчинении гражданским властям и выполняли полицейские функции. Возложенные на казачество служебные обязанности были многочисленными и крайне разнообразными: 1) дневные и ночные полицейские разъезды в городах, караульная служба при казенном имуществе и арсеналах при недостатке воинских команд; 2) поимка беглых и ссыльных по городам и уездам; 3) конвоирование казенных транспортов и грузов, их охрана от нападений преступных групп; 4) пикеты и разъезды около казенных и частных заводов для пресечения побегов работников и ссыльных, охрана соляных озер; 5) этапирование и охрана ссыльных и каторжников, выполнение обязанностей конной стражи; 6) служба в пограничных караулах и разъездах; 7) охрана порядка на казенных и частных золотых приисках; 8) принуждение к платежу податей, взносу недоимок и исправление повинностей мещан и крестьян, сбор податей с инородцев (собирать «ясак» казаки особенно любили и умели, имея богатейший исторический опыт), выполнение поручений при казенных заготовлениях посредством комиссий, служба счетчиками по казначейству; 9) наблюдение за «благочинием» и выполнение функций квартальных надзирателей, исполнение особых поручений при чиновниках, выполнение почтовой службы в случае необходимости; 10) наблюдение за казенными поселениями, а также развозка, хранение и продажа от казны предметов продовольствия в отдаленных северных местах1.
По штатному расписанию полк состоял из 11 офицеров, 44 пятидесятников и урядников, 500 строевых и 14 нестроевых (по 7 писарей и мастеровых) казаков. Полицейский характер службы сказывался на денежном содержании и невысоких чинах казаков. Они получали очень скромное вознаграждение за службу. Так, пятидесятник получал 36 руб. в год, урядник – 12, а казаку платили всего 6 руб. ассигнациями (то есть полтора рубля серебром в год, или по 12 коп. в месяц). Положение несколько облегчалось выдачей продовольственного пайка – крупы в количестве 7,5 фунта в месяц (около 3 кг) и муки весом 1 пуд 35 фунтов (около 30 кг). Кроме того, на лошадь отпускался от казны фураж – по гарнцу овса и пуду сена (вместо последнего уплачивалось по 2 копейки в день). Впрочем, фураж отпускался всего на семь месяцев (именно столько должна была длиться служба в году), а так как казаков привлекали к службе практически безостановочно, то содержание лошади выливалось для них в значительную, неразрешимую проблему2.
Правительство думало облегчить имущественное положение казаков выдачей им земельных наделов в 15 десятин и покосов, но тяготы постоянной службы не оставляли свободного времени для их обработки. Особенно пострадали станичные казаки, которым жалование вообще не было определено, взамен их «облагодетельствовали» освобождением от всех государственных податей и земских сборов и даже дали им право беспошлинной торговли с пограничными инородцами, однако при беспрерывной службе последнее становилось номинальным.
В полк казаки зачислялись с 16 лет и служили беспрерывно, так как сроки службы определялись как «… пока продолжать оную в силах»3. При этом они обязаны были иметь коня, обмундирование и амуницию, приобретя их за свои средства. Учитывая необеспеченность казачьего населения Иркутской и Енисейской губерний, нищенское жалование и скудный продовольственный паек, можно отметить, что такая служба вела к быстрому разорению и массовому обнищанию сословия, она превратилась в тягостную обузу для казачьих семей.
Надо признать, что М.М. Сперанскому удалось без особых затрат для государственной казны создать значительные полицейские формирования, причем мобильные. По сути, в целях экономии ресурсов он просто «законсервировал» казачество, закрепостил его в жестких сословных рамках. Правда, итогом такой рачительной «экономии» стало отчаянное положение казаков.
Спустя всего десять лет после этого, в 1833 г. генерал-губернатор Восточной Сибири С.Б. Броневской в своем годовом отчете императору Николаю I отмечал, нелицеприятно оценивая старания высокопоставленного «реформатора», что «казаки не имеют должного устройства, почти не вооружены и почти пешие; содержание от казны получают самое скудное, но на службу по городской и земской полиции употребляются беспрерывно; многие без домов и хозяйства, долженствующего поддержать существование их и семейств их. Такое положение привело многих в нищету и требует всего внимания к их положению»4.
К середине ХIХ в. имперские власти осознали необходимость усиления вооруженных сил на востоке России. Этого требовала активно проводимая государством внешняя политика, однако в этом отношении приходилось рассчитывать только на местные довольно скудные ресурсы, в первую очередь на станичное и городовое казачество.
С военной точки зрения Иркутский и Енисейский полки представляли собой ничтожную величину и годились для применения исключительно против внутреннего «супостата» или местного населения. Только в 1830 г. их вооружили старыми кремневыми ружьями со штыками (в то время как армия уже оснащалась новыми пистонными или капсюльными системами) в количестве 458 штук и такими же устарелыми пистолетами (546 штук на полк). Озаботилось военное министерство и соответствующим обучением казаков. В 1837 г. последовало Высочайшее повеление о прикомандировании в образцовый полк в столице по 2 офицера и 20 казаков от Сибири и Забайкалья, которые по окончании в 1841 г. курса обучения возвратились в свои части инструкторами. Именно с этого года казаки были впервые приобщены к полноценной строевой службе1.
В следующем 1842 г. император Николай I признал подчинение сибирских городовых казачьих полков гражданским властям ненормальным, повелел принять их под свою руку военному ведомству и разработать новое положение, касающееся казацких военных формирований. Но все эти меры были вынужденными и поверхностными и не могли решить проблему в целом. Поэтому в военном министерстве пошли по пути кардинальных преобразований городового и станичного казачьего населения Восточной Сибири.
Новые реформы были связаны с именем генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, вошедшего в отечественную историю, как граф Н.Н. Муравьев-Амурский. Именно он разработал новые положения о казацкой службе и со свойственной ему энергией проводил их в жизнь. Согласно «Положению от 4 января 1851 г.»2 Иркутский и Енисейский городовые казачьи полки переформировывались в конные казачьи полки и переводились с пятисотенного состава на штат в 600 чел. В них включалось собственно все население, относящееся к данному сословию. В Иркутский полк зачислили городовых казаков, станичных иркутских и нижнеудинских казаков, а также тункинских казаков с пограничной линии. Какой-либо разницы между полковыми и станичными казаками теперь не проводилось, и все они числились на одинаковых условиях. В Енисейский полк вошло красноярское и енисейское городовое казачество, а также станичные абаканские и саянские казаки. Полки было решено с самого начала укомплектовать по полному штату, а так как казаков была всего лишь треть от необходимого числа, то в казачество массово поверстали государственных крестьян в селах вокруг Иркутска, Красноярска и Нижнеудинска, «оказачили» не только отставных, но даже бывших «штрафованных» солдат с семьями.
Благодаря этим мерам количество казачьего населения более чем утроилось, и в обеих губерниях стало числиться около 25 тыс. человек, относящихся к этому сословию. Все это делалось ради того, чтобы «усилить наряд казаков на службу и уменьшить комплект Иркутского и Енисейского гарнизонных внутренних батальонов, а впоследствии и совсем расформировать их». Тем самым государство приобретало «почти совершенно бесплатную стражу с правильной военной организацией и избавлялось от крупных расходов по содержанию двух батальонов регулярных войск»3.
Денежное и продовольственное довольствие казаки теперь стали получать от военного ведомства, причем в более значительных объемах. «Выросли» у них также и воинские чины. Так, командир полка (подполковник) получал жалования и столовых денег в год 280 руб. Сотенные командиры могли теперь дослужиться до есаулов (армейский капитан) и получали жалование в размере более 88 руб. в год. Появился полковой адъютант в чине сотника и 12 хорунжих – по 2 на сотню. Эти младшие офицеры получали в год по 71 руб. 55 коп. Согласно штатному расписанию в полку имелось: cтарших урядников – 24 (10 руб. 65 коп. годового жалования); младших урядников – 24 (4 руб. 80 коп. годового жалования); приказных – 24 (3 руб. 45 коп. годового жалования); казаков – 750 (3 руб. 45 коп. годового жалования); писарей – 13 (полковой – 8 руб. 40 коп., сотенные – по 4 руб. 80 коп. в год); фельдшеров – 6 (25 руб. 35 коп. годового жалования).
Продовольственный паек выдавался раз в месяц и состоял из 1 пуда 28 фунтов муки (более 27 кг.) и 10 фунтов крупы (4 кг.), дополнительно ежедневный фураж на лошадь включал 2 гарнца овса и полпуда сена. Кроме того, каждый казак получал пай пахотной земли в 30 десятин, а офицеры и полковые чиновники – удвоенный. Одновременно с этим в целях обеспечения разработки наделов ввели новый порядок службы – год казак находился в войсках, а год работал на собственном хозяйстве. Срок службы был установлен в 25 лет, вместо прежнего «доколе будут в силах», то есть составлял около 40 лет. Сохранились льготы по налогам и земским сборам, а также некоторые другие права и привилегии казачества как сословия. Надо отметить, что именно в этот период благосостояние данной группы населения достигло наиболее высокого уровня за весь исторический период ее существования.
В Иркутский конно-казачий полк были зачислены государственные крестьяне из 4 многолюдных и богатых старожильческих сел и входящих в них мелких селений в окрестностях Иркутска: Урик и Хомутово – на севере, Большая Разводная – на востоке и Веденщина – на юге. «Ока-зачивание» было делом сугубо добровольным, «а если кто не пожелает», то таких крестьян отселяли в другие казенные селения. Кроме того, к полку была приписана также часть крестьян из окрестностей г. Нижнеудинска. Все казачьи селения сводились в станицы (станичные округа), которые передавались под частичное управление крестьянской администрации и не имели полной автономии как другие.
Земельный фонд отводился «старым» и «новым» казакам более чем значительный – в Иркутской губернии он составлял больше 220 тыс. десятин земли, причем значительная часть наделов приходилась на «оказаченные» села (енисейские казаки получили чуть больше 256 тыс. десятин, более трети этого земельного фонда было закреплено за абаканскими и саянскими казаками).
Но в ходе реформы была допущена весьма значительная ошибка, которая в дальнейшем повлияла на судьбу иркутского и енисейского казачества, – сохранилось его неполноценное войсковое устройство («полковое»); во время пребывания «на льготе» казаки находились в частичном ведении гражданских властей и только на военной службе были в полном подчинении командования. У казаков имелось внутреннее самоуправление (станицы), которое определяло все вопросы социальной и хозяйственной жизни сословия, не было только института войскового атамана (его функции возлагались на генерал-губернатора Восточной Сибири, но фактически их выполнял иркутский гражданский губернатор).
Служебные функции на реформированные полки возлагались прежние, чисто полицейские. Между тем, при организации полков определялось, что запрещается привлекать казаков к «отправлению должностей, военному званию не свойственных»1. Позднее – в 1917 г. – справедливо указывалось, что «понять это после всего вышеуказанного (полное перечисление военнополицейских функций) затруднительно»2.
Иркутский и Енисейский полки были сведены в отдельную конную бригаду, была усилена военная составляющая обучения. Штабы полков располагались в Иркутске и Красноярске, а сами сотни были расквартированы по станицам. Так, в 1867 г. Иркутский конный полк дислоцировался: 1-я и 2-я сотни – в Иркутске, остальные – в следующих селениях в окрестностях города: 3-я сотня – в Кузьмихинском, 4-я – во Веденском (большая часть сотни была расквартирована в селении Олхинском, где у казаков были известковые каменоломни). Одна сотня (5-я) находилась в Тунке, ее комплектовали казаки пограничной линии, а 6-я размещалась в г. Нижнеудинске. Из состава казачьих подразделений выделялись различные «команды в городах Балаганск и Верхо-ленск и на заводах: Иркутском и Усть-Кутском солеваренных и Александровском винокуренном, для караула политических преступников, на частных золотых приисках, для исполнения полицейских обязанностей по надзору за рабочими»3.
В Восточной Сибири реформирование казачества, благодаря энергии графа Н.Н. Муравьева-Амурского, произошло быстро и приняло военный характер, особенно ярко проявилось это в Забайкалье. Генерал-губернатор понимал, что без значительного, в 2–3 раза, увеличения численности казачьего населения с одновременным переводом его на собственное обеспечение (а это означало массовое поверстывание крестьян и предоставление казачеству значительного, а в некоторых местах даже избыточного земельного фонда) создать реальную вооруженную силу в регионе вряд ли возможно.
Забайкальский полк стал одним из основных компонентов созданного 17 марта 1851 г. Забайкальского казачьего войска4. Его составили казаки пограничной линии, городовой казачий, бурятский и тунгусский полки, а также «поверстанные» в казаки – приписанные к Нерчинским заводам крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и бывшие ссыльнокаторжные, вышедшие на поселение. Причем «оказаченный» элемент преобладал над «природными» представителями сословия (более 30 тыс. муж. душ против 22 тыс. казаков муж. пола). В военное время Забайкальское казачье войско должно было выставить 6 конных полков (4 казачьих и 2 бурятских), 12 пеших батальонов из вчерашних крестьян, а также 2 конные 4-орудийные батареи.
Тот же процесс наращивания «мускулов» аналогично интенсивно прошел в Иркутской и Енисейской губерниях, но в значительно меньших объемах, что объяснимо небольшой численностью здесь «природных» казаков, с одной стороны, а с другой – необходимостью создавать только конные сотни. Это обстоятельство несколько сужало круг привлекаемых к «оказачиванию» крестьян. Требовалась определенная зажиточность кандидатов, наличие у них возможности приобрести, а также вне службы содержать верхового строевого коня (денежные затраты на приготовление к военной службе у пешего казака были в четыре – пять раз меньше, так как не требовалось покупать лошадь и дорогостоящие предметы амуниции, такие как седло, сбруя и т.д.).
Следует отметить, что какого-либо жесткого принуждения крестьян в Прибайкалье и Забайкалье к «оказачиванию» со стороны властных структур совершенно не проявлялось. Н. Смирнов справедливо указывал, что местные крестьяне «охотно меняли свое сословное положение на казачье. Это объяснялось прежде всего тем, что казак был более защищен законом, как вооруженный защитник Отечества, от произвола различных чиновников и не так бесправен, как крестьянин. Из замордованного, запуганного всем и вся, вечно униженного мужика крестьянин превращался в свободолюбивого, волевого и решительного человека. Сознание того, что он принадлежит к вольному сословию, благотворно влияло на развитие личности вчерашнего затюканного мужика. И хотя эта свобода была относительной, и казак так же, как и все граждане Российской империи, был втиснут в рамки уставов и положений, законов, определяющих жизнь, быт ее населения, но все же он меньше ощущал на себе гнет и бесправие, чем тот же крестьянин» (Смирнов, 2008: 40).
Необходимо отметить, что реформа иркутского и енисейского казачества все же не имела полного законченного характера, такого, которое имелось у их соседей – значительно пополненного забайкальского казачества. Отличие в положении было всего лишь одно, но самое существенное и принципиальное, – наличествовало неполноценное войсковое административное устройство, в котором органы управления не были полностью автономными от гражданской администрации, а в силу этого отсутствовал и юридически закрепленный войсковой административный статус с институтом наказного войскового атамана. Все остальное было идентичным по оформлению, характеру и сущности.
Преобразования казачьих полков в Восточной Сибири в 1822 г. и 1851 г. продемонстрировали возможности имперских властей по масштабному изменению уклада казачьей жизни и одновременно вскрыли вытекающие из нехватки демографических и финансовых ресурсов ограничения. Смещение служебных приоритетов с полицейских на военные ввиду «тылового» характера региона оказалось весьма кратковременным и привело к неполному использованию боевого потенциала и военных навыков населения во время русско-японской и Первой мировой войн.
Список литературы Реформирование военной организации казачьего населения Восточной Сибири в 20-50-х гг. XIX в
- Богуцкий А.Е. Военно-полицейская служба енисейского и иркутского казачества // Вестник Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова. 2013. № 4. С. 12-17.
- Дацышен В.Г., Тарасов М.Г. Енисейское казачество в XIX - первой четверти XX века: проблема статуса и идентичности // Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 1. С. 33-37.
- Зуев А.С. Проекты реформ забайкальского пограничного казачьего «войска» второй четверти XIX в. // Роль Сибири в истории России: Бахрушинские чтения 1992 г. Новосибирск, 1993. С. 37-46.
- Крадин Н.П. Забайкальские фортеции // Археология и культурная антропология Дальнего Востока и Центральной Азии. Владивосток, 2002. С. 305-323.
- Краснов П. Иркутские казаки // Военная быль. 1962. № 52. С. 2-3.
- Кузнецов М.Ю. Внутренняя стража в Восточной Сибири в 1816-1864 гг. // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2018. № 4 (34). С. 156-162.
- Кузнецов М.Ю., Новиков П.А. «На службе охранной и мобилизационной»: местные войска в Восточной Сибири в 1864-1920 гг. Иркутск, 2022. 416 с.
- Новиков П.А., Соколовская Т.А. Развитие структур жандармерии в Сибири (краткий обзор) // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2023. № 2 (53). С. 122-127. https://doi.org/10.18324/2224-1833-2023-2-122-127.
- Романов Г.И., Новиков П.А. Иркутское казачество (2-я половина XVII - начало XX вв.). Иркутск, 2009. 352 с.
- Смирнов Н.Н. Забайкальское казачество. М., 2008. 557 с.