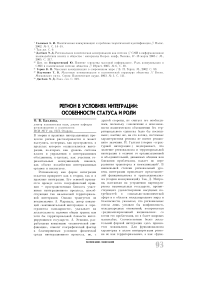Регион в условиях интеграции: особенности статуса и роли
Автор: Бахлова О.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 1 (6), 2006 года.
Бесплатный доступ
Регион, регионализм, интеграционные процессы, евроцентризм, центрально-периферийная конструкция мира, неофедерализм, российско-белорусское взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/14720438
IDR: 14720438
Текст статьи Регион в условиях интеграции: особенности статуса и роли
ИСИ МГУ им. Н.П. Огарева
В теории и практике интеграционных процессов регион рассматривается и может выступать, во-первых, как пространство, в пределах которого осуществляется интеграция, во-вторых, как уровень системы власти и управления в интеграционном объединении, в-третьих, как участник горизонтальных коммуникаций, наконец, как объект воздействия интеграционных органов и институтов.
Регионализму как форме интеграции отдается приоритет как в теории, так и в практике интеграции. Его основой признается прежде всего географический принцип — пространственная близость участников интеграционного процесса, способствующая так называемой территориальной интеграции. Однако трактуется он неоднозначно: А. Маршаль, автор концепций «континентальной интеграции» и «пространства солидарности», указывает на желательность наличия общих границ или хотя бы территориальной близости интегрирующихся государств. А. Этциони, разрабатывая концепцию «политической унификации», относит географический фактор к благоприятным условиям физической среды интеграционного процесса, но, с другой стороны, не считает его необходимым, поскольку «заключение о невозможности политического объединения без территориального единства было бы поспешным»; вообще же, на его взгляд, системные характеристики региона не имеют решающего значения. И. Г алтунг (теория «структурной интеграции») подчеркивает, что значение регионализма и территориальной интеграции в отличие от организационной и объединительной, движимых общими или близкими проблемами, падает по мере развития транспорта и коммуникаций1. В наименьшей степени региональный уровень интеграции привлекает представителей функционализма и трансакционализ-ма (теории коммуникаций). Так, Д. Митра-ни, настаивая на устранении партикуляризма национальных государств, препятствующего удовлетворению насущных потребностей в социально-экономической сфере и в области международного мира и безопасности, указывал, что региональные союзы лишь усилили бы конфликтность международных отношений, воспроизводя «радикализированный национализм» со всеми его проблемами, но в более широких масштабах. Соответственно более желательной формой интеграции здесь признается мондиализм. Для функционализма характерна в целом интерпретация региона не как территориального, а как «функ- ционального» образования, базирующегося на сходном разделении труда и выполнении соответствующих задач2.
Часто региональный уровень трактуется как фундамент более широкой и сложной в структурном отношении пространственной композиции интеграционных процессов. Так, по мнению И. Галтунга, для достижения всемирной интеграции потребуется не менее трех-пяти ступеней. А. Этциони оптимальной считает трехзвенную систему объединения: 1) союзы национальных государств с экономическими и политическими функциями (субрегиональная интеграция); 2) континентальные суперсистемы, осуществляющие военные функции (атлантическая интеграция); 3) супер-суперсистема, координирующая внешнюю и валютно-финансовую политику (в рамках глобальных организаций). А. Маршаль, анализируя расширение круга «человеческого сотрудничества» — совокупности связывающих индивидов взаимоотношений, выделяет четыре уровня: 1) самый низкий территориальный уровень (для национальной интеграции) —локальных единиц (отдельных общин, поселений, городов); 2) региональный (район, область, провинция); 3) национальный (территория данного государства); 4) высший уровень —континентальный как связующее звено между национальной и глобальной интернациональной интеграцией3.
Несомненно, регионы, в которых активно происходят интеграционные процессы (так называемые институированные регионы), приобретают новые качества целостности, динамизма, что изменяет их внутреннюю композицию и геополитический статус в общемировых масштабах. Считаем целесообразным в первую очередь обратиться к опыту наиболее успешного пока интеграционного объединения — Европейского Союза (ЕС). Его оценки носят как оптимистичный, так и скептический (главным образом это точка зрения британских и американских авторов) характер. ЕС нередко трактуется как оригинальное геополитическое или политико-географическое пространство с нечеткими границами, пространство мира и процветания, культурное и демократическое пространство с общими ценностями и общим историческим наследием, формирующееся общественное пространство, широкий внутренний рынок без внутренних границ4.
Еще в начале 1970-х годов И. Галтунг подчеркивал, что Европейское сообщество может превратиться в сверхдержаву, которая будет играть главную роль наряду с «традиционными» центрами силы; он рассматривал западноевропейскую интеграцию в контексте «старой как мир политики», направленной на восстановление «евроцентризма». Его «базовую формулу» понимания Сообщества («возьмите пять разных империй (Францию, Германию, Италию, Бельгию, Нидерланды. — О. Б.), добавьте шестую (Великобританию — О. Б.) и создайте из всего этого одну большую нео-колониальную империю») продолжает «постмодернистская» политическая модель ЕС Р. Купера. Она создается путем «нового колониализма» и европейской «имперской экспансии» —расширения на Центральную и Восточную Европу. Интересна в этой связи и концепция «континентальной системы» У. Рассел Мида, находящего в действиях Германии по стабилизации восточноевропейского региона в русле политики лидерства в европейском интеграционном процессе аналогии с планами Наполеона5.
-
В. И но Иноземцев иКЕ. з Кузнецоваеутверж ют, что «уже сегодня Европа одновременно представляет собой и супердержаву с поистине глобальной сферой интересов», и «региональное сверхгосударство»6. Напротив, Д. Нелсон заявляет, что, хотя укрепление ЕС благодаря определенным успехам (введению евро и др.) породило ощущение «рождения сверхдержавы», влияющей на исход социально-экономических и политических событий во всех уголках мира, Европа «все еще далека от образа “целостного и свободного” континента»; материальное неравенство, различия в нормах и политических структурах заставляют говорить о «четырех Европах»7. К. Коукер, выражая традиционный британский «евроскептицизм», замечает даже, что дальнейшая интеграция, «не превращающая Европейский Союз в одно из главных действующих лиц, может ограничить его значение как в собственных глазах, так и в глазах Америки... оказалось, что европейский проект при попытке реализовать его — это не великий
рискованный выход в мир, а разъединение с миром...»8.
Любопытны применительно к развитию интеграционных процессов некоторые интерпретации центрально-периферийной конструкции мира в рамках теории «периферийной экономики» (Р. Пребиш), миросистемной теории (И. Валлерстайн) и теории зависимости (Р. Кокс). Их элементы отчетливо проявились в концепциях и практике интеграции в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, где преимущества региональной интеграции связывались с преодолением узости национальных рынков, продвижением национальных интересов в международных экономических отношениях благодаря разработке агрегированной стратегии поведения. В данном случае оперативной единицей может выступать «регион-класс»: успешные действия стран и регионов полупериферии и периферии, в том числе в области экономической интеграции, создают дополнительные возможности скорректировать свой статус в миросистеме, в которой доминирует «глобальная триада», по терминологии И. Валлерстайна, включающая в себя наиболее «институированные» регионы: Европу (ЕС) —Северную Америку (НАФТА) —Восточную Азию (Япония, Ки-тай)9.
Большое внимание уделяется проблеме дифференциации внутри интегрированного региона. Подчеркивается, что в процессе интеграции дифференциация (региональная, экономическая, социальная, культурная и т. п.) может резко возрасти. К. Дойч (теория коммуникаций), анализируя «уязвимость» так называемых амальгамированных сообществ, то есть объединений, располагающих общими наднациональными органами, полагает, что это проявление «бремени» интеграции бывает более быстрым и сильным, чем любой компенсирующий интеграционный процесс. Представители структурной школы интеграции (П. Уайлз, Ф. Перру и др.), основываясь на признании наличия «созвездия полюсов» —сильных (динамических) и слабых (депрессивных) зон внутри данного региона и интегрирующихся стран, —выдвигают концепцию «полюсов роста», согласно которой определенные субъекты в сильных зонах могут выступить в роли субъектов развития10.
Решить поставленную проблему на практике призвана региональная политика интеграционного объединения, идеально-типическая модель которого во многом сформировалась в Европейском Союзе. Его расширение спровоцировало, как считают многие авторы, усиление поляризации между странами и регионами (между Севером и Югом, «старыми» и «новыми» членами, внутри стран —между Востоком и Западом Еермании, Севером и Югом в Италии и т. д.). «Основные вкладчики» в сокращение межрегиональных диспропорций на основе «взаимной солидарности» и «углубления интеграции» в ЕС —это Австрия, Великобритания, Еермания, Дания, Люксембург, Нидерланды, Финляндия, Швеция; «получатели» — Ереция, Ирландия, Испания, Италия, Португалия.
Региональная политика ЕС, активизировавшаяся в 1970-е годы, когда актуальным стал вопрос расширения, в настоящее время проводится в отношении следующих регионов:
-
1) где ВВП на душу населения составляет меньше 75 % среднего уровня по ЕС (регионы Португалии, Испании, Ереции, Восточной Еермании и др., с 2004 года — практически вся территория восточной части ЕС; в частности, только Польша из Структурных фондов ЕС, в том числе Фонда регионального развития, в 2007 —2013 годах получит более 60 млрд евро) и редконаселенных северных территорий (с плотностью населения меньше 8 чел. на 1 км2) Швеции и Финляндии (направление I);
-
2) испытывающих структурные проблемы (безработицы, загрязнения окружающей среды, депопуляции населения и пр.) или отстающих в развитии (северо-восток Испании, Южная, Западная и Восточная Франция, Центральная Италия и др.) (направление II).
III налнаправление неМ€имеетipтеррито альной привязки, но нацелено на решение конкретных проблем, связанных главным образом с безработицей и обеспечением равных возможностей для мужчин и женщин на рынке труда11.
Планируемые расходы на 2000 —2006 годы по всем трем направлениям — 204 млрд евро (в 1994 — 1999 годах — 153 млрд экю). В новом бюджетном перио- де ЕС (2007 —2013 годах) бюджет Структурных фондов ЕС составит 336,2 млрд евро, из них 78,4 % будет выделено на сглаживание неравенств между странами и регионами, 17,22 % —на повышение конкурентоспособности и рабочей занятости, 3, 94 % —на развитие межтерриториального европейского сотрудничества12.
Региональные диспропорции внутри интеграционного комплекса усиливают актуальность формирования оптимальной модели власти и управления им. В теории интеграции предлагаются достаточно сложные и громоздкие схемы, включающие в себя несколько уровней: глобальный —планирующие агентства, вненациональный — функциональные специализированные органы (по сферам сотрудничества), национальный —органы власти интегрирующихся государств. В пределах региона, с точки зрения неофункционалистов, могут быть разные варианты: формирование «регионального государства» с консолидацией власти у наднациональных органов, «региональной общины» с рассредоточением власти между властными органами интеграционного объединения, «асимметричной региональной надстройки» с распределением власти между наднациональными и национальными органами и пр.13
Ведущие позиции в осмыслении проблемы «участия» регионов как субъектов федерации или административно-территориальных единиц внутри интегрирующихся стран в осуществлении власти и управления в интеграционном объединении до сих пор занимает федералистская теория (неофедерализм) (Дж. Пиндер, А. Сбрад-жа). Подчеркивается, что федерализм, исходя из принципа «единство в многообразии» — складывания культурного пространства европейской цивилизации из самоуправляющихся и автономных общностей, выступает как гарант местной или региональной автономии. По мнению Т. Фадеевой, ограничивая размеры основных политических единиц, он в то же время создает возможность коллективного участия в широком союзе, что устраняет их политическое отчуждение и обеспечивает слаженное взаимодействие14. Соответственно главное здесь — это распределение власти при условиях тщательно разра- ботанной структуры социально-политических институтов при условии децентрализации некоторых функций на региональном и локальном уровнях, на что ориентированы концепции социетального и интегрального (в большей степени) федерализма (И. Альтузий, Ф. Кински). Своеобразная субгосударственная власть на этом уровне вытекает из «демонополизации» государства (делегирования полномочий «сверху вниз» и сотрудничества регионов) и обосновывается принципами субсидиарности и широкой партиципации.
Следуя логике данных концепций, Р. Симонян замечает, что объединение Европы, которое представляет собой социальную интеграцию высшего уровня, повлечет за собой децентрализацию на локальном уровне; по его словам, когда «страна вступает в Европейский Союз, больше всего теряют государственные органы власти — парламенты и правительства. А локальная, местная, власть по-прежнему остается силой, более того, ее значение в этих условиях даже возра-стает»15. Д. О. Ежевский выявляет также вторую сторону рассматриваемого процесса децентрализации: «Местные власти все больше начинают видеть в общеевропейских институтах определенного гаранта своих прав, более того —противовес возможному произволу со стороны национальных правительств»16. Это можно считать своеобразным проявлением «перенаправления лояльности» и «перерождения идентификации» — основы интеграционного процесса согласно теории функционализма. Содействие здесь могут оказывать Консультативный совет местных и региональных властей, Комитет регионов, Группа местных и региональных парламентариев в Европейском парламенте. Вместе с тем проблема идентичности, чрезвычайно важная в современных условиях как для отдельных стран в разных регионах мира, так и для европейцев, не находит полного разрешения, поскольку сохраняются противоречивые явления: с одной стороны, усиливается кризис легитимности центральных правительств, с другой — растет недоверие к интеграционным институтам и порождается «местный» национализм.
Еще в декларации Ассамблеи регионов Европы «О регионализме в Европе» (1996) указывалось, что регионы представляют собой «важнейший и незаменимый элемент построения Европы и процесса европейской интеграции». Реализация пропагандируемой Россией концепции «Большой Европы без разделительных линий» (ее могут приблизить «Дорожные карты» по формированию четырех общих пространств, принятые Россией и ЕС на московском саммите в мае 2005 года) увеличивает роль приграничных регионов РФ на этом направлении. В частности, в рамках «Северного измерения» ЕС в Партнерство окружающей среды активно вовлечены Архангельская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Ленинградская области, Санкт-Петербург и Республика Коми17.
На постсоветском пространстве взаимодействие регионов весьма актуально в плане создания необходимой материальной и коммуникативной базы, «новой лояльности» и позитивного взаимного восприятия российско-белорусской интеграции. На начало 2000-х годов договорно-правовую базу российско-белорусского сотрудничества на региональном уровне образовывали более 160 документов. В настоящее время 70 субъектов Российской Федерации имеют постоянные торговые связи с Республикой Беларусь (РБ), а в кооперационные связи с белорусскими предприятиями вовлечены предприятия из 79 регионов РФ. Лидерами экономического взаимодействия с РБ, как констатировалось на I Белорусско-российском экономическом форуме «Россия и Беларусь: практика реальной интеграции» (сентябрь 2005 года), являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская и Смоленская области. В РБ наиболее активна Минская область, внешнеторговый оборот которой с регионами РФ колеблется около 800 млн дол. Но в целом отмечается «московская ориентация» белорусского экспорта —на долю Москвы приходится около 42 % его общего объема (в 2005 году —более 19 млрд дол.). «Тремя китами» межрегионального взаимодействия традиционно были промышленность, строительство и сельское хозяйство18.
Однако и на межрегиональном уровне российско-белорусского взаимодействия, как и на межгосударственном, наблюдаются негативные или настораживающие моменты, не способствующие двусторонней интеграции. Н. Федулова, говоря об установлении системных торговых связей между Беларусью и российскими регионами, справедливо замечает, что это составляет и основу, и стимул межгосударственных интеграционных процессов, но не является интеграцией как таковой19. А. Рудков, сотрудник Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, подчеркивает, что пока межрегиональные связи как потенциал сближения двух частей Союза используются достаточно слабо. На его взгляд, в приграничной зоне можно было бы наглядно продемонстрировать преимущества совместных усилий по решению экологических и социально-бытовых проблем, а отдельные районы превратить в новые центры экономического роста, дать старт реализации совместных программ («зерно —мясо» и т. д.)20. Таким образом, колебания политической «игры» и экономических «войн» (валютной, газовой), несколько ослабившие свое деструктивное воздействие в конце 2005 — начале 2006 года в связи с некоторыми факторами (один из важнейших —президентские выборы в Беларуси), но все же серьезно осложняющие выполнение положений Договора о создании Союзного государства Беларуси и России 1999 года, дополняются, к сожалению, опасностью социального отчуждения или недовольства.
В целом мировая практика интеграционных процессов показывает, что потенциал «соприсутствия» регионов наряду с национальными государствами —их главными субъектами — реализуется явно недостаточно, особенно на постсоветском пространстве. Теоретически регионы воспринимаются, и это нередко декларируется властными органами на различных уровнях, как участники вертикальных (управление) и горизонтальных (сотрудничество) коммуникаций. Однако в лучшем случае регионы даже в Европейском Союзе выполняют роль агентов интеграционного процесса, но не субъектов. В то же время их статус становится более дифференцированным, отражая многообразие ситуа- ций и возможностей, возникающих в ходе интеграции. С политической точки зрения идеальной для регионов является неофеде-ралистская модель, элементы которой частично реализуются в Европе и вполне, с учетом специфики геополитических, социально-экономических и культурно-цивилизационных условий, могут быть применимы в строительстве Союзного государства Беларуси и России.
Список литературы Регион в условиях интеграции: особенности статуса и роли
- Etzioni A. Political Unification/А. Etzioni N. Y., 1965. P. 28-29.
- Galtung J. The European Community: A Superpower in the Making/J. Galtung. Oslo, 1973. P. 16, 29.
- Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе/В. Г. Барановский М., 1983. С. 143.
- Борко Ю. А. Экономическая интеграция и социальное развитие в условиях капитализма: буржуазные теории и Европейское сообщество/Ю. А. Борко. М., 1984. С. 46, 173.
- Вайденфельд В. Новое лицо Европы//Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2, № 4. С. 44.
- Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века/И. Валлерстайн М., 2003. С. 65-66.
- Гавриков Д. Европейский Союз как территория противоречий//Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 12. С. 91-92.
- Европейская интеграция: современное состояние и перспективы: сб. науч. ст./науч. ред. С. И. Паньковский. Минск, 2001. С. 8-12.
- Ежевский Д. О. Роль международных организаций в развитии местного самоуправления в Европе//Государство и право. 2005. № 4. С. 105.
- Ермошин В. Приоритеты Союзного государства//Российская Федерация сегодня. 2001. № 7. С. 30.
- Журавская Е. Г. Региональная интеграция в развивающемся мире: немарксистские теории и реальность/Е. Г. Журавская. М., 1990. С. 26-27.
- Иноземцев В. Возвращение Европы. В поисках идентичности: европейская социокультурная парадигма/В. Иноземцев, И. Кузнецова//Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 6. С. 11.
- Коукер К. Сумерки Запада/К. Коукер. М., 2000. С. 136, 142.
- Кузнецова Е. «Дорожные карты» приведут Россию в Европу?//Международная жизнь. 2005. № 6. С. 102-107.
- Кузнецова Е. The Breaking of Nations. Размышления над книгой Роберта Купера//Международная жизнь. 2004. № 2. С. 12-13.
- Нелсон Д. Европа versus Америка?//США, Канада: Экономика. Политика. Культура. 2002. № 9. С. 104.
- Российская Федерация сегодня. 2001. № 6. С. 28.
- Российская Федерация сегодня. 2005. № 18. С. 18.
- Рудков А. Товарооборот -главный показатель интеграции?//Российская Федерация сегодня. 2005. № 10. С. 22 -23.
- Селиванова И. Пятилетие союзных отношений России и Белоруссии (некоторые итоги)//Власть. 2001. № 6. С. 45.
- Селиванова И. Российско-белорусские отношения -противоречивое единство//Власть. 2004. № 11. С. 19.
- Сергунин А. А. Международная деятельность российских регионов: основные направления «кризисной стратегии»//Регион в составе федерации: политика, экономика, право. Н. Новгород, 1999. С. 158-161.
- Симонян Р. Проблемы перехода от национально-государственных объединений к региональным//Власть. 2004. № 5. С. 71.
- Современные буржуазные теории международных отношений/отв. ред. В. И. Гантман. М., 1976. С. 286-287.
- Социологические проблемы международных отношений/под ред. Ф. В. Константинова и др. М., 1970. С. 58-66.
- США и Европа: перспективы взаимоотношений на рубеже веков/отв. ред. А. И. Уткин. М., 2000. С. 89-90.
- Фадеева Т. Федералистская модель Европейского Союза: концепции и практика//Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 6. С. 25.
- Федулова Н. Перспективы российско-белорусского объединения//Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 7. С. 101.
- Шеленкова Н. Б. Европейская интеграция: политика и право/Н. Б. Шеленкова. М., 2003.
- Шемятенков В. Г. Европейская интеграция/В. Г. Шемятенков. М., 2003.
- Шишков Ю. В. Теории региональной капиталистической интеграции/Ю. В. Шишков. М., 1978. С. 153-165.
- Юргенс И. Балтийская «лаборатория» Большой Европы//Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2, № 3. С. 184.