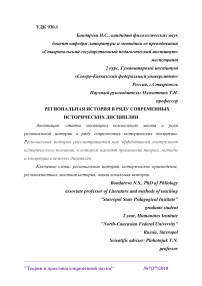Региональная история в ряду современных исторических дисциплин
Автор: Бондарева Н.С.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 7 (37), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена осмыслению места и роли региональной истории в ряду современных исторических дисциплин. Региональная история рассматривается как эффективный инструмент исторического познания, в котором находят применение теории, методы и концепции смежных дисциплин.
Региональная история, историческое краеведение, регионалистика, местная история, новая локальная история
Короткий адрес: https://sciup.org/140273711
IDR: 140273711
Текст научной статьи Региональная история в ряду современных исторических дисциплин
В XX веке, в период наступившего постмодернизма, историческая наука пережила определенный кризис в своем развитии. В это время происходит крушение веры в «великие метаповествования» и «метарассказы». «Сегодня, – утверждает французский философ Ж-Ф. Лиотар, – мы являемся свидетелями раздробления, расщепления «великих историй» и появления множества более простых, мелких, локальных «историй-рассказов»; смысл этих крайне парадоксальных, по своей природе, повествований – не узаконить знание, а драматизировать наше понимание кризиса»1.
В сложившейся ситуации общенациональная история постепенно отходит на второй план, а лидирующие позиции начинает занимать история отдельных регионов и локусов. Этой тенденции способствовало также выявление несостоятельности макроисторических подходов, необоснованного выделения в рамках исследований национальногосударственной истории узкого диапазона ведущих тенденций на фоне широкой панорамы исторического прошлого. «И уход на микроуровень в рамках антропологической версии социальной истории изначально подразумевал перспективу последующего возвращения к генерализации на новых основаниях (что ориентировало на последовательную комбинацию инструментов микро- и макроанализа), хотя и с достаточно отчетливым осознанием тех труднопреодолимых препятствий, которые встретятся на этом «обратном» пути»2.
Традиционная история представляла собой линейное повествование. Новая неклассическая историческая наука, зарождающаяся во второй половине XX века, акцентирует внимание на горизонтальном исследовании. В этом случае перед учеными ставится новая задача – углубленное и детальное изучение истории отдельных регионов.
Основная проблема в процессе формирования нового научного направления заключалась в том, что первоначально не была выработана общая методика историописания отдельного региона, не были осмыслены и систематизированы методы подобной работы.
На рубеже веков региональная история уже выделилась в самостоятельное направление, но ни в российской, ни в западноевропейской исторической науке еще не были четко обозначены объект и границы ее исследования. Не удивительно, что в первое время отдельные исследователи не делали принципиальных различий между региональной историей и историческим краеведением. Однако историки-профессионалы уже с самых первых шагов при изучении региональной истории старались провести четкие границы между научными исследованиями и «любительскими» работами местных историописателей. Уже в 2005 году в статье «Тип исторического знания в провинциальном историописании и историческом краеведении» С.И. Маловичко характеризует традиционное краеведение как «антикварную модель исследования»3.
Однако до настоящего время в установлении объекта и предмета региональной истории нет строгой определенности, «прежде всего, речь идет о разграничении предметных полномочий таких направлений исследования, как регионалистика / регионология; краеведение / историческое краеведение; локальная история / новая локальная история; провинциальная / региональная / местная история и историография»4.
С.О. Шмидт отмечает, что краеведение и региональная история имеют принципиальное различие на основании широты рассматриваемых ими явлений: «В наши дни регионология (или регионалистика) утвердилась как междисциплинарная научная и просветительская деятельность на стыке наук гуманитарного и иного профиля… Это комплекс более широких (и в то же время менее конкретизированных) знаний, чем краеведение, включающих современное состояние региона и сферу политологии… Под краеведением понимают не только науку, изучающую развитие и современное состояние конкретных региональных сообществ и территорий, но и научно-популяризаторскую и просветительскую работу определенной тематики: о прошлом и настоящем какого-либо края (обычно своего родного – “малой родины”) и его памятников. Объектом интереса краеведа может быть местность разного пространственного масштаба и культурно-исторического значения…»5.
Обращаясь к определению предмета исследования С.О. Шмидт замечает, что с точки зрения пространственного охвата региональная история в качестве последнего может избрать конкретные региональные сообщества и территории, что включает в себя предмет исследования краеведения.
Л.А. Егорова в свою очередь говорит о необходимости отказа от самой терминологии «историческое краеведение», которое, по мнению исследователя, должно быть заменено на термин «историческая регионалистика». Краеведение же должно быть выведено за рамки исторического научного знания. В лучшем случае его можно «оставить для любителей местной истории и старины, разграничив, тем самым, поля деятельности»6.
Подобное предложение Л.А. Егоровой можно считать вполне обоснованным, поскольку по своей сути историческое краеведение представляет не что иное, как модель историописания, в большинстве случаев ни по своему содержанию, ни по профессионализму отбора, обработки и изложения материала не отвечающую требованиям официальной исторической науки. При этом речь не идет о полном отказе от работ местных авторов, основная проблема заключается в том, чтобы «переквалифицировать местных историков и краеведов в специалистов в области региональной истории»7.
С.И. Маловичко и М.Ф. Румянцева отмечают, что функции местной истории, постепенно эволюционировавшей в краеведение, и региональной истории принципиально отличаются. «Первая целенаправленно (хотя, возможно, и неотрефлексированно) конструирует ориентированное на удовлетворение потребностей локального социума историческое знание о его прошлом, которое не базируется на исторической науке (но задействует ее аппарат). Местная история могла и может существовать, только подражая линейной модели классической европейской историографии, только в таком виде возможна ее трансляция в массовое сознание»8.
Однако местная история изначально была далека от исторической теории. В своей основе она избегала исторической методологии, сложных гипотез, структурных обобщений, а уделяла больше внимания отдельным деталям и особенностям исторического процесса, происходящего на региональном уровне. В качестве ключевого недостатка местной истории на данном этапе можно обозначить узость ее взглядов, обращение к анализу отдельных моментов, событий и реалий действительности, в их отрыве от общего исторического процесса. Отсутствие глубоких теоретических обобщений изолирует местную историю, не дает ей возможность панорамного взгляда и осмысления процессов, присущих эпохе в целом.
Учитывая то, что региональная история возникает как отдельное направление неклассической историографии, можно полагать, что она в меньшей степени будет удовлетворять запросам общества, особенно потребности в формировании национальной идентичности. Региональная история должна отвечать в первую очередь общенаучной проблематике и не акцентировать внимания на частных вопросах. «В исторической науке это приводит к разрыву социально ориентированной и научно ориентированной истории, а в области истории локусов – к разрыву краеведения как социально ориентированного историописания, целенаправленного на формирование локальной социальной памяти, и собственно локальной истории (новой локальной истории) как предметного поля в структуре актуального научного исторического знания»9.
Здесь стоит акцентировать внимание на еще одном направлении современной неклассической истории – истории локальной. Ее возникновение и выделение в качестве отдельной отрасли исторической науки основано на «рефлексии о способности видеть целое прежде составляющих его локальных частей, воспринимать и понимать контекстность, глобальное и локальное, отношения исторических макро- и микроуровней. Изучаемый локус предполагает нелокальность, так как исследовательская операция строится на признании глубокой взаимной детерминации “внешнего” и “внутреннего”»10.
Преимущество локальной истории заключается в том, что объект ее изучения не задан изначально, «исторический ландшафт» исследования не ограничен какими бы то ни было территориальными рамками и каждый историк имеет право определить его самостоятельно.
В целом новая локальная история использует полидисциплинарный подход, который дает возможность применения методологий различных гуманитарных наук конца XX – начала XXI вв., подразумевает изучение истории отдельного региона и соотнесение ее с исследовательским полем общероссийской истории. Таким образом возникает своего рода диалог местной истории с историей общероссийской, а затем и с мировой исторической наукой.
Определяя направление новой локальной истории в статье «Кавказоведение: опыт исследований», Т.А. Булыгина отмечает, что данная отрасль истории «изучает деятельность и отношения людей в их социальном и личностном взаимовлиянии в локальном и общероссийском пространстве. Это сообщество… отличается относительной автономностью, что позволяет при изучении локальной истории увидеть ее особенности, уникальные проявления, свойственные именно местной социокультурной истории»11. Цель новой локальной истории, по мнению исследователя, заключается в переориентации местной истории, которая изначально по примеру краеведения, делала акцент на простой фиксации событий прошлого на осмысление «изучение внутреннего мира частного и социального поведения, миропредставлений, повседневного бытия Человека»12.
В терминологическом словаре «Теория и методология исторической науки» под редакцией Л.О. Чубарьяна новая локальная история понимается как «предметное поле постнеклассической исторической науки»13. В качестве объекта исследования здесь определены локусы не в их традиционных региональных границах, которые изначально задаются территориальными рамками, а отдельные социальные структуры, в совокупности своей составляющие целостную историческую картину, учитывающую отдельные контексты локальной истории и представляющую ее в глобальной перспективе.
В отличие от краеведения, которое по сути своей являлось источником иллюстративного материала и отдельных, в ряде случаев противоречивых положений, новая локальная история тесно взаимосвязана с историей социальных групп, которые она рассматривает в определенных временных и пространственных границах на основе реальных социальных отношений.
Подводя итоги, следует отметить, что на рубеже XX и XXI веков особенно остро стала осознавалась необходимость создания новых теоретических моделей, способных выявить механизмы взаимодействия локальных, региональных и национальных процессов. Возникающие в исторической науке новые направления исследования функционируют наряду с уже давно существующими. В связи с этим возникает задача четкой дифференциации данных направлений и определения границ объекта их исследования. И если традиционное краеведение может быть рассмотрено как «не совсем научная» (С.И. Маловичко) исследовательская практика, ориентированная прежде всего на массовое сознание, то новые отрасли истории представляют собой научно-ориентированное историописание. В то же время в одних своих версиях региональная история смыкается с локальной историей, в других – дистанцируется от нее. Причем границы между ними остаются неясными и зачастую просто не рефлексируются.
Список литературы Региональная история в ряду современных исторических дисциплин
- Булыгина Т.А. История Северного Кавказа: новые исследовательские подходы // Кавказоведение: опыт исследований. Материалы международной научной конференции. - Владикавказ, 2006. - С. 35-42.
- Егорова Л.А. Перспективы развития и использования методов школы исторического краеведения в сфере локальных исторических исследований // Горизонты локальной истории Восточной Европы в XIX-XX веках. - Челябинск, 2003. - С. 48-55.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А. Шматко - М.: Институт экспериментальной социологии, Спб.: Алетейя, 1998. - 160 с.
- Маловичко С.И. Тип исторического знания в провинциальном историописании и историческом краеведении // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. - Вып. 7. - Ставрополь, 2005. - С. 5-31.
- Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки // Регiональна iсторiя України. Збiрник наукових статей. - Вип. 7. - К.: Iнститут iсторiї України НАН України, 2013. - С. 39-54.
- Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. К.·Аймермахера, Г.·Бордюгова. Изд. 2-е, испр. и дополн. - М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-ХХ, 2003. - 432 с.
- Репина Л.Н. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. социальные теории и историографическая практика. - М.: Кругъ, 2011. - 560 с.
- Хлынина Т.П. Историческая регионалистика: основные концепты и проблемы дисциплинарного роста // Былые годы. 2010. - № 3 (17). - С. 71-78.
- Чубарьян А.О. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. - М.: Аквилон, 2014. - 575 с.
- Шмидт С.О. Краеведение и региональная история в современной России // Методология региональных исторических исследований: материалы международного семинара. 19-20 июня 2000 г. - СПб., 2000. - С. 11-15.