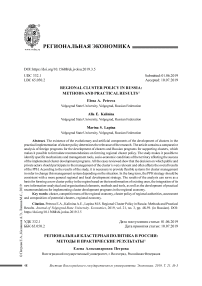Региональная кластерная политика в России: методы и практические результаты
Автор: Петрова Елена Александровна, Калинина Алла Эдуардовна, Лапина Марина Сергеевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu
Рубрика: Региональная экономика
Статья в выпуске: 3 т.21, 2019 года.
Бесплатный доступ
Существование эволюционной и искусственной компонент развития кластеров в практической реализации кластерной политики обусловливает актуальность данного исследования. В статье проведен сравнительный анализ зарубежных программ развития кластеров и российских программ поддержки кластеров, который позволяет сформулировать рекомендации по формированию региональной кластерной политики. Проведенное исследование позволило определить конкретные механизмы и инструменты управления, социально-экономические условия территории, влияющие на успешность реализуемых программ развития кластеров. Все рассмотренные случаи показывают, что решение о том, какие государственные и частные субъекты должны участвовать в управлении кластером, является очень актуальным и часто влияет на общие результаты ПРК. По итогам проведенного исследования необходимо предусмотреть гибкую систему управления кластером, чтобы в зависимости от сложившейся ситуации изменить данную систему. В долгосрочной перспективе стратегия ПРК должна соответствовать более общей стратегии регионального и местного развития. Результаты анализа могут служить основой для формирования новой кластерной политики региона на основе трансформации существующих, интеграции новых информационно-аналитических и организационных ее элементов, методов и средств, а также выработки практических рекомендаций по реализации программ кластерного развития в экономике региона.
Кластер, конкурентоспособность экономики региона, кластерная политика региональных властей, оценка и состав потенциальных кластеров, региональная экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/149130096
IDR: 149130096 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2019.3.5
Текст научной статьи Региональная кластерная политика в России: методы и практические результаты
DOI:
Десятилетний опыт применения концепции кластерного регионального развития показал, что под кластерами в зависимости от контекста понимается множество различных структур, а предлагаемые механизмы поддержки процессов кластеризации характеризуются чрезвычайно общим характером и объединяют широкий спектр мер традиционных политик развития. На практике это часто приводит к неочевидности и неэффективности мер кластерной политики, непредсказуемой, зачастую противоположной ожидаемой реакции сложного объекта регулирования.
Разработка эффективных мер кластерной политики осложняется нечетким характером объекта регулирования, неразвитостью и несопоставимостью используемых критериев оценки деятельности, отсутствием адекватных методов прогнозирования, что определяет необходимость научно обоснованного подхода к пониманию и развитию кластеров. Первоисточниками отмеченных проблем являются дина- мичный характер и разнообразие типов кластеров, осложняемых отсутствием системного подхода к их изучению и развитию.
Каждый кластер в ходе своей эволюции может характеризоваться различным составом участников и множественностью возможных конфигураций связей между ними. Причина этого в неопределенности внешней среды и порой непредсказуемом поведении его участников [Калинина и др., 2018, с. 27].
В практической реализации кластерной политики существуют две принципиально разные, но взаимодополняющие компоненты развития кластеров – эволюционная (естественный процесс развития, обусловленный стратегиями и взаимодействием экономических агентов в определенной среде) и искусственная (собственно кластерная политика, как правило подразумевающая активную роль государства). Практически полное игнорирование первой составляющей и, как следствие, неадекватные меры второй образуют основную проблему регулирования развития кластеров.
Отсюда центральная задача современной кластерной политики видится в способности органично вписаться в естественный процесс эволюции системы [Марков, 2014, с. 23–24].
Стратегические проблемы, стоящие на пути осуществления кластерного подхода, можно условно разбить на две категории. Во-первых, общие трудности, свойственные реализации кластерной политики как таковой, и, во-вторых, проблемы уникальности, вытекающие из индивидуальных особенностей объекта регулирования и специфики социально-экономической обстановки в конкретной территории. При этом главной проблемой кластерной политики общего плана является неосознание проблем второго типа [Petrova, 2018, p. 159].
Более половины всех кластерных инициатив в регионах России поддержаны различными государственными программами федерального уровня, остальные реализуются в рамках программ развития кластеров, принятых органами исполнительной власти субъектов РФ.
Анализ данных программ предполагает оценку результатов программ развития кластеров (ПРК) и отвечает на следующие вопросы:
– Как следует выбирать кластеры?
– Какие институциональные механизмы работают лучше для содействия координации между государственным и частным секторами?
– Требуются ли разные подходы для кластеров с различными характеристиками?
– Какие ключевые участники вовлечены в ПРК?
Указанный сравнительный анализ не позволит оценить причинно-следственную связь между результатами и применяемыми инструментами кластерной политики, тем не менее он помогает понять конкретные механизмы, определяющие результаты, и роль конкретных социально-экономических и политических условий экономики, которые делают программу успешной.
Результаты такого анализа могут служить базой для формирования новой кластерной политики региона на основе трансформации существующих и интеграции новых информационно-аналитических и организационных ее элементов, методов и средств, а также выработки практических рекомендаций по реализации программ кластерного развития в экономике региона.
Материалы и результаты исследования
Для проведения сравнительного анализа были использованы материалы по итогам развития кластеров в России, представленные в аналитическом отчете «Кластерная политика: достижение глобальной конкурентоспособности» [Кластерная политика ... , 2018], опубликованном Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики». Анализ зарубежных программ кластерного развития проведен на основе Программы поощрения экспорта и инвестиций (Apoyo a la Promociуn de Exportaciones e Inversiones), подпрограммы Программы продуктивной модернизации (Programa de Apoyo a la Modernizaciуn Productiva) в провинции Рио-Негро, Аргентина [Giuliani et al., 2016, p. 117– 151], программы Поддержки повышения конкурентоспособности фирм в кластерах в штате Сан-Паулу (Protama de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Produtivos do Estado de Sгo Paulo) в Бразилии [Garone et al., 2016, p. 85–117], Программы агентств регионального развития (Programa Agencias Regionales de Desarrollo Productivo) в Чили [Casaburi et al., 2016].
Перечисленные выше программы, как зарубежные, так и российские, проводились государственными учреждениями, которые несли ответственность за реализацию и получали финансирование для проведения мероприятий по укреплению отдельных кластеров в стране (или штате, или провинции, или субъекте РФ). Основные задачи, реализованные в ходе программ:
– картирование и выбор кластеров для поддержки на целевой территории;
– определение проблем и необходимости политического вмешательства на уровне кластера;
– реализация действий, определенных на этапе;
– мониторинг и оценка программы.
Несмотря на эту общую структуру, ПРК принимают много разных форм. Действия на уровне кластера, как правило, не сильно различаются, но масштаб деятельности меняется.
Решение проблем координации является одной из ключевых задач таких программ. В целях устранения ошибок в этой сфере про- граммы создают формальные и неформальные институциональные рамки для содействия частному, государственно-частному сотрудничеству. Чтобы стимулировать более коллективные действия среди частных фирм в данном кластере, ПРК обычно укрепляют местную бизнес-ассоциацию, помогают создать новую бизнес-ассоциацию или новую кластерную ассоциацию, в которую могут вступить компании. ПРК, поддерживаемые в случае зарубежного опыта, также включают некоторую форму государственно-частного консультативного совета, где взгляды и интересы компаний и государственных чиновников могут сходиться вокруг общих целей для всей программы. Затем программы создают механизмы управления, которые облегчают коллективные действия между частными и государственными субъектами, имеющими отношение к развитию этого кластера.
Формами государственной поддержки при реализации российских программ выступали: федеральные субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование мероприятий, указанных в программах развития пилотных инновационных территориальных кластеров, промышленных кластеров; комплексная поддержка развития кластера (экспорт, привлечение инвестиций, коммерциализация технологий, обучение менеджеров кластера) [Клейнер и др., 2008].
Средства, выделяемые на каждую ПРК, варьировались на уровне программы. В Аргентине финансирование достигло 2,7 млн долларов США, в Бразилии – 20 млн долларов США, в Чили – 40 млн долларов США. Тем не менее, учитывая разное количество кластеров, которые должна поддерживать каждая программа, эти цифры не сильно различались: от 0,5 до 1,3 млн долларов США на кластер [Casaburi et al., 2014, p. 151].
Программа создания и поддержки центров кластерного развития (ЦКР), финансируемая Министерством экономического развития России, предоставила отобранным регионам с 2010 по 2016 г. 1,06 млрд рублей (приблизительно 16,5 млн долларов). В 2013– 2015 гг. было выделено тем же министерством на поддержку пилотных инновационных территориальных кластеров 5 млрд рублей (приблизительно 90 млн долларов). Программа поддержки промышленных кластеров осуществляется с 2015 г. Министерством промышленности и торговли РФ. Основная форма поддержки представлена федеральными субсидиями на реализацию совместных проектов, одобренных конкурсной комиссией. В 2016– 2020 гг. планируется потратить 3,24 млрд рублей (приблизительно 60 млн долларов).
Национальный и/или субнациональный охват и инновационная реализация кластеров в рамках уже существующего уровня конкурентоспособности и промышленной политики были общими характеристиками всех ПРК. В Аргентине и Бразилии (крупных федеративных странах) ПРК были программами субнационального уровня, разработанными автономно правительствами провинции Рио-Негро (Аргентина) и штата Сан-Паулу (Бразилия). В Чили ПРК была частью децентрализованной промышленной политики, которая включала создание агентств развития в каждом из 15 регионов страны в рамках инициативы центрального правительства.
Каждая из ПРК инициировала процессы в контексте уже реализуемой промышленной политики. Например, в Бразилии и Чили были разработаны очень продвинутые и сложные программы поддержки малых и средних предприятий (МСП) с механизмами вмешательства, аналогичными кластерной методологии. В Аргентине отдельные программы национального уровня, предназначенные для поддержки МСП в рамках сельскохозяйственной политики или инновационных программ, уже действовали, и ПРК выполнялись совершенно независимо от них. Тем не менее во всех этих случаях были внедрены инновации в рамках промышленной политики каждой страны.
Решение проблем координации участников кластеров было главным при разработке программ кластерного развития в странах Латинской Америки. Поэтому основными направлениями их реализации были повышение стратегической кокурентоспособности, софи-нансирование и создание структур управления.
Первый программный компонент обычно способствовал повышению осведомленности и мобилизации компаний-бенефициаров и других организаций по таким кластерным вопросам, как сотрудничество между государ- ственным и частным секторами, сбои рынка и факторы, влияющие на коллективную конкурентоспособность. Затем была запланирована стратегия участия для разработки Программы повышения конкурентоспособности (ППК) для каждого кластера, которая была поддержана ПРК. Следующий этап включал реализацию ППК посредством проектов и/или мероприятий, совместно финансируемых государственными и частными участниками кластера. Заключительный этап включал мониторинг и оценку деятельности.
Решение о финансировании программы принималось на основе анализа соответствия рекомендациям ППК. В большинстве случаев была поставлена четкая цель – выявить недостающие общественные ресурсы или товары, которые могут принести пользу всем компаниям в кластере и получить самый высокий процент финансирования от программы.
Во всех трех случаях особое внимание было уделено созданию структур управления внутри кластеров, которые включали как местные компании, так и государственные учреждения. Так, в Чили структура управления развернулась с региональными и местными центрами, поскольку совет управления на местном уровне (Gobernanzas Locales de Aglomerados Productivos, или GLAP) работал под эгидой Регионального агентства по продуктивному развитию (Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, или ARDP). Эти кластерные модели управления имели разные характеристики, однако основными были согласование интересов ключевых участников кластера в рамках общей стратегии и плана действий, утверждение коллективных решений и контроль за выполнением действий.
В случае реализации российских ПРК не предусматривалось формирование программ повышения конкурентоспособности. При отборе участников программ Министерство экономического развития единовременно сформировало список без четкой регламентации при внесении изменений. Такая же ситуация наблюдалась и в программах, поддерживаемых Минпромторгом.
Финансирование Минэкономразвитием осуществлялось в результате ежегодного конкурса по итогам года, Минпромторг заклю- чил контракт на 5 лет с инициатором совместного проекта промышленного кластера.
Формирование каких-либо совместных структур управления также не предусматривалось ни одной российской программой.
В дальнейшем остановимся на анализе опыта реализации зарубежных программ кластерного развития, так как результаты российских программ отражают лишь абсолютные значения таких показателей, как объем производства, выработка на одного работника, число новых высокопроизводительных рабочих мест, объем совместных проектов в сфере НИОКР.
Кластерный подход в социально-экономическом развитии территории до сих пор остается еще для многих регионов (в том числе и для российских) новым [Калинина и др., 2019]. Поэтому реализуемые программы, особенно на начальных этапах, подвергаются различным ограничениям. Так, программы, реализуемые в Сан-Паулу и Рио-Негро, столкнулись с трудностями бюрократического характера из-за международного финансирования. В Рио-Негро основным препятствием стал процесс проведения тендера по найму международной консалтинговой фирмы для содействия процессу стратегического планирования с участием общественности. Процесс найма занял почти два года, что повлияло на ожидания ключевых участников кластера. В Сан-Паулу длительная задержка – почти три года – между разработкой программы и первой выплатой средств была вызвана проблемами между штатами и федеральными ведомствами, которые санкционировали субнациональный внешний долг. Это особенно негативно сказалось на двух кластерах, выбранных для пилотных программ.
В Чили, где инициатива ПРК была задумана как шаг к децентрализации политики развития, процесс создания агентств и выбора кластеров был в высшей степени централизованным. Программа преследовала две разные, но очень важные цели: создать институты, способствующие долгосрочному региональному развитию; создать и поддержать не менее 45 кластеров. Эту непростую задачу предполагалось выполнить за четыре года, причем основная часть наиболее сложных организационных этапов была запланирована на первые полтора-два года. Частично в результате вынужденного ускорения результаты ПРК сильно различались, при этом регионы с лучшими условиями использовали преимущества ПРК, в то время как многие более слабые регионы пытались сохранить темпы развития даже после того, как поддержка со стороны центрального правительства сократилась.
Что касается межфирменной координации, то во всех зарубежных программах были разработаны организационные структуры, способствующие продвижению официального или неформального механизма управления кластером, в котором частный сектор имел единый голос. Те кластеры с деловыми палатами, которые представляли ориентацию развития частного сектора и были в некоторой степени согласованы с целым кластером, стали субъектом, через который фирмы выражали собственные интересы, обсуждали разногласия и устанавливали свои позиции по отношению к ППК [Kalinina et al., 2017, p. 60].
ПРК часто включали в себя некоторую форму государственно-частного консультативного совета, где обсуждались взгляды и интересы фирм, политиков относительно общих целей, касающихся программы как в целом, так и в отдельности. Это способствовало улучшению взаимодействия между частными и государственными субъектами и имело важное значение для развития кластера.
Во всех программах, реализуемых в странах Латинской Америки, где начала функционировать ПРК, было несколько национальных, региональных и/или местных государственных учреждений и министерств, наделенных обязанностями и полномочиями по улучшению работы кластера. Когда большинство этих программ было разработано, ожидалось, что после детальной диагностики стратегических задач кластера и выявления недостающих ресурсов многоуровневая координация внутри государственных учреждений позволит легко координировать вмешательства. Тем не менее бюрократические процессы, стратегические взгляды и краткосрочные политические соображения превзошли возможности сотрудничества, создаваемые ПКР.
Следующими трудностями, с которыми столкнулись государственные учреждения и организации, осуществляющие функции по поддержке и разработке программ развития кластеров, были проблемы выбора кластеров. Поскольку ресурсов всегда мало, а экономических агломераций достаточно, разработчики ПРК должны выбрать, какие кластеры поддерживать, с чего начать в тех случаях, когда конечной целью является работа со всеми кластерами, отвечающими заданным критериям.
Процессу выбора кластеров в Чили предшествовало создание Регионального агентства по продуктивному развитию (Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, или ARDP) в 15 регионах и разработка соответствующих региональных программ развития. Это позволило определить основные проблемы и возможности развития в каждом регионе и предложить несколько кластеров с высоким потенциалом роста. Затем Стратегический совет ARDP в каждом регионе, наряду с участием государства и частного сектора, выбрал три кластера для ПРК. Кластеры были отобраны на основе ключевых экономических субъектов на каждой территории, чтобы избежать статуса-кво и порождения локальных конфликтов.
В Аргентине основными секторами экономики были туризм и сельское хозяйство, а именно производство и экспорт свежих фруктов. Выбор был сделан на основе стратегии развития правительства провинции, а также наличия некоторых частных инициатив и их значения для ее экономики.
В Сан-Паулу выбор кластеров был основан на существующих местных продуктивных механизмах (arranjos productivos locais, или APL). Соглашение между Секретариатом делопроизводства в Сан-Паулу (SD) и международной организацией, финансирующей ПРК (частично финансируемых Межамериканским банком развития), предусматривало отбор 15 APL на основе количественных, качественных оценок их развития, управленческого потенциала и политической поддержки (секторы, в которых институты-партнеры особенно были заинтересованы и поддерживали). До реализации ПРК семь кластеров уже продемонстрировали прогресс, поэтому именно их отобрали в соответствующую программу. Остальные восемь APL были в менее развитой стадии.
В целом в качестве критериев отбора были использованы системы показателей конкурентоспособности (отрасли или сектора) и управления, обеспечивающих равновесие между государственными и частными обязательствами. Более того, учитывая сложности, которые обычно возникают при выборе ex ante секторов, было важно создать возможности изучения и анализа претендентов, когда ПРК переформулировали бы свои критерии отбора. Однако это не всегда удавалось, что привело к единовременному формированию списка участников программы, и не было возможности его корректировки и удаления из программ участников, которые не соответствовали их целям или показывали низкий уровень развития.
Во всех зарубежных программах (Аргентина, Бразилия и Чили) в рамках реализуемых программ развития кластера также была сформирована программа повышения конкурентоспособности. Во всех странах этот процесс был направлен на то, чтобы перенести акцент с краткосрочных проблем местного рынка (которые обычно приводили к противоречивым решениям) на долгосрочные стратегические проблемы, связанные с глобальным рынком. Этот сдвиг был призван позволить кластерам акцентировать внимание на общих проблемах и минимизировать конфликты.
Разработка указанных программ повышения конкурентоспособности проходила с привлечением внешней экспертизы, однако участие экспертов было различным.
В Чили экспертизу проводила международная консалтинговая компания, которая отводила главную роль частным фирмам-бенефициарам, стремящимся содействовать межфирменному сотрудничеству и участию в инициативе, и уменьшала роль государственного сектора. Предполагалось, что эта методология вызовет изменения в диалоге между государственным и частным секторами в целях поддержки конкурентоспособности сектора. Таким образом, ППК, разработанная с использованием этой методологии, плохо идентифицировала ограниченные ресурсы территории, хотя и успешно вовлекала субъектов частного сектора, предоставляя им полномочия в качестве законных партнеров по отно- шению к государственному сектору и генерируя серию коллективных действий.
Другая международная консалтинговая фирма, которая работала с кластерами в Рио-Негро, Сан-Паулу и северной части Чили, в первую очередь идентифицировала глобальные тенденции, которые создают проблемы для основного направления деятельности кластера. В результате произошла корректировка стратегии, уменьшающая эти негативные тенденции для большинства компаний. Применение методов управления изменениями позволило обеспечить трансформацию большинства фирм-бенефициаров. Основное различие между этими подходами заключалось в том, что в первом случае первоочередное внимание уделяется достижению рыночных целей, тогда как второй подход отдает приоритет процессу.
В целом оба подхода, применяемые для создания ППК в рамках развития кластеров, направлены на инновации и изменение традиционных отношений между государственным и частным секторами в промышленной политике, когда государство устанавливает правила, а частный сектор реагирует на максимизацию выгод. Тем не менее методологии, применяемые в каждом случае, по-разному делают акцент на роли рыночных сигналов, управлении кластерами и интеграции некоторых или всех участников в выполнение плана действий.
Проведенный анализ зарубежных программ развития кластеров и российских программ поддержки кластеров позволяет сформулировать следующие рекомендации по формированию региональной кластерной политики.
Во-первых , все зарубежные и российские программы столкнулись с институциональными проблемами на первых этапах реализации программ.
В Чили из-за трудностей политического характера формирование институциональной структуры программы было завершено за очень короткий период, что привело к созданию слабой организационной базы. Кроме того, ПРК была перегружена, реализуя как цели регионального развития, так и кластерного при ограниченном финансировании. Между тем в Аргентине институционально-организационная структура ПРК, а также взаимо- действие с существующими провинциальными государственными учреждениями так и не были успешными. Это оставило программу в своего рода институциональной неопределенности, которая подорвала ее будущую эффективность в качестве платформы для координации государственных вмешательств. В 2014 г. финансирование программы прекратилось, и лишь немногие из его ранних инициатив продолжали поддерживаться другими государственными программами или непосредственно участвующими субъектами частного сектора.
В Бразилии были допущены стратегические ошибки, когда субъекты частного сектора, участвующие в создании и функционировании кластера, были привлечены слишком рано – до того, как ПРК определило потенциальное направление действий, отвечающих ожиданиям участников.
Основываясь на этом опыте, следует при внедрении ПРК запланировать период, в течение которого другие государственные структуры, занимающиеся промышленной политикой, готовы не только участвовать в программе такого типа, но и трансформировать инструменты своей промышленной политики исходя из задач ПРК. Мероприятия первого этапа должны не только способствовать информированности государственных структур, но и иметь широкий охват всех участников, а также использовать программный подход, так как программу развития кластеров нельзя рассматривать в отрыве от существующих стратегий промышленного развития. Реализуемая ПРК должна стать единой платформой для координации всех инструментов промышленной политики региона.
Кроме того, в рамках ПРК необходимо сформировать программу повышения конкурентоспособности территории, которая должна рассматриваться как результат развития кластеров региона и представлять собой направления работы, реализуемые на протяжении всей ПРК, генерируя необходимые инновационные процессы на практике.
Во-вторых, фактически ни одна из стран или российских регионов не достигла надлежащей координации между ПРК и другими государственными политиками (например, реализуемой промышленной политикой). Так, в Бразилии наиболее четко было видно, насколько кластерная политика изолирована от остальной промышленной политики страны, особенно от федеральной промышленной политики. Чили не было также должным образом согласована ПРК с аналогичными программами поддержки кластеров, такими как Национальная программа кластеров (PNC).
Эта слабость координации между уже принятыми и реализуемыми мероприятиями (например, в рамках социально-экономической или промышленной политики) ограничивает влияние ПРК. Одной из причин такой ситуации является отсутствие методологии согласования ПРК с федеральными (общенациональными) и региональными программами развития.
Только эффективная координация всех федеральных, отраслевых или региональных практик социально-экономического развития с реализуемыми программами развития кластеров позволит достичь максимального эффекта. Поэтому необходимо найти баланс между внедрением политических инноваций и достижением взаимодополняемости с другими государственными политиками.
В-третьих , одним из условий успеха программ развития кластеров территории является тщательный отбор и отраслей, в которых будут создаваться кластеры, и компаний-бенефициаров, участников кластеров.
При выборе кластеров важно учитывать конкурентоспособность, потенциал развития и территориальные возможности (наличие соответствующих ресурсов развития), а также потенциальные побочные эффекты для остальной экономики. Сочетание этих критериев, первый из которых сосредоточен на достоверных экономических данных, а второй – на основе оценки местного потенциала, представляется идеальным процессом отбора для включения кластеров в ПРК.
Такой сценарий был наиболее предпочтительным, например, при отборе кластеров в Чили, но главным барьером в этой стране являлись проблемы бюрократического и политического характера, что привело к тому, что национальные программы и ПРК развивались параллельно.
Комбинация критериев применялась также и в Сан-Паулу. Географическая концент- рация специализированных фирм в данном секторе была определена первой. Затем кластеры были отобраны на основе переговоров трех участвующих государственных и коммерческих структур, что позволило дополнить экономические критерии координационным потенциалом.
Таким образом, сочетание конкурентоспособности и координации между государственным и частным секторами играет жизненно важную роль в выборе кластеров, имеющих высокую вероятность успешного развития. В свою очередь, зрелость управления кластером, взаимодействие между различными субъектами частного сектора позволяет быстрее согласовывать интересы компаний и наилучшим образом использовать преимущества программы.
В-четвертых , кластеры проходят различные этапы эволюции, некоторые программы направлены на поддержание уже существующих кластеров, трансформации отдельных секторов региональной экономики или создание совершенно новых кластеров в регионе. Поэтому мероприятия по их поддержке (например, в рамках ПРК или целевых федеральных или региональных программ) должны быть в состоянии идентифицировать этот процесс и адаптироваться к различным эволюционным этапам.
Каждый кластер нуждается в своем типе стратегии и, соответственно, в своей программе повышения конкурентоспособности, будь это новый формирующийся кластер или уже существующий. Конкретные стратегические решения могут включать, например, выявление недостающих общедоступных ресурсов или усиление государственной поддержки в тех секторах, которые исторически поддерживались государством.
Проведенный сравнительный анализ показывает, что для новых кластеров методология ПРК должна концентрироваться на улучшении организации и управления их биз-нес-процессами, в то время как более зрелые кластеры, скорее всего, больше выигрывают от предложений, стимулирующих процесс реконфигурации их конкурентных преимуществ.
Кроме того, крайне важно определить, в какой степени другие инструменты региональной промышленной политики доступны для компаний кластера. Например, в развитых странах, где существуют обширные программы государственной поддержки, ПРК, как правило, почти исключительно финансируют координационные мероприятия и стратегическое планирование. Однако в странах, регионах, где предложение государственной поддержки слабее и менее разнообразно, ПРК должны иметь более разнообразные формы финансовой поддержки, которые могут варьироваться также в зависимости от относительной зрелости каждого кластера. Точно так же, чем более зрелым является кластер, тем меньше ему потребуется региональных инфраструктурных ресурсов, таких как технологический центр, лаборатория или обучение руководителей, услуги консалтинговых агентств.
В заключение также необходимо отметить, что решение о том, какие государственные и частные субъекты должны участвовать в управлении кластерами, является очень актуальным и может повлиять на общее влияние программ кластерного развития. Более того, актуальность каждого участника меняется со временем, и поэтому ПРК должны быть достаточно гибкими, чтобы управление могло соответствующим образом измениться.
Заключение
Проведенное исследование позволило определить конкретные механизмы и инструменты управления, а также социально-экономические условия территории, влияющие на успешность реализуемых программ развития кластеров. Рассмотренные зарубежные программы развития кластеров (в Аргентине, Бразилии, Чили), финансируемые частично международной организацией (Межамериканским банком развития), позволили более подробно рассмотреть такие вопросы, как выбор кластеров, институциональные механизмы, которые могли бы работать лучше для содействия координации между государственным и частным секторами, выбор методологии формирования программ повышения конкурентоспособности, а также согласованность ПРК с промышленной и социально-экономической политикой территории.
Во-первых, учитывая сложность ПРК и то, как часто они не согласуются с реализуемой региональными властями политикой, государственные и частные субъекты должны быть подготовлены и обучены до начала реализации ПРК. Поэтому подготовительный этап должен включать анализ и оценку возможностей территории (наличие адекватных ресурсов, наличие субъектов хозяйственной деятельности, способных перестроить свою систему управления и внедрять инновационные методы), а также предусмотреть подготовительные мероприятия по обучению на практике и возможности включения кластерного подхода в современную промышленную политику правительства (администрации региона).
Во-вторых, новаторский характер вмешательства по продвижению кластера в рамках спектра промышленной политики требует настройки процессов координации между частными и государственными структурами, ответственными за успешность создаваемых или поддерживаемых кластеров. Поэтому необходимо найти баланс между внедрением политических инноваций и согласованием с другими мероприятиями, реализуемыми в рамках региональных политик.
В-третьих, выбор кластеров в качестве объектов государственной или частной (привлечение отечественных или зарубежных инвесторов) поддержки является еще одним крайне важным процессом. Проведенный анализ показал, что при отборе необходимо учитывать как индикаторы конкурентоспособности и потенциала развития кластера, так и возможность успешного взаимодействия между частными фирмами и с государственным сектором.
В-четвертых, кластеры проходят различные этапы своей эволюции, и их поддержка должна выстраиваться и адаптироваться к уровню их развития. Фактически, несмотря на общий подход к формированию программ развития кластеров, во время их реализации каждая программа должна была адаптироваться к конкретным условиям (экономическим, политическим и социальным). Поэтому для новых кластеров методология ПРК должна быть сосредоточена на улучшении организации и управления бизнес-процессами, в то время как более зрелым кластерам необходимо ориен- тироваться на процесс реконфигурации их конкурентных преимуществ.
Наконец, все случаи, рассмотренные в статье, показывают, что решение о том, какие государственные и частные субъекты должны участвовать в управлении кластером, является очень актуальным и часто влияет на общие результаты ПРК. Необходимо предусмотреть гибкую систему управления кластером, чтобы в зависимости от сложившейся ситуации было возможно ее изменить. В долгосрочной перспективе стратегия ПРК должна соответствовать более общей стратегии регионального и местного развития.
Список литературы Региональная кластерная политика в России: методы и практические результаты
- Калинина, А. Э. Информационно-аналитическое обеспечение реализации кластерной политики в регионах России / А. Э. Калинина, Е. А. Петрова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. - 2018. - Т. 20, № 4. - С. 25-37. - DOI: 10.15688/jvolsu3.2018.4.3
- Калинина, А. Э. Методические подходы к оценке эффективности реализации кластерной политики в регионах РФ / А. Э. Калинина, Е. А. Петрова, М. С. Лапина, А. С. Рвачева // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. - 2019. - № 2 (58). - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5814/. - Загл. с экрана.
- Кластерная политика: достижение глобальной конкурентоспособности. Вып. 2 / В. Л. Абашкин, С. В. Артемов, А. Н. Гусев [и др.]. - М.: НИУ ВШЭ, 2018. - 346 с.
- Клейнер, Г. Б. Синтез стратегии кластера на основе системно-интеграционной теории / Г. Б. Клейнер, Р. М. Качалов, Н. Б. Нагрудная // Наука - Образование - Инновации. - 2008. - №7. - С. 9-39.
- Марков, Л. С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода в экономике: автореф. дис.... д-ра экон. наук / Леонид Сергеевич Марков. - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014. - 40 с.
- Casaburi, G. Lessons Learned from Case Studies of Cluster Development Programs / G. Casaburi, L. P. Fonseca // The impact evaluation of cluster development programs: methods and practices / A. Maffioli, C. Pietrobelli, R. Stucchi, eds. - Inter-American Development Bank, 2016. - 167 p.
- Casaburi, G. More than the Sum of its Parts: Cluster-Based Policies / G. Casaburi, A. Maffioli, C. Pietrobelli // Rethinking Productive Development: Sound Policies and Institutions for Economic Transformation / G. Crespi, E. Fernбndez-Arias, E. H. Stein, eds. - Washington, DC: Palgrave Macmillan and Inter-American Development Bank, 2014.
- Garone, L. F. Impact Evaluation of Cluster Development Programs: An Application to the Arranjos Produtivos Locais in Brazil / L. F. Garone, A. Maffioli // The impact evaluation of cluster development programs: methods and practices / A. Maffioli, C. Pietrobelli, R. Stucchi, eds. - Inter-American Development Bank, 2016. - 218 p.
- Giuliani, E. Networks, Cluster Development Programs, and Performance: The Electronics Cluster in Cуrdoba, Argentina / E. Giuliani, A. Matta, C. Pietrobelli // The impact evaluation of cluster development programs: methods and practices / A. Maffioli, C. Pietrobelli, R. Stucchi, eds. - Washington, D.C., Inter-American Development Bank, 2016. - 218 p.
- Kalinina, A. Methodological Toolset of Regional Authority Bodies' Cluster Policy / A. Kalinina, V. Tarakanov, E. Petrova / Russia and the European Union. Development and Perspectives. Contributions to Economics. - 2017. - P. 55-63.
- Petrova, E. A. Regional Life Quality Management: Methodological Approaches to its Forecasting using Neural Networks / E. A. Petrova // Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR). - 2018. - Vol. 39. - P. 157-161.