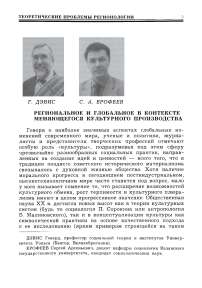Региональное и глобальное в контексте меняющегося культурного производства
Автор: Дэвис Говард, Ерофеев Сергей Арсеньевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Теоретические проблемы регионологии
Статья в выпуске: 4 (61), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы региональных ответов на вызовы глобализации с точки зрения роли культурных институтов и процессов. Изменения в характере культурного производства концептуализируются в содержании либерализации и диверсификации. Обсуждаются актуальные задачи междисциплинарных исследований феномена регионализации на основе особой роли региональных культурных агентов.
Короткий адрес: https://sciup.org/147223015
IDR: 147223015
Текст научной статьи Региональное и глобальное в контексте меняющегося культурного производства
Говоря о наиболее значимых аспектах глобальных изменений современного мира, ученые и политики, журналисты и представители творческих профессий отмечают особую роль «культуры», подразумевая под этим сферу чрезвычайно разнообразных социальных практик, направленных на создание идей и ценностей — всего того, что в традиции позднего советского исторического материализма связывалось с духовной жизнью общества. Хотя наличие морального прогресса в сегодняшнем постиндустриальном, высокотехнологичном мире часто ставится под вопрос, мало у кого вызывает сомнение то, что расширение возможностей культурного обмена, рост терпимости и культурного плюрализма имеют в целом прогрессивное значение. Общественная наука XX в. достигла новых высот как в теории культурных систем (будь то социология П. Сорокина или антропология Б. Малиновского), так и в концептуализации культуры как символической практики на основе качественного подхода к ее исследованию (ярким примером строящейся на таком
ДЭВИС Говард, профессор социальной теории и институтов Университета Уэльса (Бангор, Великобритания).
ЕРОФЕЕВ Сергей Арсеньевич, доцент кафедры социологии Казанского государственного университета, кандидат социологических наук.
подходе символической концепции культуры является концепция К. Гирца1). Вместе с тем не только отечественная, но и международная социальная наука испытывает некоторые трудности в осмыслении места и роли культурных процессов и институтов в рамках глобализации — в первую очередь в том, что касается конкретики взаимодействия глобализующих тенденций и стратегий культурных институтов на уровне регионов.
Собственно проблематика регионов и регионализации также является одной из характерных особенностей развития повестки дня современных социальных и гуманитарных дисциплин. И это не случайно, потому что в условиях того, что Э. Гидденс называет поздней современностью2, сложные социально-политические и социально-экономические связи более не укладываются в логику деятельности классических модерных национально-государственных делений и взаимодействий.
Говоря о диалектике основных тенденций в современном мировом развитии, разные ученые отмечают взаимодействие глобального и локального или процессов глобализации и индивидуализации. В связи с первым большую популярность в академической среде получила концепция «глокализации» Р Робертсона3, который с помощью такого неологизма стремится подчеркнуть постоянное наличие и практическую активность локальных, в том числе региональных, стратегий ответа на вызовы глобализации. Не менее убедительной представляется концепция Н. Аберкромби, который стремится представить «индивидуализацию» в качестве, парной категории по отношению к категории «глобализация», поскольку именно посредством индивидуализации решаются проблемы осуществимости социокультурного разнообразия и вариативности групповых и индивидуальных траекторий развития в противовес глобальной логике унификации4
Стремясь понять основные механизмы мировых социокультурных изменений применительно к продолжающемуся трансформироваться российскому обществу, в частности соотношение региональной традиции и инновации, мы отдаем себе отчет в особой значимости, во-первых, проблематики регионального по отношению к общенациональному и глобальному, во-вторых, проблематики культурного по отношению к политическому и экономическому. Чтобы достичь более эффективной российской «контекстуализации» этой проблематики, попытаемся представить несколько принципиальных моментов в развитии анализа культурных систем, структур, институтов и процессов. Отметим, что данные категории в социологическом плане ассоциируются с производством идей и ценностей, или того, что в западной социологии последних десятилетий концептуализируется как анализ производства смыслов, иными словами, символических форм5
В качестве принципиального вводного замечания следует указать на наличие в рамках социологического дискурса трех различных значений понятия «культура», что впервые обозначено Р. Уильямсом6 Во-первых, культуру можно понимать как «высокую культуру», или некую нормативную шкалу совершенства, относительно которой общество или исследователь могли бы выстраивать иерархии культурных продуктов и явлений. Во-вторых, культура, благодаря стараниям социальных антропологов, все чаще воспринимается не только специалистами, но и широкими слоями общества как «образ жизни» определенной социальной группы в конкретной пространственно-временной среде. В-третьих, культуру, согласно Уильямсу, можно представить в качестве совокупности определенных социальных институтов, таких как наука, искусство, религия, образование и коммуникация, т. е. институтов, направленных на создание и распространение, говоря более социологическим языком, производство и распределение продуктов, связанных с идеями, знаниями и ценностями. В контексте глобальных изменений в рамках информационного постиндустриального общества, когда как никогда большую роль начинает играть производство и распределение нематериальных символических продуктов, социологов в первую очередь должна интересовать продуктивность анализа именно эмпирической институциональной составляющей культуры как абстрактного целого. Несмотря на ограниченность «старого институционального подхода» в социологии культуры, когда последняя представляется не как символический, смысловой аспект всей социальной жизни, включая политику и экономику, а как всего лишь отдельная «сфера культуры» с вытекающими из этого задачами социологического изучения отдельно СМИ, искусства и т. д., идея культуры как институциональной системы сохраняет первоочередное значение. Именно институциональные, ролевые, организационные процессы занимают сегодня умы исследователей, пытающихся понять механизмы перехода от жестких взаимодействий и иерархий в экономике и политике к непрямым, гибким и вариативным. В этом смысле нам хотелось бы выступить в качестве защитников «неоинсти-туционального подхода» в социологии культуры, когда при всем признании культурного как одного из принципиальных измерений социального во всей его полноте приоритет отдается изучению культуры как сферы производства смысла, причем подчас понимаемого в плоскости экономической социологии и социологии организаций.
Второй важной оговоркой является необходимость различения между двумя исторически сложившимися социологическими традициями теоретизации культуры: теорией воспроизводства культуры П. Бурдье и концепцией производства культуры, получившей распространение среди американских и в последнее время среди европейских социологов. Что касается теории культурного воспроизводства, то она в первую очередь связана с попыткой объяснить природу возобновления социального неравенства в развитых обществах, не сводящуюся к действию экономического капитала, а основанную во многом на роли капитала культурного, на различиях не в доходах, а в знании, вкусах и, соответственно, символических ресурсах, используемых для достижения успеха в жизни развитых обществ7
В отношении значимости второй социологической традиции следует отметить, что в исследовательской деятельности Центра социологии культуры Казанского государственного университета в последнее время обращалось внимание на особую роль, которую с середины 70-х гг. XX в. в американской, а позднее не только в американской социологии, играла «перспектива производства культуры», основоположником которой можно назвать Р. Питерсона. В одной из наших недавних публикаций эта концепция впервые представляется российскому читателю как результат и предпосылка изучения культуры современного общества в качестве комплексного социального процесса создания, распространения и потребления особых символических продуктов, которые должны восприниматься не как результаты «таинства творчества», а как элемент конкретного социального процесса8 Мы полагаем, что при всей значимости теории Бурдье, исследование взаимодействия глобальных и региональных тенденций и соответствующих стратегий политиков в области культуры, разнообразных социокультурных агентов и производителей символической продукции особенно нуждается в осмыслении современного международного опыта социологов с позиций концепции производства культуры.
Здесь мы подходим к важной предварительной характеристике того, что многие современные социологи ассоциируют с понятием «культурные индустрии». В первую очередь следует особо подчеркнуть, что негативный смысл, который был заложен в свое время Т. Адорно и М. Хорк-хаймером в понятие «культурная индустрия», не находит в современной социологии операционального применения относительно анализа функционирования разнообразных институтов, связанных с производством и распределением ценностей или символических форм. Вместо обобщающих, абстрактных рассуждений о противоречиях капитализма середины XX в. в духе классической «критической теории» Франкфуртской школы, вместо сетований по поводу дегуманизирующей функции культурной индустрии как неотвратимого извращения сути европейского просвещения9, современные авторы все чаще говорят о культурных индустриях в нейтральном ключе, имея в виду наличие определенного множества устоявшихся экономических институтов, различных отраслей производственной деятельности, связанной с созданием, распространением и потреблением символической продукции. В данном случае речь идет не о «системе духовной жизни», на изучение природы которой претендовал советский исторический материализм, а о практике отраслей, видов коммуникации, компаний и фирм различного рода, что говорит в первую очередь об экономическом характере культурного производства.
Д. Хесмондал отмечает единодушие ученых относительно того, что культурные индустрии с начала 80-х гг. XX в. подверглись поразительной • трансформации10. В первую очередь обращает на себя внимание то, что культурные индустрии «переместились ближе к центру экономической жизни» развитых обществ. Социальные институты, малые и большие компании и фирмы, связанные с культурой, более не занимают столь очевидного вторичного положения по отношению к прочим, не-культурным индустриям. При этом принципы организации и характер собственности в области культурного производства радикально изменились. Речь идет не столько о специализации крупных компаний на каком-либо одном типе производства информации и коммуникационных услуг; они скорее располагают набором ресурсов и обнаруживают способность оперировать в целом ряде направлений культурного производства. В то же время за последние два десятилетия значительно выросло количество малых фирм и компаний в области популярной культуры и искусства «не для всех».
Культурная продукция стала все чаще пересекать национально-государственные границы, становясь частью более общего процесса глобализации, что одновременно подразумевает также продвижение гибридных продуктов при отстаивании интересов регионального, локального, «аутентичного». Такая возможность становится вполне реальной благодаря небывалому развитию коммуникационных технологий. Очень важно то, что культурные индустрии в лице отдельных институтов и фирм все более заинтересованы в нахождении и использовании новых способов взаимодействия с аудиториями, в исследовании их настроений, вкусов потребителей символических форм, поиске особых рыночных ниш и в применении более эффективных маркетинговых стратегий.
Особо следует выделить изменения в характере регулирования деятельности культурных производителей. Государственное, общественное воздействие на них уже не имеет столь прямолинейного характера и не всегда оказывается столь авторитетным, как регулятивные механизмы международного порядка, связанные с глобализованным рынком. При этом невозможно переоценить роль рекламного сектора как отдельной культурной индустрии и катализатора многих процессов в трансформации культурного производства в целом. О важности рекламы говорит хотя бы то, насколько радикально возросли объемы финансирования этой сферы за последние годы.
Наконец, аудитории, культурные потребители сегодня проявляют как никогда широкое многообразие вкусов и интересов, становясь более сложносоставными, комплексными и в географическом, и в социально-статусном отношениях. Сами культурные продукты, многими современными социологами рассматриваемые в качестве «текстов», подвергаются разнообразной трансформации. Традиционный культурный авторитет при этом все чаще подвергается сомнению, а циркуляция идей начинает напоминать циркуляцию товаров.
Нами уже было отмечено, что региональная проблематика сегодня по праву занимает одно из центральных мест в международном обществоведческом дискурсе. Также стоит отметить, что в рамках научного общения российских и зарубежных коллег уже давно признанным фактом стало то, что отечественные гуманитарные и социальные науки также уделяют значительное внимание региональной проблематике, причем зачастую здесь не прослеживается прямая связь с развитием этой проблематики на Западе, поскольку в новейшей российской истории, развитии российского федерализма региональные вопросы по-своему заявили о себе. Это касается большинства сфер жизни регионов, на которые направлен интерес экономистов, политологов, историков, культурологов, социологов, юристов и др.
Однако более активный диалог с мировой практикой региональных исследований возможен именно потому, что в их рамках настолько значимую роль играет именно «культурная составляющая». Постсоветская трансформация ставит перед отечественными учеными вопросы более детального изучения социально-экономических структур, институтов и процессов, а также коммуникативных, символических и текстовых систем с учетом усложняющегося взаимодействия между общенациональным, региональным и локальным. Требования рыночной.экономики касательно пространственно-временной реорганизации производства и изменений в отношениях между контрагентами в условиях развивающегося общества потребления, усложнение политической культуры российского общества и многоаспектный характер федеративных связей внутри страны, плюрализация культурных ценностей и открытость миру — все это выдвигает требование комплексного подхода к пониманию региональных процессов и их связи с вызовами глобализации. В то же время нами пока уделяется мало внимания культурным особенностям глобализации именно с точки зрения социологии регионов. Несмотря на то, что в широком плане политическое измерение трансформации общества, вопросы социального и экономического порядка, этничности, национализма или регионализма иногда являются предметом определенных
«культурологических» параллелей и умозаключений, общий подход к культурному измерению российской социальной трансформации часто проявляется в довольно спекулятивных рассуждениях о природе российской цивилизации, культурном кризисе или соотношении духовных ценностей и экономики. Регионально направленная конкретизация усилий по исследованию динамики культурных институтов, культурных индустрий должна принести осязаемые результаты в плане понимания механизмов творческих процессов, организации культурного производства, экономической и политико-культурной регуляции.
Следует также отметить два факта, постоянно сопровождающих социокультурную трансформацию постсоветской России, вне зависимости от стратегий отхода от господствующей идеологии или ее поиска и утверждения. Речь идет о том, что отражает мировые тенденции развития культурных систем — о либерализации и диверсификации, т. е. о продолжающемся открытии новых возможностей культурного обмена, терпимости и плюрализма, росте многообразия культурных форм и стилей. Именно в силу непреложности этого факта проблематика культуры в рамках дискурса отечественной социологии становится все более актуальной. В России постепенно складывается ряд успешных культурноориентированных направлений в исследованиях молодежи, потребления, гендерных или этнических отношений. Это связано с тем, что изучение постсоветского общества представляется более эффективным с позиций социального реализма, должного внимания материальной стороне создания и циркуляции идей и ценностей, типичным современным институциональным основаниям этих процессов с точки зрения отношений производства и функционирования объектов и субъектов потребления. Не последнюю роль при этом играет все более активное применение качественных методов исследования как наиболее адекватных применительно к изучению смысловых систем и процессов.
Тематическим мостом, объединяющим локальные достижения отечественной социологии за последние 10—15 лет с потенциально весьма продуктивной междисциплинарной деятельностью обществоведов, исследующих проблемы российских регионов, может стать изучение вопроса о культуре как инструменте экономического развития региона. Если в связи с этим сослаться на новейшую практику европейских, в частности британских ученых, то следует особо отметить их интерес к такому феномену последних лет, как стремление региональных властей к созданию и поддержанию так называемых региональных «творческих кластеров»11 Еще один круг вопросов, объединяющих проблематику регионального и культурного в российском контексте — это все, что связано с анализом деятельности агентов поля культурного производства в его институциональном измерении (речь при этом должна идти об организациях культуры, органах управления культурной политикой, некоммерческих организациях, культурных индустриях). Каковы функции таких агентов, объединяет ли их что-либо в рамках глобальных, национальных и региональных императивов культурного развития или они разрознены? Какова роль государства в трансформации (в том числе в «капитализации») современной российской культурной сферы, осуществляется ли при этом модернизация старых культурных институтов «сверху»? Как взаимодействуют в таких условиях государство и гражданское общество? Как развивается сфера собственно коммерциализированной культуры в региональном контексте? Наконец, насколько региональный политический дискурс культуры инертен или динамичен в отношении культуры, и имеет ли место, и если да, то насколько, дискуссия о культуре (культурных индустриях), имеющих принципиальную инструментальную функцию относительно сохранения наследия или внедрения инноваций? На уровне политико-культурном или медийном многие из этих вопросов постепенно обретают более практическое звучание. Так, факт коммерциализации «традиционного», представленного, например, предприятиями народных промыслов, и протекающей при активном участии государства, выступающим их постоянным заказчиком, становится частью общественного дискурса. Однако с точки зрения социологии эта область еще ждет своего освоения, хотя основы такой региональной исследовательской деятельности уже имеются, если обратить внимание на работу некоторых аналитических групп, интересующихся символическим производством12
Хочется надеяться, что региональные вопросы, поднимаемые в некоторых публикациях последнего времени13, все чаще будут находить социологическое отражение, причем в актуальном ключе соотнесения культурного и регионального с точки зрения удивительной динамики развития культурных индустрий сегодня.
Список литературы Региональное и глобальное в контексте меняющегося культурного производства
- Geertz С. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. London, Fontana, 1993.
- Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge Polity Press, 1991.
- Robertson R. Glocalization: Timespace and Homogeneity-heterogeneity, in M. Featherstone et al. (eds.) Global Modernities, London Sage, (1995). P. 25-44.
- Аберкромби Н. Предисловие ко 2-му российскому изданию социологического словаря / Пер. с англ.; под ред. С. А. Ерофеева. М., 2004. С. 4.
- Thompson J. В. Ideology and Modern Culture. Cambridge Polity Press, 1990.