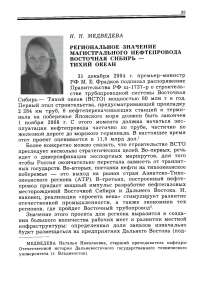Региональное значение магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан
Автор: Медведева Н.Н.
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Экономика региона
Статья в выпуске: 2 (59), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается важность проекта магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» в контексте современных региональных политических процессов. Особое внимание уделяется обсуждению его роли в обеспечении энергетической безопасности Китая и Японии, а также места в формировании энергетической стратегии Российской Федерации.
Короткий адрес: https://sciup.org/147223002
IDR: 147223002
Текст научной статьи Региональное значение магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан
31 декабря 2004 г. премьер-министр РФ М. Е. Фрадков подписал распоряжение Правительства РФ щ-1737-р о строительстве трубопроводной системы Восточная
Сибирь— Тихий океан (ВСТО) мощностью 80 млн т в год. Первый этап строительства, предусматривающий прокладку 2 284 км труб, 6 нефтеперекачивающих станций и терминала на побережье Японского моря должен быть закончен 1 ноября 2008 г. С этого момента должна начаться эксплуатация нефтепровода частично по трубе, частично по железной дороге до морского терминала. В настоящее время этот проект оценивается в 11,5 млрд дол.1
Более конкретно можно сказать, что строительство ВСТО преследует несколько стратегических целей. Во-первых, речь идет о диверсификации экспортных маршрутов, для того чтобы Россия окончательно перестала зависеть от транзитных государств. Во-вторых, поставки нефти на тихоокеанское побережье — это выход на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В-третьих, построенный нефтепровод придаст мощный импульс разработке нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. И, наконец, реализация «проекта века» стимулирует развитие отечественной промышленности, а также экономики тех регионов, где пройдет Восточный трубопровод3.
Значение этого проекта для региона выразится в создании большого количества рабочих мест и развитии местной инфраструктуры: определенная доля заказов изначально будет размещаться на предприятиях Дальнего Востока (под-
МЕДВЕДЕВА Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры Отечественной истории Дальневосточного государственного технического университета (г. Владивосток).
рядные работы, изготовление некоторых металлоконструкций, цемента); активным участником строительства станет Дальневосточная железная дорога, а когда проект заработает, то существенный объем работы может появиться у российских судоходных компаний. Проект предусматривает строительство нефтеналивного порта и нефтеперерабатывающих мощностей.
Несомненный интерес представляет геополитическое значение этой «стройки века». Прежде всего, необходимо оценить вклад ВСТО в общемировую потребность в нефти. В конце 2005 г. она составляла 3 837 млн т в год4, т. е. ВСТО, если бы он был запущен в эксплуатацию сегодня, покрывал бы около 2 % мировых потребностей в нефти. На наш взгляд, эта величина значительна. В первую очередь, это связано с тем, что в современных условиях крайней уязвимости энергетики (прежде всего нефтяного сектора) решающее значение на ценообразование, объемы добычи и поставок и, в итоге, — на объем потребления оказывают не экономические, а политические риски. Современное состояние неустойчивости рынка наглядно демонстрирует даже поверхностный анализ динамики цен на нефть в зависимости от переговорного процесса с Ираном по поводу его ядерной программы, успехи (или неудачи) повстанцев в Нигерии, кризис вокруг «ЮКОСА», уровень тональности высказываний Президента Венесуэлы Уго Чавеса и т. д.
По мнению Л. М. Григорьева, последний перелом в значении энергоресурсов был вызван не только изменением политической ситуации после теракта 11 сентября, но и тем решающим обстоятельством, что к началу XXI в. в мире не оказалось серьезного запаса мощностей. Это выявилось, едва прирост потребления нефти подскочил с 1 млн баррелей в день до 2 млн5. Характерно и то, что ОПЕК в целях стабилизации цен изменяет объем добычи своей нефти в пределах 1,3 млн баррелей в день. Этого обычно хватает, т. е. с достаточной долей уверенности можно считать, что «критическим» объемом нефти, который влияет на мировую ситуацию с энергоносителями, является объем в 1—1,5 млн бар. в день. Так как планируемая загрузка ВСТО составит примерно 1,6 млн бар. в день, можно говорить, что его значение для глобальной системы распределения энергоресурсов будет очень велико6
Региональное значение ВСТО трудно переоценить. С одной стороны, по мнению заместителя министра экономического развития и торговли А. В. Шаронова, «в геополитическом и внешнеэкономическом смысле система ВСТО расширит присутствие России на динамично развивающихся мировых рынках, позволит войти нашей стране в зону АТР со статусом „крупнейшего энергетического поставщика”»7 С другой, — для России магистральный нефтепровод в восточном направлении позволит диверсифицировать поставки сырья за рубеж. Западное направление (в Европу) в последнее время вызывает растущее беспокойство: несмотря на постоянное увеличение объема поставок, главная проблема России — утеря контроля над ним, создание другими странами альтернативных путей доставки сырья в Европу из нефтедобывающих регионов. Наибольшее беспокойство вызывает возможная переориентация поставок на нефтепроводы Одесса — Броды — Гданьск и уже введенный в эксплуатацию нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан8, а также большая вероятность закрытия Турцией Босфора и Дарданелл для прохода танкеров из-за экологических проблем9.
Таким образом, приобретает все большее значение не стратегия контроля над ресурсами, а стратегия контроля над маршрутами их доставки. С учетом усиливающейся напряженности на Ближнем Востоке его значение как основного мирового поставщика энергоресурсов в долгосрочной перспективе снижается. В этой ситуации восточное направление поставок углеводородного сырья Россией приобретает стратегическое значение. Более того, азиатский рынок имеет самые высокие темпы развития и уже сейчас испытывает существенную нехватку нефти. По прогнозу Института геологии нефти и газа СО РАН, спрос на нефть в странах АТР к 2010 г. достигнет 1 600—1 700 млн т в год (в 2005 г. — 1 117 млн т в год), к 2020 г. — до 2 150—2 250 млн т в год. Удовлетворить растущие внутренние потребности за счет собственной добычи нельзя0
Китай, имеющий сегодня самую быстроразвивающую-ся экономику в мире, располагает только 1,3 % мировых запасов нефти (при этом на современный Китай приходится 8,5 % мирового потребления нефти). Как отмечает 3. Бжезинский: «В случае конфликта китайские торговые поставки по морю будут полностью прерваны. В страну перестанет поступать нефть, и ее экономика будет просто парализована»11 В этом отношении северный маршрут для нефти оказывается не только самым коротким, но и в условиях значительного потепления отношений между РФ и КНР — самым безопасным. В определенном смысле Китай 1м приобретает некоторый контроль над «северной нефтью», так как около половины своей протяженности ВСТО пройдет вдоль границы с КНР
На планируемые 80 млн т в год сибирской нефти имеется еще один мощный претендент. Япония большую часть своей нефти получает из зоны Персидского залива (87 %)12 Маршрут неблизкий и небезопасный из-за перманентных вооруженных конфликтов в регионе, развитого пиратства в Малакском проливе и непростых взаимоотношений с континентальным Китаем. Примерно в такой же ситуации находится и Республика Корея, с той лишь разницей, что ее компаниям удалось закрепиться за достаточно крупным нефтяным месторождением в Мьянме.
В 2001 г., когда впервые заговорили о проекте восточного магистрального нефтепровода, между Китаем и Японией разгорелась нешуточная борьба. «ЮКОС» предлагал постройку частного нефтепровода на Дацин (Китай) вокруг южного берега Байкала. В свою очередь Япония предложила крупные инвестиции в трубопровод, протянутый до тихоокеанского побережья. Лоббированием последнего проекта занимался сам экс-премьер Д. Коидзуми.
В результате был выбран более длинный, затратный по средствам и времени постройки проект, предложенный в апреле 2002 г. компанией «Транснефть». Япония была готова инвестировать в строительство и инфраструктуру порядка 12 млрд дол. Однако дело не только в деньгах. Россия сейчас сама заинтересована во внутренних инвестициях и имеет возможность их предоставить. Также она уже не нуждается в технологической поддержке подобных проектов. Проект на Дацин замыкал бы трубу исключительно на Китай, который, как единственный покупатель, мог бы диктовать свою цену на нефть. Проект, принятый в производство, предполагает принципиально большую диверсификацию: сибирская нефть напрямую выходит на международный рынок.
Не исключена постройка ответвления от магистрального трубопровода в сторону Китая мощностью 30 млн^в год, которая вполне укладывается в предположение о диверсификации продукции. Во всяком случае, как заявил 7 ноября 2006 г. вице-премьер РФ А. Жуков, «разработка проекта строительства ответвления нефтепровода из России в Китай идет без каких-либо проблем»13
США традиционно вовлечены в любые энергетические (и не только) проекты. Новый российский трубопровод влияет на их геополитические интересы. Во-первых, приняв решение о развитии восточного направления, Россия отказалась от строительства северного трубопровода Западная Сибирь — Мурманск, нефть которого должна была коротким маршрутом направляться на восточное побережье США танкерами усиленного ледового класса. Во-вторых, для Соединенных Штатов в энергетической политике наиболее важен именно контроль над маршрутами нефти, и новый трубопровод серьезно снижает уровень этого контроля. Пока Восточная Азия ориентирована на ближневосточную нефть, США, осуществляющие контроль над этим регионом, также в значительной степени контролируют и азиатские страны, причем именно те, которые сегодня выступают в качестве потенциальных соперников Соединенных Штатов — Япония и Китай14 С введением в строй трубопровода ВСТО американские позиции существенно ослабляются.
Российский бюджет уже в 2005 г. предусматривал стратегическое увеличение расходов на геологоразведочные работы до 3 млрд руб., в первую очередь в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Вряд ли ситуация изменится и в последующие годы. Есть все основания считать нефте- и газоносные месторождения Сахалина лишь «хвостом» огромного месторождения на шельфе Охотского моря. Если будут доказаны значительные запасы углеводородного сырья и приняты решения о развитии системы его транспортировки, это может в корне изменить военно-стратегические приоритеты США, заставив их сместить акценты на Тихоокеанское побережье Азии.
В данном контексте Соединенным Штатам наиболее выгодна ситуация существования в регионе неразрешенных территориальных споров (Тайвань — по поводу политического статуса с континентальным Китаем; острова Спратли — между Китаем, Вьетнамом, Тайванем, Филиппинами, Индонезией, Брунеем, Малайзией; острова Сенкаку— между КНР, Тайванем и Японией; Парасельские острова — между Китаем,
Вьетнамом и Тайванем; острова Токто — между Республикой Корея и Японией; Курилы — между РФ и Японией)15 Особый смысл приобретает корейская проблема: полуостров становится «ключом» к транспортным потокам нефти и газа из России вдоль Восточно-Корейского залива и далее че-^ез Корейский пролив, поэтому Соединенные Штаты будут йнтересованы в поиске аргументов для усиления своего военного присутствия именно здесь. Аргументами могут служить как развитие ядерной и ракетной программ КНДР, так и неявные ныне, латентные проблемы, возможность использования которых будет находиться в зависимости от желания США реализовать их потенциал.
Однако это — вопросы возможной перспективы. В настоящее время контроль над строительством и функционированием трубопровода ВСТО Соединенные Штаты могут осуществлять несколькими способами: политическим лоббированием; с помощью перераспределения акционерного капитала; с использованием «экологического оружия», т. е. инициирования экологических экспертиз и выступлений местного аборигенного населения.
Следует сказать и о взаимоотношениях сырьевых «доноров» и «реципиентов». Сейчас очень актуальны споры по этому поводу, особенно в странах Западной Европы, все более переориентирующихся на российские энергоносители. Многие западные исследователи опасаются, что ЕС может попасть в жесткую зависимость от политической воли Москвы. В ответ выдвигается тезис о взаимозависимости поставщика и потребителя ресурсов: первый заинтересован в постоянном стабильном притоке финансовых средств, второй— в стабильном притоке энергии. Однако равнозначности отношений все же нет. При сохраняющейся тенденции к увеличению стоимости энергоресурсов через некоторое время значимость денег для российской экономики может снизиться, более того, может возникнуть желание инвестировать их в политические проекты за рубежом. Потребность в энергии вряд ли будет снижаться. Поэтому вполне обоснованно можно считать, что позиции России (в том числе политические) в Европе с точки зрения энергетической безопасности будут иметь благоприятные перспективы.
С другой стороны, получатель ресурсов всегда находится под впечатлением несправедливости распределения этих ресурсов. Если это впечатление подкрепляется существованием территориальных претензий на районы, содержащие месторождения, то именно у «реципиента» может возникнуть стремление к новому перераспределению территорий. В связи с этим настораживает диспропорция между огромной заинтересованностью Китая в северной российской нефти с одной сторттны, и достаточно слабой инвестиционной активностью Китая в российских энергетических проектах, — с другой. Эта диспропорция особенно заметна на фоне китайских инвестиций в размере 100 млрд дол. в нефтяную промышленность Латинской Америки. Иными словами, на Дальнем Востоке российские позиции более уязвимы по сравнению с западным направлением, и их следует укреплять другими компонентами безопасности — развитием социально-экономической и военной инфраструктур.
В целом складывающуюся ситуацию следует считать благоприятной для России. Однако реальный выигрыш возможен в случае дальнейшего развития трубопроводной системы. Сегодня главенствующая роль танкерной транспортировки энергоресурсов может трактоваться как отражение преобладания морских держав. В этом ключе характерно нынешнее положение Китая, жизнь которого напрямую зависит от того, кто контролирует море. Вопрос транспортировки энергоресурсов превращается в вопрос суверенитета. В то же время сегодня мы являемся свидетелями ослабления талассократии («морская мощь»). Этот кризис проявился в неспособности США и Великобритании стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также, например, в экономическом и политическом подъеме континентальных держав (прежде всего, Китая и России). Эта ситуация должна привести к смене доминирования в соотношении «танкер — трубопровод» в сторону последнего. Надо понимать, что это отвечает интересам теллурократии («сухопутных держав»), к которым относится и Россия.
Одновременно следует осознавать, что трубопроводная транспортировка является инертным, тяжелым процессом еще на стадии проекта и строительства, требует огромных капиталовложений, соразмерного времени окупаемости и предъявляет особые требования к политической стабильности регионов, по которым он проляжет. Главное — трубопровод уязвим и на стадии проекта, и на стадии строительства, и на стадии эксплуатации. Трубопроводы конкурируют и между собой и с морскими перевозками. Политическую ситуацию, разворачивающуюся в мире последние 10 лет, можно даже отчасти охарактеризовать как «трубопроводную войну». Активными участниками этих «войн» являются госу-арства и затем транснациональные корпорации, а наиболее циничные методы — использование политических и экологических аргументов. Тем не менее, у России, по-видимому, нет другого пути, кроме как делать ставку на создание единой нефт,е- и газотранспортной системы, связывающей месторождения Западной Сибири с месторождениями Восточной Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока России с одной стороны, и потребителей в Европе и в странах АТР — с другой. В этом смысле нефтепровод ВСТО приобретает значение базового транспортного основания, на котором будет строиться геополитическая стратегия России в ближайшие десятилетия.
Список литературы Региональное значение магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан
- Дербилова Е. Так можно любой проект похоронить. Интервью с Президентом «Транснефти» С. Вайнштоком//Ведомости. 2006. 6 июня. С. 3.
- ВСТО: год спустя//Трубопроводный транспорт нефти. 2006. № 1. Электрон, ресурс [режим доступа: http://www.transneft.ru/magazin/tema2006_l_l.shtm].
- «Статистический обзор мировой энергетики -июнь 2006»//Официальный Web-сайт British Petroleum. Электрон, ресурс [режим доступа: http://www.bp.com/statisticalreview]. С. 45.
- Григорьев Л. М. Дешевой нефти не будет//Стратегия России. 2006. № 6. Электрон, ресурс [режим доступа: http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_ arch_to.php?subaction=showfull&id=1149327678&archive=1151923382&start_ from=&ucat=14&].
- Галаджий И. Планы короля Абдаллы//Нефть России. 2006. № 9. С. 98-102.