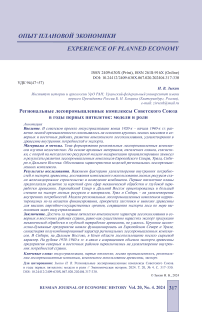Региональные лесопромышленные комплексы Советского Союза в годы первых пятилеток: модели и роли
Автор: Зыкин И.В.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Опыт плановой экономики
Статья в выпуске: 4 (67) т.20, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В советском проекте индустриализации конца 1920-х - начала 1940-х гг. развитие лесной промышленности основывалось на освоении крупных лесных массивов в северных и восточных районах, развитии комплексного лесопользования, удовлетворении в древесине внутренних потребностей и экспорта.
Индустриализация, первые пятилетки, лесная промышленность, региональные лесопромышленные комплексы, комплексное использование древесины, экспорт
Короткий адрес: https://sciup.org/147247113
IDR: 147247113 | УДК: 94(47+57) | DOI: 10.24412/2409-630X.067.020.202404.317-330
Текст научной статьи Региональные лесопромышленные комплексы Советского Союза в годы первых пятилеток: модели и роли
В проекте индустриализации Советского Союза во второй половине 1920-х – начале 1940-х гг. повышенное внимание властей к развитию лесной промышленности обусловливалось наличием крупных запасов леса, необходимостью экспорта древесины для получения валютных средств, возраставшими внутренними потребностями. Одной из ключевых задач, решение которой растянулось на многие десятилетия, являлось достижение комплексного лесопользования (из-за слабой изученности и недоступности для эксплуатации большей части лесов, актуальности использования древесных отходов). Это требовало также создания постоянных кадров лесных рабочих, инфраструктуры, производства техники и разработки технологий.
Необходимость учета размещения лесов, их породного и возрастного состава, транспортных путей, потребителей, технологического и кадрового потенциала при планировании развития лесной промышленности и реализации проектов обусловило сосредоточение основных мощностей в осваивавшихся лесных массивах и в ведущих индустриальных центрах. Осознание специалистами отрасли, плановиками, хозяйственниками актуальности освоения северных и восточных районов страны, богатых древесиной, способствовало формированию региональных лесопромышленных комплексов. Поскольку показатели пятилетних планов были завышены и трудновыполнимы, важно оценить замысел и результаты развития данных комплексов не только по количественным, но и по качественным основаниям. Итогом исследования станет моделирование региональных лесопромышленных комплексов.
Материалы и методы
На фоне многих работ, в которых рассматриваются основные события истории лесной промышленности отдельных регионов, административно-территориальных единиц, следует выделить те, где анализируются проблемы комплексного лесопользования, экспорта и удовлетворения внутренних потребностей страны в древесине [4; 9; 12; 23; 25; 28].
Для работ, посвященных обоснованию форм пространственного размещения и функционала лесной промышленности (лесопромышленный узел, лесопромышленный комплекс как вариация территориально-производственного комплекса, кластер1 [2, с. 23, 25, 32–35, 41, 57; 3; 9, с. 169, 171, 175; 16, с. 20–30, 34; 17]), характерны критика дореволюционного опыта развития отрасли, абсолютизация «сдвига на восток» и комплексного лесопользования. Концептуализация мысли касательно пространственного размещения и производственно-территориальных форм лесной промышленности проявила себя наиболее сильно в советский период, имея тесную связь с народнохозяйственным планированием и индустриализацией. Основной формой размещения были признаны лесопромышленные узлы. Их создание на базе лесных массивов, речного и железнодорожного транспорта позволяло добиться высокой степени комплексного использования сырья и кооперирования с другими отраслями для удовлетворения внутренних потребностей и экспорта.
В этих условиях государственные интересы стали доминировать над региональными. Перспективным представляется вывод современного историка О. И. Кулагина о зависимости между лесной промышленностью в качестве инструмента освоения государством новых и развития старых территорий и финансированием в первую очередь – в условиях доминирования центра над периферией – сферы заготовки древеси-ны2. С другой стороны, на начальном этапе государственного строительства, в период планирования и реализации первых пятилеток, большой потенциал имели создававшиеся в северных и восточных районах транспортно-промышленные комбинаты, ориентированные на колонизацию окраинных территорий и базировавшиеся на добыче природных ресурсов и их транспорте. Независимо от организационной формы их деятельность охватывала несколько административно-территориальных единиц. Руководство и специалисты комбинатов обосновывали перспективные направления развития территорий, осуществляли реализацию экономических проектов. Для развития лесной промышленности значимы Мурманская железная дорога, «Комсеве-ропуть» (затем Главное управление Северного морского пути при СНК СССР), Беломорско-Балтийский комбинат [19; 20; 22; 24]. Помимо этого, в начале 1920-х гг., до образования укрупненных областей и краев, были созданы мощные лесные тресты (например, «Северолес», «Камуралбум-лес»), опыт деятельности которых также интересен с точки зрения развития отрасли и северных и восточных территорий.
Исследование развивает положения автора статьи и О. И. Кулагина о региональных лесопромышленных комплексах и ресурсной модели модернизации3 [7; 8]. Обращение к периоду первых пятилеток позволит понять замысел и результаты политики партийно-государственных, плановых и хозяйственных органов по развитию лесной промышленности на территориях с крупными запасами лесных ресурсов. В качестве оснований для выделения и важнейших характеристик региональных лесопромышленных комплексов следует отметить: степень комплексности лесопользования (комбинированный, полукомбинирован-ный, сырьевой компоненты модели); ориентацию на внутренний или внешний рынок (экспортный, экспортно-внутренний и внутренний компоненты). В качестве примеров выбраны Европейский Север (включая Карелию), Урал, Сибирь и Дальний Восток, крупные лесные массивы которых начали активно осваиваться в годы первых пятилеток.
Результаты исследования
В советской экономической политике попытки обоснования размещения и специализации региональных лесопромышленных комплексов относятся к первой половине 1920-х гг.4 [5] и связаны в первую очередь с экспортом древесины и удовлетворением заявок на лесные концессии. Так, по плану ГОЭЛРО строго разграничивались районы размещения лесной промышленности в соответствии с ее конкретными задачами: экспорт древесины – побережья Белого моря, Финского залива, Северного Ледовитого океана и район нижнего течения Днепра; внутреннее потребление – Волга, Днепр, бассейн Оки и Северный Урал5.
Комплексный характер развития отрасли на уровне регионов предполагался каж- дым из трех пятилетних планов довоенного периода. Системное видение перспектив лесной промышленности в северных районах СССР, где имелись крупные запасы лесных ресурсов, представили экономисты Госплана И. Капитонов и С. Славин. Их подход определил официальную позицию Госплана, имевшую крупные последствия для отрасли на последующие десятилетия. Экономисты описали роли лесопромышленных узлов, введя понятие маневренных узлов, способных изменить основную функцию (удовлетворение внутренних потребностей или экспорта) в зависимости от конъюнктуры мирового лесного рынка, и транспортные потоки древесины [9, с. 169, 171, 175].
Эти идеи получили развитие в ряде решений Политбюро ЦК ВКП(б), на I Всесоюзной конференции по реконструкции лесной промышленности в 1933–1937 гг. и во втором пятилетнем плане. Базовым вектором пространственного размещения отрасли стало освоение лесных ресурсов и перемещение производственных мощностей в северные и восточные районы. Большое внимание было уделено внутри- и межотраслевому комбинированию.
Намеченные на конец 1937 г. масштабы лесопользования (520 млн куб. м заготовленной древесины, 93 млн куб. м пиломатериалов, около 1,6 млн т бумаги и целлюлозы) отразили радикализм плановых и хозяйственных органов в размещении лесной промышленности. Один только Северный край к концу второй пятилетки должен был обеспечить от 1/4 до 1/5 продукции страны по разным компонентам лесной промышленности6. С другой стороны, происходила интенсификация лесопромышленной деятельности за счет развития механической обработки и глубокой переработки древесины, отраслевого машино- строения. На I Всесоюзной конференции по реконструкции лесной промышленности признавались нехватка финансовых средств и актуальность применения наиболее простых лесохозяйственных методов. Так что приоритетной оставалась задача возможно полного удовлетворения потребностей экономики и населения страны. В случае невыполнения или сокращения планов по созданию транспортной инфраструктуры, особенно в северных и восточных районах, под угрозу ставилось достижение целевых показателей лесопользования.
Планами предусматривалось создание комбинированных и полукомбинирован-ных, экспортно-внутренних моделей на Европейском Севере, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Даже в случае отклонения ряда проектов региональные и центральные партийно-государственные, плановые органы, хозяйственные ведомства продолжали делать упор на развитие механической обработки и глубокой переработки древесины. В итоге последнее слово оставалось за высшими партийными инстанциями, хотя реализация планов во многом зависела от наличия финансовых, материальных, кадровых ресурсов, времени и степени освоения мощностей. Это обусловило корректировку моделей региональных лесопромышленных комплексов.
Одним из крупных партийно-государственных деятелей, разделявших ценности построения социализма, индустриализации, в том числе побывавших в командировках в странах Европы и Северной Америки и сумевших доказать актуальность проектов преобразований, являлся С. А. Бергавинов. В 1927 г. он возглавил партийный комитет Архангельской губернии, затем – Северного края, а в 1931 г. – на несколько месяцев – Союзлеспром ВСНХ СССР. С. А. Бергави-нов смог связать задачи экспорта лесных ресурсов и материалов с необходимостью индустриализации Северного края, проявив себя знатоком тенденций лесной отрасли. Он выделил в качестве перспективных с точки зрения экспорта лесных ресурсов и материалов Север (Ленинградская область и Северный край) и Дальний Восток, что давало возможность выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Остальные районы должны были работать на удовлетворение внутренних потребностей7. Данная схема представлялась наиболее благоприятным решением проблем транспорта древесины и снабжения лесными ресурсами и материалами внутреннего и внешнего рынков.
С. А. Бергавинов осуществил большую работу по обоснованию необходимости создания Северного края с центром в Архангельске. Проекты по его индустриальному развитию нашли отражение в таких популярных концептах, как «валютный цех страны», «всесоюзная лесопилка». Были сформулированы экономические профили административно-территориальной единицы: «лесной, лесопромышленный и животноводческо-промысловый, экспортного направления»8. Плановые задания по заготовке и вывозке древесины, выпуску пиломатериалов увеличивались, чтобы обеспечить поступление дополнительных валютных средств для осуществления индустриализации. При этом С. А. Бергавинов предостерегал об опасности игнорирования лесохозяйственных мероприятий, вырубки лесных массивов вдоль сплавных путей. Миссией руководителя Северного краевого бюро ВКП(б) стали, таким образом, проведение масштабных преобразований и мобилизация населения.
Лесная промышленность стала определять экономический облик региона. Несмотря на увеличение объемов заготовки древесины, выпуска пиломатериалов, экспорта лесной продукции, реализация про- ектов по глубокой переработке древесины (в первую очередь целлюлозно-бумажных комбинатов в Архангельске, Котласе, Сыктывкаре) тормозилась из-за нехватки финансовых средств и слабой транспортной инфраструктуры. Более того, во второй половине 1930-х гг., по мере выполнения задач индустриализации, экспорт лесной продукции стал сокращаться. Вследствие этого стал нарастать транспорт древесины для внутреннего потребления (в 1929/30 г. – 7,6 млн куб. м, в 1936 г. – 15,7 млн, по плану 1937 г. – 34,2 млн куб. м [25, с. 309]). Политический и экономический эффект от создания Северного края оказался кратковременным, что привело к его разукрупнению в 1936–1937 гг.
В автономной Карельской республике в 1920-х гг. благодаря деятельности руководства по устройству лесов, реконструкции и строительству предприятий (в том числе крупного проекта – Кондопожского промышленного узла в составе гидроэлектростанции и бумажной фабрики), предоставлению особых бюджетных прав (например, распоряжение частью доходов от лесного экспорта) был обеспечен существенный рост экономики. Финляндия стала ориентиром для карельского руководства в формулировании программ развития автономии. Однако на рубеже 1920–1930-х гг. развивался конфликт между республиканскими властями, стремившимися сохранить управление промышленностью, и центральными партийно-государственными органами, которые в результате стали формулировать направления развития лесной промышленности, распоряжаться доходом от экспорта древесины.
Лесная промышленность Карелии в 1930-х гг. сохраняла сырьевую ориентацию. В 1940 г. четверть стоимости валовой продукции лесной промышленности давала сфера механической обработки древесины (в 1932 г. – столько же), 21 % – сфера глубокой переработки (в конце первой пяти- летки – 7,3 %). Остальной объем обеспечивала заготовка леса. Роль лесохимии в экономике была минимальной (0,1 %)9. Основными событиями, положившими начало структурной перестройке лесной промышленности (но прерванными Великой Отечественной войной), стали пуск в 1939 г. крупного Сегежского целлюлозно-бумажного комбината и восстановление после Советско-Финляндской войны 1939–1940 гг. предприятий на Карельском перешейке, вошедшем в состав образованной в апреле 1940 г. Карело-Финской ССР. Мощность производств «новых» районов составляла 366 тыс. т целлюлозы (69 % от показателя по стране в 1940 г.), 41 тыс. т бумаги (5 %) и 30 тыс. т картона (20 %)10. Впервые в Советском Союзе появился район с такой высокой концентрацией предприятий по глубокой переработке древесины, оснащенных передовой техникой и технологиями.
В 1920–1930-х гг. проект лесопромышленного освоения Европейского Севера не обрел строгого методологического обоснования. Партийно-государственные и хозяйственные деятели в стремлении получить выгоду от эксплуатации лесных ресурсов (в первую очередь валюту от экспорта) не учитывали в полной мере потенциал комплексного развития территории. Мощный региональный лесопромышленный комплекс удалось создать, но цена этого – отклонение ряда перспективных проектов, экономические и экологические проблемы. Крупные целлюлозно-бумажные предприятия начали функционировать только накануне Великой Отечественной войны. С восстановлением предприятий на Карельском перешейке появился реальный шанс сделать глубокую переработку древесины основным компонентом лесной промышленности, но он был прерван войной.
В региональных перспективных планах, подготовленных в конце 1920-х гг. плановыми органами Уральской области и Си- бирского края, развитие лесной промышленности опиралось на освоение новых массивов, строительство крупных предприятий по механической обработке и глубокой переработке древесины11. Крупным межрегиональным проектом стал Урало-Кузнецкий комбинат (см., например: [21; 26; 27]). В его отраслевой структуре развитие лесной промышленности предполагалось как в связи с древесноугольной металлургией, так и в направлении кооперирования с химией, машиностроением. Специалисты Уралплана ожидали мощного рывка лесной промышленности (заготовка 74 млн плотных кубометров древесины к 1940 г., выпуск 24,5 млн куб. м пиломатериалов в 1937 г., 500 тыс. куб. м фанеры к 1940 г., 900 тыс. т бумаги к 1937 г. [26, с. 146; 27, с. 25, 34, 56–57]), вызывавшегося бурным развитием других индустриальных отраслей, строительства, культуры. Одним из наиболее успешных проектов стал Ашинский лесохимический завод (Южный Урал), комбинировавшийся с металлургией.
В дальнейшем специализация районов Уральской области (в 1934 г. разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области) проявилась четче. Основной отраслью западной части Свердловской области, выделившейся в 1938 г. в Пермскую область, стала целлюлозно-бумажная (Вишерский, Камский, Соликамский комбинаты, Краснокамская бумажная фабрика Гознака), восточной части – лесопильно-деревообрабатывающая (Лобвинский, Тавдинский лесокомбинаты, Сосьвинский деревообрабатывающий комбинат и др.). К началу 1940-х гг. на Урале сложились благоприятные – по меркам того периода – пропорции лесопромышленной деятельности. Сфера глубокой переработки древесины была усилена строительством гидролизных и сульфитно-спиртовых заводов, механической обработки – возведени- ем фанерных, лыжных, мебельных фабрик. Несмотря на увеличение экспорта пиломатериалов (например, в Уральской области за период с 1929 по 1933 г. с 37 тыс. до 207 тыс. куб. м12), основной функцией региона из-за его срединного положения в стране являлось удовлетворение внутренних потребностей. Равно как целлюлозно-бумажные предприятия вырабатывали продукцию преимущественно для внутренних нужд.
С другой стороны, в годы третьей пятилетки, когда металлургические предприятия, работавшие на минеральном топливе, добились высоких результатов в плавке чугуна, рентабельность древесноугольных заводов была поставлена под сомнение. За 1937–1940 гг. выпуск древесноугольного чугуна сократился с 556 тыс. до 383,3 тыс. т (14,2 % от общего производства этого товара на Урале). Некоторые специалисты высказывали точку зрения о необходимости сохранения и развития древесноугольной металлургии, которая могла производить качественный чугун. На 1940 г., после обращения в Госплан СССР Пермского и Свердловского областных комитетов партии, были выделены средства для металлургических предприятий, работавших на древесном угле. Продолжение выпуска древесноугольного чугуна требовало осуществления большого числа мероприятий по модернизации и капитальному строительству в сфере заготовки леса и углежжении. Научно-техническое совещание по развитию древесноугольной металлургии, состоявшееся в декабре 1940 г. в Свердловске, поддержало эти мероприятия [1, с. 17, 31–33, 57–58, 65–66; 13, с. 81–82, 87–88; 15, с. 116–118]. Осуществлению планов помешали начавшаяся война и достижения металлургов в выплавке сложных высоколегированных и специальных сталей в большегрузных мартеновских печах с основной подиной.
Масштабная программа освоения лесов Сибирского края (в 1930 г. разделен на Западносибирский и Восточносибирский края) и строительства предприятий предусматривалась генеральным планом развития народного хозяйства Сибирского края13 и – после ряда сокращений – первым и вторым пятилетним планами. Основным районами развития лесной промышленности становились Обско-Нарымский, Ангаро-Томский и зона Севера. Предприятия должны были размещаться группами в бассейнах Оби, Енисея, Ангары и их притоков или по трассам железных дорог, которые еще предстояло соорудить. За первую и вторую пятилетку планировалось многократно увеличить объемы лесопромышленной деятельности. В 1937 г. предполагалось заготовить 94,5 млн куб. м леса и произвести 29,5 млн куб. м пиломатериалов14.
Наличие крупных проектов по заготовке и механической обработке древесины без серьезной увязки с глубокой переработкой лесных ресурсов обусловливалось слабыми позициями восточных районов в лесной промышленности и продиктованной партийно-государственными и плановыми органами задачей обеспечения лесом центральной и южной частей Европейской России, Средней Азии. Таким образом, Сибирь становилась донором для лесодефицитных территорий страны.
В Дальневосточном крае, где имелись значительные запасы лесов и возможный их отпуск составлял 73,9 млн куб. м, массивы были исследованы слабо. Внутренняя потребность в древесине полностью удовлетворялась, что обусловливало повышение роли края в экспорте. В условиях слабой сети железных дорог становилось актуальным сооружение новых путей: от Амура до бухты Де-Кастри, Хабаровск – Советская Гавань15. Если сфера механической обработки древесины получала необходимый импульс развития, то глубокая переработка оставалась аутсайдером среди компонентов лесной промышленности.
Второй пятилетний план представлял собой наиболее прагматичный вариант размещения лесной промышленности с точки зрения решения проблемы комплексного лесопользования. Формировалось несколько мощных лесопромышленных узлов. Позиции Сибири и Дальнего Востока в советской лесной промышленности увеличивались: мощность проектировавшихся лесопильных, фанерных, мебельных производств составляла 26–28 % от показателей по стране. Так, в первой пятилетке в Дальневосточном крае предполагалось строительство предприятий мощностью 1,6 млн куб. м пиломатериалов, во второй – 1,15 млн куб. м16.
Эти благоприятные перспективы подогревались принятым 8 марта 1932 г. постановлением ЦК ВКП(б). Планировалось возвести три комбината (Чулымский, Красноярский, Уссурийский), которые могли бы удовлетворить потребности восточных районов страны в разных видах бумаги. Однако сроки реализации этого проекта (пуск предприятий в третьем квартале 1934 г.) ставились изначально нереальные, поскольку Народному комиссариату тяжелой промышленности СССР еще только предстояло организовать производство оборудования17.
По мере изучения лесных массивов северных и восточных районов страны эко- номисты пришли к выводу, что основной базой целлюлозно-бумажной промышленности являются леса Европейского Севера и верхнего течения Камы с большими запасами ели и пихты, а лесопиления – восточные районы, где имелись значительные запасы лиственницы и сосны, востребованных строительной отраслью [18, с. 100– 101]. Данные выводы, по сути, дискредитировали планы партийно-государственных и хозяйственных органов по размещению целлюлозно-бумажных предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке.
Тем не менее в Красноярске с 1936 г. возводился первый в Сибири крупный целлюлозно-бумажный комбинат. В начале 1939 г. на площадке были готовы основные корпуса, завезено оборудование. Однако темпы строительства были низкими в связи с недостаточным финансированием. Минусом являлось то, что при сооружении комбината не было уделено внимания использованию отходов (щелоков целлюлозного завода, коры с биржи и отходов древесного цеха). На совещании в Наркомлесе СССР 7 января 1939 г. было принято решение не менять, как это произошло с Архангельским и Соликамским целлюлозно-бумажными комбинатами (удовлетворение потребностей оборонной промышленности), основной профиль Красноярского комбината, установленный техническим проектом. Он включал целлюлозный и древесно-массный заводы, картонный цех и бумажную фабрику с тремя бумагоделательными машинами мощностью 42,9 тыс. т писчей и печатной бумаги, 34,7 тыс. т газетной бумаги, 4 тыс. т картона.
Было намечено в конце 1940 г. пустить первую очередь комбината: целлюлозный завод, отжимные цеха, бумагоделательную машину № 3, спиртовой завод, установки по выпарке барды и утилизации коры. В конце 1941 г. должны были начать работу остальные цеха. Правда, на последней странице протокола от 7 января 1939 г. руководство Главлесстроя сделало резюме, что при отсутствии технического проекта бумагоделательной машины и утилизационных цехов в 1940 г. возможно ввести в строй целлюлозный и спиртовой заводы, отжимные цеха. Счетно-контрольный сектор указал, что дополнительных средств выделить не может18. Результат строительства оказался печальным. В начале Великой Отечественной войны оно было законсервировано и возобновилось только в 1956 г., а комбинат начал работу в 1960 г.
Итак, основные изменения в развитии региональных лесопромышленных комплексов состояли в росте удельного веса Сибири в вывозке древесины (выше значения, предусмотренного третьим пятилетним планом, – 15 %19); Урала, Сибири и Дальнего Востока – в выпуске пиломатериалов (выше планового показателя 1942 г. – соответственно 8,9, 14,7 и 7,1 %20); Урала и Сибири – в изготовлении фанеры клееной; Урала – в производстве бумаги. Роль Сибири и Дальнего Востока в выпуске фанеры и бумаги была незначительной (табл. 1).
Многие крупные проекты целлюлознобумажных комбинатов (Сегежский, Архангельский, Соликамский) проектировались из расчета выпуска беленой целлюлозы, в том числе на экспорт21 [6, с. 13–14]. В этом отразилось стремление партийно-государственных органов продемонстрировать сильные стороны советской лесной промышленности. Однако большие сроки
Таблица 1
Изменение удельного веса региональных лесопромышленных комплексов северных и восточных районов СССР в годы первых пятилеток в производстве отдельных видов продукции, %22 /
Table 1
Changes in the specific weights of regional timber industry complexes in the northern and eastern regions of the USSR during the first five-year plans in the production of certain types of products, %
|
Показатель / Indicator |
Территория / Territory |
1927/28 |
1932 |
1940 |
|
Вывозка древесины*/ Timber removal |
СССР, абсолютный показатель / USSR, absolute indicator |
61,7 млн куб. м / 61,7 million cubic meters |
164,7 млн куб. м / 164.7 million cubic meters |
246,1 млн куб. м / 246,1 million cubic meters |
|
Европейский Север** / European North |
15,7 |
17,1 |
17,4 |
|
|
Урал***/ Urals |
16,3 |
13,7 |
16,6 |
|
|
Сибирь / Siberia |
6,3 |
8,1 |
15,7 |
|
|
Дальний Восток / Far East |
2,9 |
2,9 |
6,4 |
|
|
Производство пиломатериалов / Manufacture of sawn timber |
СССР, абсолютный показатель / USSR, absolute indicator |
15,3 млн куб. м**** / 15,3 million cubic meters |
21,6 млн куб. м / 21,6 million cubic meters |
34,8 млн куб. м / 34,8 million cubic meters |
|
Европейский Север** / European North |
20,3 |
21,3 |
15,9 |
|
|
Урал***/ Urals |
5,8 |
6,2 |
11,1 |
|
|
Сибирь / Siberia |
6,6 |
8,5 |
16,3 |
|
|
Дальний Восток / Far East |
2,7 |
2,9 |
7,0 |
|
|
Производство фанеры клееной / Production of glued plywood |
СССР, абсолютный показатель / USSR, absolute indicator |
185,4 тыс. куб. м / 185.4 thousand cubic meters |
423,6 тыс. куб. м / 423,6 thousand cubic meters |
731,9 тыс. куб. м / 731,9 thousand cubic meters |
|
Европейский Север** / European North |
Нет сведений / No information |
2,4 |
2,0 |
|
|
Урал***/ Urals |
Нет сведений / No information |
0,7 |
5,1 |
|
|
Сибирь / Siberia |
Нет сведений / No information |
3,2 |
4,0 |
|
|
Дальний Восток / Far East |
Нет сведений / No information |
2,0 |
1,9 |
|
|
Производство бумаги / Paper production |
СССР, абсолютный показатель / USSR, absolute indicator |
284,5 тыс. т / 284,5 thousand cubic meters |
471,2 тыс. т / 471,2 thousand cubic meters |
812,4 тыс. т / 812,4 thousand cubic meters |
|
Европейский Север** / European North |
Нет сведений / No information |
9,8 |
12,3 |
|
|
Урал***/ Urals |
Нет сведений / No information |
5,2 |
19,3 |
|
|
Сибирь / Siberia |
- |
- |
0,1 |
|
|
Дальний Восток / Far East |
- |
- |
0,02 |
* Для 1927/28 г. – заготовка древесины. ** Включая Карелию. *** Для 1927/28 и 1932 гг. – в границах Уральской области и Башкирской автономной республики, для 1940 г. – в границах Молотовской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, Удмуртской и Башкирской автономных республик. **** Данные 1928/29 г.
22 Подсчитано по: Промышленность СССР: стат. сб. М., 1957. С. 250–259, 262–266, 270; Социалистическое строительство СССР: стат. ежегодник. М., 1934. С. 127, 132; Социалистическое строительство СССР: стат. ежегодник. М., 1935. С. 226, 230; Социалистическое строительство СССР: стат. ежегодник. М., 1936. С. 188–189.
строительства, внедрения и освоения передовых технологий, изменение проектов не позволили достичь существенных результатов. Демонстрация развития целлюлознобумажной отрасли свелась к минимизации импорта целлюлозно-бумажной продукции, несмотря на ее нехватку в стране.
В конце 1930-х гг. отражением почти полной переориентации лесной промышленности на внутренний рынок стало проведение учеными Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР комплексных исследований территориально-производственных сдвигов и перспектив размещения отрасли23 [4; 23]. Они обосновывались наличием диспропорций между состоянием сырьевых баз и уровнем развития заготовки, механической обработки и глубокой переработки древесины. Специалисты Госплана при лесопромышленном районировании опирались на факторы заготовки [4, с. 78–79, 84–85] или транспорта [10; 11, с. 63–64; 14, с. 121–122, 127–128] древесины – актуальные для того периода направления, отразившие в том числе позицию высших партийно-государственных органов (постановления о работе лесной промышленности и перевозках древесины 1938–1939 гг.). Результатом работы стало продвижение новых проектов железных дорог в целях ликвидации нерациональных перевозок леса, переформатирование межрайонных маршрутов.
Речь шла о дефиците или избытке территорий с выделением промежуточной зоны, районы которой «стоят на грани необходимости дополнительного ввоза леса». Возникли также предложения о переносе мощностей лесопильной отрасли в северные и восточные районы, поскольку массивы промежуточной и лесодефицитной зон были близки к истощению24 [23, с. 103–104, 106–107]. Данные проекты и предложения являлись более упрощенными по сравнению с концепцией И. Капитонова и С. Славина, сильная сторона ко- торой – внимание к степени переработки лесных ресурсов.
Обсуждение и заключение
Партийно-государственные органы предполагали с конца 1920-х по начало 1940-х гг. трансформировать лесную промышленность в индустриальную отрасль экономики. В процессе планирования решались не только задачи освоения новых лесных массивов, увеличения объемов производства продукции, формирования кадрового потенциала, строительства и реконструкции предприятий. Важными моментами стали попытки реализовать мероприятия, способствовавшие интенсификации лесоэксплуатации. Были сформулированы методологические аспекты развития отрасли, отразившие не только изменения в пространственном размещении, но и функционал административно-территориальных единиц, богатых лесными ресурсами. В северных и восточных районах страны лесная промышленность являлась одним из ведущих компонентов экономики, а в ряде случаев (в Карелии, Северном крае) определяла экономический облик территорий.
Первыми пятилетними планами и региональными документами предусматривалось создание комбинированных (или полукомбинированных), экспортно-внутренних моделей лесопромышленных комплексов на Европейском Севере, Урале и в Сибири. Фактическим результатом реализации первых пятилеток стало слабое, нежели это предусматривалось планами, развитие комбинирования в лесной промышленности. К началу 1940-х гг. в Карелии и Северном крае формировались полу-комбинированные, экспортно-внутренние модели лесопромышленных комплексов. За счет развития сфер механической обработки и глубокой переработки древесины была сделана попытка преодолеть сырьевую ориентацию этих регионов, сначала усилить экспортную составляющую лесопромышленной деятельности, а с середины
1930-х гг. частично перенаправить основные потоки лесных ресурсов и материалов на внутренние рынки СССР.
В Коми Республике и Сибири модели лесопромышленного комплекса характеризовались преимущественно сырьевой и внутренней ориентацией. Крупные проекты в сферах механической обработки и глубокой переработки древесины не были реализованы. На Урале лесная промышленность отличалась комбинированным характером и ориентацией в основном на внутренние рынки. В регионе, в дополнение к существовавшим небольшим лесопильным заводам и бумажным фабрикам, были возведены крупные комбинаты.
Опыт изучения истории лесной промышленности на региональном уровне по- казал, что реализация проектов крупных целлюлозно-бумажных комбинатов существенно повышала в ее структуре значение глубокой переработки древесины. Однако территорий, где в годы первых пятилеток произошли эти изменения, было несколько: Европейский Север, Северо-Запад, Волго-Вятский район, Урал. Заданная в годы первых пятилеток направленность развития региональных лесопромышленных комплексов оказалась устойчивой на протяжении нескольких десятилетий. Только в 1960–1970-х гг. на Европейском Севере и в Сибири были осуществлены попытки корректировки моделей – формирования по-лукомбинированных и комбинированных компонентов.
Список литературы Региональные лесопромышленные комплексы Советского Союза в годы первых пятилеток: модели и роли
- Антуфьев А. А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург: УрО РАН, 1992. 337 с.
- Бандман М. К. Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований. Новосибирск: Наука, 1980. 256 с.
- Богорад Д. Енисейский лесопромышленный комплекс // Плановое хозяйство. 1938. № 2. С. 126-132.
- Воздвиженский В. Развитие лесной промышленности и размещение ее в третьей пятилетке // Плановое хозяйство. 1937. № 9-10. С. 78-86.
- Данишевский К. Х. Лесной экспорт СССР (его положение и перспективы). М.: Центральное управление печати и промпропаганды ВСНХ СССР, 1925. 71 с.
- Захарова Е., Фасонов П. Рождение гиганта, 1934-1940. Новодвинск: Архангельский ЦБК; Архангельск: Карандаш, 2019. 208 с.
- Зыкин И. В. Лесная промышленность и региональное развитие Советского Севера в годы первых пятилеток // Уральский исторический вестник. 2023. № 3. С. 190-199.
- Зыкин И. В. Региональные лесопромышленные комплексы Европейского Севера СССР в стратегии первого пятилетнего плана // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42, № 8. С. 44-53.
- Капитонов И., Славин С. Проблемы освоения Севера во второй пятилетке // Плановое хозяйство. 1932. № 3. С. 168-189.
- Комаров А. О развитии железнодорожной сети Поволжья // Плановое хозяйство. 1939. № 5. С. 106-123.
- Коробов А. Районный разрез народнохозяйственного плана // Плановое хозяйство. 1939. № 1. С. 58-68.
- Кулагин О. И. «Эффект колеи» зависимости в лесной промышленности Карелии как фактор социально-экономического развития региона в конце Х1Х-ХХ вв. // Региональные исследования. 2015. № 1. С. 145-152.
- Леса Урала / под ред. М. Е. Ткаченко. Свердловск: Изд-во Уральского филиала Академии наук СССР, 1948. 231 с.
- Либин И. Рационализация размещения железнодорожной сети Союза ССР // Плановое хозяйство. 1939. № 2. С. 117-131.
- Мовшович Г. Топливно-сырьевая база металлургии Урала // Плановое хозяйство. 1940. № 9. С. 112-121.
- Промышленные кластеры России - 2016. Отраслевой обзор. М., 2017. 47 с.
- Пучков В. В., Утевская М. В. Промышленный кластер как инструмент регионального территориального планирования в лесном комплексе // Экономика и управление. 2017. № 11. С. 75-81.
- Рослов Н., Пругавин С. Основные проблемы развития лесной промышленности Северной области // Плановое хозяйство. 1936. № 12. С. 97-107.
- Северные морские пути России: колл. моногр. / под ред. В. В. Васильевой и К. А. Гаврило-вой. М.: Новое литературное обозрение, 2023. 672 с.
- Славин С. В. Промышленное и транспортное освоение Севера СССР. М.: Экономиздат, 1961. 301 с.
- Федорович И. Урало-Кузнецкая проблема. Л.: Центральное управление печати ВСНХ СССР, 1926. 100 с.
- Филимончик С. Н. ББК как символ сталинской модернизации 1930-х гг. // ГУЛАГ на севере России: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Сыктывкар, 2011. Ч. 1. С. 61-64.
- Чиж Г. Узкие места лесной промышленности // Плановое хозяйство. 1939. № 2. С. 99-116.
- Чиркин Г. Ф. Транспортно-промышленно-колонизационный комбинат Мурманской железной дороги: Его возникновение, развитие и метод работы. М.; Л., 1928. 135 с. (Труды Государственного научно-исследовательского института земледелия и переселения; т. 9).
- Шубин С. И. Северный край в истории России. Проблемы региональной и национальной политики в 1920-1930-е годы: моногр. Архангельск: Поморский государственный университет, 2000. 463 с.
- Эвенчик Б. И. Перспективы уральской промышленности и электрификации в связи с развертыванием Урало-Кузнецкого комбината // Урало-Кузнецкий комбинат: сб. ст. М., 1931. С. 132-151.
- Эвенчик Б. И. Урал в плане Урало-Кузнецкого комбината. М.: Советская Азия, 1932. 105 с.
- Algvere K. V. Forest Economy in the U.S.S.R. An Analysis of Soviet Competitive Potentialities. Stockholm: Skogshogskolan Royal College of Forestry, 1966. 449 p.