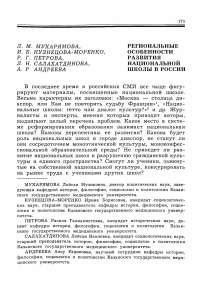Региональные особенности развития национальной школы в России
Автор: Мухарямова Л.М., Кузнецова-моренко И.Б., Петрова Р.Г., Салахатдинова Л.Н., Андреева А.Р.
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональные проблемы науки и образования
Статья в выпуске: 4 (57), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе исследования, проведенного в период 2002-2006 гг., Анализируется современное состояние и перспективы развития национальной школы в России.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222266
IDR: 147222266
Текст краткого сообщения Региональные особенности развития национальной школы в России
В последнее время в российских СМИ все чаще фигурируют материалы, посвященные национальной школе. Весьма характерны их заголовки: «Москва — столица диаспор, или Как не повторить судьбу Франции»1, «Национальные школы: гетто или диалог культур?»2 и др. Журналисты и эксперты, мнения которых приводят авторы, выдвигают целый перечень проблем. Какое место в системе реформирования образования занимает национальная школа? Каковы перспективы ее развития? Какова будет роль национальных школ в городе диаспор, не станут ли они сосредоточием моноэтнической культуры, моноконфес-сиональной образовательной среды? Не приведет ли развитие национальных школ к разрушению гражданской культуры и единого пространства? Смогут ли ученики, замкнутые на собственной национальной культуре, конкурировать на рынке труда с учениками других школ?
МУХАРЯМОВА Лайсан Музиповна, доктор политических наук, заведующая кафедрой истории, философии, социологии и политологии Казанского государственного медицинского университета.
КУЗНЕЦОВА-МОРЕНКО Ирина Борисовна, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры истории, философии, социологии и политологии Казанского государственного медицинского университета.
ПЕТРОВА Расиля Галиахметовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии, социологии и политологии Казанского государственного медицинского университета.
САЛАХАТДИНОВА Лейсан Наилевна, кандидат социологических наук, старший преподаватель истории, философии, социологии и политологии Казанского государственного медицинского университета.
АНДРЕЕВА Алсу Радиковна, научный сотрудник кафедры истории, философии, социологии и политологии Казанского государственного медицинского университета.
Введение единого государственного экзамена, который предполагает унифицированное тестирование выпускников на русском языке, безотносительно языка обучения, усиливает дискуссионность вокруг национальных школ. Есть ли будущее у учреждений, выпускники которых должны проходить дополнительную языковую подготовку для итоговой аттестации?
В стране сложилось словосочетание «татарстанская модель», подразумевающее одну из ведущих ролей республики в создании договорных отношений с федеральным центром, а также особую национальную политику, стабилизирующую интересы мультиконфессионального и мультиэт-ничного региона. Титульный этнос (татары) составляют чуть более 50 % населения Республики Татарстан и выступают вторым по численности этносом в РФ. Сегодня татарский язык среди миноритарных («младших») языков России обладает наибольшим коммуникативным потенциалом, а 1/3 российского общеобразовательного пространства, где обучение ведется на нерусских языках, приходится на татарский язык.
Процессы, связанные с приобретением суверенитета в большинстве национальных республик на территории бывшего СССР, повлекли за собой повышенное внимание властей к росту этнического самосознания. На территории этнических субъектов Российской Федерации с начала 90-х гг. XX в. существенно активизировалась работа по возрождению этнической культуры, искусства и религии. Особое значение в процессах этнической консолидации имела новая языковая политика. Если во второй половине 80-х гг. XX в. преподавание в общеобразовательных школах велось на 18 языках, то в настоящее время — на 38. Уже в 1994 г. в Российской Федерации функционировало 3 180 общеобразовательных учреждений с русским и нерусским языком обучения (939 тыс. чел.) и 3 550 учреждений с нерусским языком обучения (252 тыс. учащихся)3
Проведенный анализ научных работ показал, что в России недостаточно исследований, выполненных с точки зрения оценки национальной школы с позиций потребителей, т. е. в контексте того, насколько полно национальная школа удовлетворяет потребности ребенка в современных знаки- ях, не является ли она барьером к получению качественного образования, равные ли стартовые условия у выпускников русскоязычных и национальных школ. На наш взгляд, необходимо провести анализ национальной школы с позиций выполнения институтом образования своих основных функций, важнейшей из которых в современных обществах является достиженческая.
Несомненный научно-практический интерес представляют результаты исследования, проведенного в два этапа в 2002—2006 гг.: первый — 2002—2003 гг., второй — 2005— 2006 гг.4 В ходе выполнения проектов решались задачи выявления жизненных шансов выпускников школ с татарским языком обучения; ценностных ориентаций и карьерных притязаний выпускников татарских школ и отличий по этим позициям от сверстников, учившихся на русском языке; исследования жизненных стратегий выпускников татарских школ в контексте ориентаций на интеграцию в «большую» Россию и формирование общероссийской гражданской идентичности или сохранение и воспроизводство республиканской и этнической идентичности.
Исследования, проведенные нами, впервые представляют портрет молодежи, обучающейся в национальной школе Татарстана. Результаты проекта позволяют преодолеть ряд стереотипов об учащихся этих школ как об отдельной гражданской общности, а также выявить проблемы социальной мобильности, возникающие у выпускников татарских школ. Эмпирической базой исследования послужили индивидуальные глубинные и фокусированные групповые интервью, анализ баз данных и включенные наблюдения в приемных комиссиях одиннадцати вузов Казани в период приемной кампании 2003 г., анкетный опрос 609 выпускников школ в 2002 г. и 490 выпускников в 2006 г., обучающихся на русском и татарском языках в крупных, средних, малых городах и сельской местности республики по месту учебы.
В 2006 г. исследование выявило значительно большую степень этнической идентичности у учащихся татарских школ по сравнению с учащимися школ с русским языком обучения. Отвечая на вопрос «В какой степени для Вас значима национальная принадлежность?», «очень значима»
ответили 34,2 % учащихся татарских школ и 13,4 % школьников, обучающихся на русском языке. Совсем не значимой национальность оказалась лишь для 1,4 % первой группы и для 13 % второй.
Среди учащихся татарских школ уровень религиозности заметно выше. Так, если 8,4 % опрошенных данной группы ответили, что обращаются к религии только в критических ситуациях, то в группе учащихся с русским языком обучения подобных ответов было почти в два раза больше (15,7 %). 38,4 % первой категории респондентов регулярно посещают храм, тогда как среди учащихся русских школ такого поведения придерживаются 19 % опрошенных.
Причины глубины этнической идентичности учащихся из татарских школ разнообразны. Во-первых, это влияние родителей, считающих приоритетным национальное образование. Во-вторых, это может быть вызвано влиянием татароязычной среды. В-третьих, этническая идентичность воспитывается в рамках образовательной программы с помощью особого стиля коммуникаций, принятого у татар, уроков, посвященных татарской культуре, т. е. своеобразного «скрытого учебного плана» школы.
В то же время подчеркнутое отношение к татарскому дополняется обязательным межкультурным компонентом, присутствующим в татарских школах в соответствии с общероссийскими программами и согласно внутренним правилам. Так, в татарской гимназии № 2 г. Казани, исполняющей роль своеобразного методического центра для всех татарских школ республики, несмотря на однородность национального состава, межкультурная коммуникация рассматривается как одна из стратегических линий национально-культурного образования. Руководство гимназии полагает, что «полноценное национально-культурное образование возможно при условии социально-культурной идентификации личности, которая предполагает у нас формирование национально-культурного самосознания, основанного как на ценностях уважения иных этнических общностей, так и способности критического их изучения»5
Согласно результатам опроса 2002 г., выпускники, планирующие поступать в специальные группы, обучающиеся на татарском языке, имеют более низкий доход. Так, в этой категории школьников почти на 20 % меньше выходцев из семей с удовлетворительным доходом и на 8 % больше тех, кто признал, что семья живет «от зарплаты до зарплаты». Таким образом, образование на татарском языке охватывает и привлекает в большей степени детей из семей с невысоким экономическим потенциалом.
Подобная тенденция была выявлена и в 2006 г. — ученики татарских школ оказались на более низкой позиции, чем ученики школ с русским языком обучения. Например, 55,3 % учащихся татарских школ отметили, что никогда не выезжали за пределы соседних городов, тогда как в русских подобный уровень мобильности был отмечен у 37 % школьников. Семьи учащихся татарских школ имеют более низкую интеллектуальную базу — 30 % респондентов в 2006 г. отметили, что в их семье нет домашней библиотеки (среди учащихся русских школ было выявлено в два раза меньше подобных утверждений).
Важным показателем гражданской идентичности выступает ориентация на службу в армии. В этом вопросе учащиеся татарских школ в 2006 г. показали себя более лояльными, чем школьники с русским языком обучения. 50 % школьников из татарских школ выразили стойкое убеждение в необходимости прохождения армейской службы, 26 % — ответили «скорее да, чем нет». Среди «контрольной» группы респондентов лишь 28 % высказались за службу в армии и 14 % — «скорее да». Таким образом, опасения в «скрытом плане» национальных школ, якобы исключающих общероссийскую гражданственность в воспитании, не оправданы.
Весьма интересны, на наш взгляд, оценки выпускников относительно своих шансов поступления в вуз. Подавляющее большинство выпускников татарских гимназий и общеобразовательных школ оценивают их как «средние». Число выпускников татарских общеобразовательных школ, выбравших эту позицию, составляет 81,3 %, среди всех выпускников татарских гимназий данный ответ выбрали 54 %. Следует отметить, что 20 % выпускников татарских гимназий оценили свои шансы как высокие. Респонденты, обучающиеся в татарских школах, менее уверены в своих силах, и среди них эту позицию выбрал лишь 1 %.
Результаты исследования свидетельствуют: несмотря на то что в татарских национальных учебных заведениях обучение ведется на татарском языке, для выпускников выгоднее сдавать вступительные экзамены на русском языке (51,4 % выпускников татарских гимназий и 52,2 % выпускников татарских школ).
Осознавая языковые барьеры при поступлении в вуз, учащиеся татарских школ воспринимают обучение в таких учреждениях, скорее, ценностно-рационально: 56,3 % выпускников выбрали позицию «это возможность развивать и поддерживать язык»; 41,6 % отметили роль образования на татарском языке в «сохранении языка национальности». Лишь небольшое число опрошенных (5,5 % учащихся) воспринимают образование в таких школах как шанс утроиться на работу.
Предпочтение учащихся сдавать вступительные экзамены на татарском языке является важнейшим индикатором языкового барьера. Результаты опроса показывают, что в наиболее выгодном свете представить свои знания при поступлении в вуз на татарском языке могли бы многие респонденты: в 2002 г. — каждый пятый, в 2006 г. — каждый шестой выпускник. 90 % из них составляют одиннадцатиклассники татарских школ. Однако доля тех, кто собирается сдавать вступительные экзамены в вуз на татарском языке, меньше — 13,6 % в 2002 г. и 10,3 % в 2006 г. Это примерно каждый третий воспитанник татарской школы. Половина из них — выпускники сельских национальных школ, около одной трети — казанские выпускники татарских гимназий и школ. Лишь одну десятую часть составляют выпускники татарских гимназий и школ из городов республики.
Результаты опроса позволяют с уверенностью говорить о том, что плохое знание русского языка является фактором выбора специальности и формы обучения в вузе для учащихся татарских школ из сельских районов республики. В совокупности с падением качества школьного образования на селе плохое знание русского языка понижает их возможности социальной мобильности.
По исходному замыслу ЕГЭ обеспечивает совмещение государственной итоговой аттестации выпускников и всту- пительных испытаний для поступления в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования. Эксперимент по введению ЕГЭ в России начался в 2001 г., Татарстан участвует в эксперименте с 2005 г. Как ожидается, с 1 января 2008 г. ЕГЭ будет обязательным во всех регионах и для всех выпускников, желающих продолжить образование.
Система ЕГЭ, дающая возможность направить в любой вуз оригинал или заверенную копию свидетельства о сдаче ЕГЭ вместе с заявлением о приеме, в том числе по почте заказным письмом, должна повысить доступность качественного высшего образования для детей из сельской местности и отдаленных регионов. По утверждению А. Фурсенко, с началом эксперимента количество детей из села, ставших студентами вузов, выросло на 10 %6 Социологи отмечают, что доступность высшего образования для сельских жителей и детей из малообеспеченных семей существенно не изменилась7.
Гораздо больше вопросов вызывает ЕГЭ в контексте развития национального образования, прежде всего татарской школы, реализующей полное общее образование.
На существование самой проблемы на федеральном уровне первым обратил внимание Президент Татарстана М. Ш. Шаймиев. Во время заседания Государственного совета по вопросам развития системы российского образования Президент РТ подчеркнул, что введение ЕГЭ только на русском языке может привести к сокращению доступности высшего образования для выпускников национальных школ, особенно из сельской местности8. Федеральные власти в ответ на озабоченность М. Ш. Шаймиева ответили предложением создать развернутую систему дополнительных курсов по русскому языку.
В Республике Татарстан проблема в некоторой степени решается за счет мер, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров РТ № 39 от 6 февраля 2006 г. «О проведении в 2006 г. единого государственного экзамена и единого республиканского экзамена». Этот документ предписывает провести в 2006 г. эксперимент по введению единого республиканского экзамена по татарскому языку, математике, физике, химии и биологии с использованием форм и аналогов материалов единого государственного экзамена на татарском языке для обеспечения совмещения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений с татарским языком обучения и вступительных испытаний для поступления в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, расположенные на территории республики. Таким образом, некоторые барьеры для поступления выпускника татарской школы в вузы Татарстана в этом году преодолены. Будут ли подтверждены полномочия высших учебных заведений, являющихся в подавляющем большинстве федеральными учреждениями, по приему на обучение по результатам республиканского экзамена органами управления образованием России в будущем, неизвестно.
О результатах эксперимента по сдаче ЕГЭ в Татарстане пока трудно говорить. В открытых источниках нам не удалось обнаружить результатов по ЕГЭ и ЕРЭ выпускников русскоязычных и татарских школ. Однако некоторые наблюдения в приемных комиссиях казанских вузов дают повод для размышления. Например, наши интервью с выпускниками татарских школ 2006 г. показывают, что многие из них сдавали ЕГЭ (а не единый республиканский экзамен) на русском языке «потому что так посоветовали учителя, они сказали, что на татарском вообще не сдадите, плохие переводы тестов». Вторая (вузовская) волна единого республиканского экзамена на татарском языке показала неожиданно высокие результаты выпускников. И самое главное: выпускники русскоязычных и татарских школ сдавали ЕГЭ по русскому языку по одним и тем же контрольно-измерительным вариантам, без каких-либо модификаций для выпускников татарских школ. Для оценки результатов применялась одна и та же шкала соответствия баллов, набранных на ЕГЭ, — пятибалльная система.
Основные направления реформирования школы, процессы обновления национального образования, начавшиеся в 90-е гг. XX в., закрепили позиции возрождения и развития национального образования.
Анализ исторически сложившейся системы национального образования позволяет сформулировать ряд характерологических особенностей модели национальной школы.
Во-первых, национальная школа рассматривается как один из главных факторов возрождения родных языков, развития культур, самосохранения народов; обеспечивающий конституционное право учащихся на получение образования на родном языке; создающий равноправные условия изучения языка коренной национальности и языка межнационального общения, роль которого выполняет русский язык.
Во-вторых, роль национальной школы смещается «...с обслуживания интересов государства на удовлетворение потребностей личности, общества и социальных групп». Как отмечает И. Тагиров, «....через школьную систему мы укрепляем единость татарского мира»9 Семья и школа рассматриваются как социальные институты, формирующие носителей родного языка, самобытных людей, готовых к национальному творчеству.
В-третьих, в модели школы в той или иной мере отражается «жизнь татарского народа». Народные традиции, фольклор, национальный этнос, музыка и живопись, художественные промыслы и ремесла, этнопедагогика и религиозные традиции — составная часть содержания образования, учебных планов и программ национальной школы.
В-четвертых, национальная школа, по сути, возрождает гуманизирующую и культуроформирующую функции образования, осваивая полинациональную и поликультурную среду.
При уникальности своих самобытных корней татарская национальная школа должна входить в общую культуру российской цивилизации, которая смыкается с мировой культурой и мировым образовательным пространством. Включение насущных проблем национального образования в разработку национальной доктрины российского образования имеет большое практическое и теоретическое значение для развития национальной школы и педагогической мысли, в воспитании конкурентоспособного выпускника, самоутверждение которого происходит в новых экономических и социальных реалиях.
Список литературы Региональные особенности развития национальной школы в России
- Молодцова В. Москва - столица диаспор, или Как не повторить судьбу Франции // Учит. газ. 2006. 1 окт.
- Рохлин 3. Национальные школы: гетто или диалог культур? // ИА "Росбалт" // Электрон, ресурс [режим доступа: http:www.rosbalt.ru/ 2005/10/10/229938.html].
- Распределение населения России по владению языками (по данным микропереписи населения 1994 г.). М., 1995.
- Первый этап исследования проведен при финансовой поддержке Фонда Форда в рамках программы «Анализ доступности высшего образования в России» (проект № 1035-0256); второй - при поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Жизненные стратегии выпускников национальных школ (на примере Республики Татарстан)» (проект № 06-03-00528а).
- Хамидуллина К. 3., Бушуева А. Д. Межкультурное образование в условиях татарской гимназии // Материалы науч.-метод. конф. М.; Казань, 2002. С. 30
- Кузьмин В. Кремлевский педсовет решил, что качественное образование должно быть доступным // Рос. газ. 2006. 25 марта.
- Высшее образование в России: правила и реальность / А. С. Заборовская, Т. Л. Клячко, И. Б. Королев и др. М., 2004. С. 348-351.
- Кузьмин В. Указ. соч.
- Тагиров И. Через школьную систему мы укрепляем единость татарского мира // Татар иле. 2002. Март. С. 1.