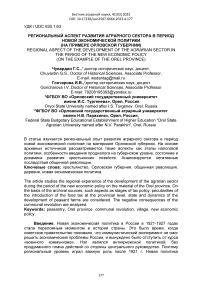Региональный аспект развития аграрного сектора в период новой экономической политики (на примере Орловской губернии)
Автор: Чувардин Г.С., Гончарова И.В.
Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 4 (103), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье изучается региональный опыт развития аграрного сектора в периодновой экономической политике на материале Орловской губернии. На основеархивных источников рассматриваются такие аспекты как этапы налоговойполитики, особенности введения продналога на губернском уровне, состояние идинамика развития крестьянских хозяйств. Анализируются негативныепоследствия общинной революции.
Крестьянство, орловская губерния, общинная революция, деревня, новая экономическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/147241988
IDR: 147241988 | УДК: 930.1:63 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2023.4.177
Текст научной статьи Региональный аспект развития аграрного сектора в период новой экономической политики (на примере Орловской губернии)
Введение. Новая экономическая политика в России в 1921-1927 годах стала переломным моментом в истории страны. Это было время, когда советское правительство понимало, что коммунистический эксперимент не смог решить экономические проблемы России, и вынуждено было отступить от курса «военного коммунизма». Нэп являлся антикризисной политикой, без продуманного плана действий со стороны центрального руководство. Поэтому региональный уровень играл важную роль после 1921 г. Новая политика позволяла региональным органам власти реструктурировать сложившийся экономический порядок и осуществлять более эффективное управление.
Материалы и методы исследования. Ввиду того, что нэп был ориентирован, в первую очередь, на сельское хозяйство, рассмотрим его реализацию на примере типичной агарной губернии земледельческого центра. В Орловской губернии после окончания гражданской войны социальноэкономическая и политическая обстановка была крайне напряженной. Это был один из наиболее отсталых аграрных регионов Центрального Черноземья, с населением 1,6 млн человек (90% проживало в сельской местности). Военные вехи начала XX столетия (Первая мировая, затем Гражданская войны) больно ударили по основному сектору губернской экономики: с фронта не вернулось 37% дееспособного мужского населения[9, с. 101], крестьянская запашка в 1920 г. была вдвое меньше по сравнению с 1913 г., «малолошадность» стала характерной чертой орловской деревни[3, с. 17].
«Военный коммунизм» с жесткой продразверсткой, ликвидацией товарноденежных отношений и резким падением уровня жизни населения спровоцировал социальные конфликты. В начале 1921 г. крестьянские волнения, отголоски Антоновского восстания, прокатились по Орловскому, Ливенскому, Кромскому и Дмитровскому уездам. [4, л. 52]
Весьма опасным для власти явлением были проявления кризиса весной 1921г. в губернской партийной организации, а именно слабость внутрипартийной структуры с ростом напряженности на каждом уровне, бюрократизация аппарата, тенденции внутрипартийного сепаратизма (стремление уездных партийных комитетом проводить свою политику).
После X съезда РКП(б) и разворачивания нэпа в губернии был преодолен структурный кризис партии начала 1920-х гг. Оформилась внутрипартийная структура с жесткой иерархией и подавлением инициативы нижестоящих организаций. На протяжении двадцатых годов партаппарат организационно превращался в государственную структуру.
В региональном проведении аграрной политики в период нэпа выделяются три этапа, совпадающие с изменениями в налоговом законодательстве: 19211923 гг., 1924-1925 гг., 1926-1927гг.
В 1921 г., чтобы стимулировал расширение крестьянской запашки, большевики анонсировали, что продналог будет меньше продразверстки, четко фиксирован и будет объявляться заранее. Введение продналога в Орловской губернии имело свою специфику. Во-первых, его размеры в 1921/1922 и 1922/1923 гг. превышали размеры продразверстки. По продразверстке в 19201921 г. в губернии было изъято 4985128 пудов хлеба, в 1921/1922 г. было собрано по продналогу - 6875723 пудов, [2, с. 5] в 1922/1923 г. - 13500000 пудов. [6, с. 22] Во-вторых, он не был четко фиксирован, что нашло отражение в протоколах партийных заседаний[1]. В-третьих, он не объявлялся до начала весенней посевной, по крайней мере, до 1924 г. [10] В отличие, от агитационного содержания, принцип расчета продналога определялся потребностями государства, а не товарными возможностями крестьянского хозяйства. Методы сбора продналога в орловской деревне также сохраняли отпечаток практики военного коммунизма.
Эти обстоятельства обусловили разочарование крестьян в продналоге и отчуждение по отношению к проводникам налоговой политики - местным органам власти. В 1920-е гг. возросла политической активности крестьянства, она выражалась в требовании создать по аналогии с профсоюзом рабочих
Крестьянский союз. Активность крестьянства была наиболее высока в периоды кризисов 1923 г. (кризис «ножниц цен»), 1924 и 1927/28 г.
В губернии самым значительным по глубине социально-экономических последствий стал кризис 1924 г., вызванный неурожаем. Обозначившийся в первые годы нэпа процесс восстановления сельского хозяйства губернии был резко прерван. После кризиса губерния вступила в фазу экономической депрессии, из традиционного поставщика хлеба на российский рынок она превратилась в потребляющий дотационный регион. До революции губерния вывозила до 25 млн пудов зерна в год, в 1925 г. ей понадобилось около 3 млн пудов ржи для восстановления хлебного баланса[11].
Причины глубины кризисных последствий находились, с одной стороны, в плоскости политических факторов, а с другой, определялись наследием принципов традиционного хозяйствования. Распашка земельных угодий в 1920е гг. достигла своего предела, что свидетельствовало об исчерпании потенциала экстенсивного развития сельского хозяйства региона. Большое влияние на перспективы развития агарного сектора оказала общинная революция. До революции у орловских крестьян было 1924850 десятин земли, после октября 1917 г. их земельный фонд составил 2229205 десятин, или 92% от общего количества земли губернии[5, с. 303]. Земельная прибавка свыше 300000 десятин не ликвидировала крестьянского малоземелья: к началу нэпа 1-1,5 десятины земли (губернская норма на душу населения) была у 63,77% хозяйств[12, с. 35]. В дальнейшем она была аннулирована участившимися семейными разделами. Общинная революция создала прецедент постоянных земельных переделов, ввергнув и без того запутанные земельные отношения в хаос. Масштаб землеустройства на губернском уровне был очень незначителен. Общинная революция стимулировала в регионе уравнительную систему землепользования, которая препятствовала возможности развития предпринимательской инициативы и накопления капитала в аграрном секторе. Это создавало препятствия для интенсификации сельскохозяйственного производства.
Основным субъектом нэпа в регионе являлось крестьянское хозяйство, представлявшее собой автаркичный микроорганизм. Оно являлось одновременно организатором производства, распределителем и потребителем своей продукции. В экономическом плане крестьянское хозяйство испытывали сильное государственное воздействие, как опосредованно, в уравнительном перераспределении земли и земельном законодательстве, так и напрямую в виде тяжелого продналога. Перераспределение тормозило расслоение деревни, т.к. не позволяло концентрировать в одних руках основное средство производства - землю. Продовольственный налог, а потом добавившиеся к нему хлебозаготовки - сдерживали рыночную интеграцию крестьянского хозяйства. Продналог поглощал более половины отчуждаемой продукции, притом, что ее размеры ограничивались низкой товарностью хозяйств.
В 1925-1926 гг. Губернский статистический отдел провел бюджетные обследования крестьянских хозяйств. Было выявлено, что доход подушевой доход крестьян составлял 71 рубль, при этом стоимость пуда ржи на рынке составляла - от 55 копеек до 1,1 рублей[7, с. 10]. Низкая рентабельность сельского хозяйства при наличии избыточной рабочей силы привели к развитию отходничества среди крестьян, что приносило до 25 рублей прибыли. В структуре доходов крестьянства на первом месте было полеводство - 76,8%, промысловая деятельность приносила 20%, скотоводство было малорентабельным, другие отрасли играли незначительную роль[7, с. 11].
Динамика развития единоличного производства в губернии в период нэпа выглядела следующим образом. В 1921-1923 гг. восстановление хозяйства шло по нарастающей, достигнув высшего подъема в 1923/1924 г., затем оно сменяется экономической депрессией 1924/1925 г., за которой следуют весьма скромные показатели 1925/1926 г. Падение урожайности в 1924 г. в 3-4 раза из-за колебаний колебания климата свидетельствовало о шаткости положения восстанавливающегося сельскохозяйственного механизма. После кризиса крупные хозяйства трансформировали свое производство, снижая долю земледельческих занятий и увеличивая торгово-промышленную деятельность.
Для определения социальной структуры орловской деревни в 1920-ее гг. использовались показатели Центрального статистического управления, разработанные известным советским демографом А.И.Хрящевой[8, с. 8]. Основной группой крестьянских хозяйств, согласно динамической переписи, были самостоятельные хозяйства (63,3% в 1926 г.) [8, с. 14]. Это были основные производители в губернии (74,4%), они больше других категорий крестьян поставляли аграрную продукцию на внутренний рынок и одновременно больше всех закупали эту же продукцию.
Второй по численности хозяйственной группой были малопроизводительные, экономически слабые, т.н. зависимые хозяйства (32%). Они не были обеспечены инвентарем, не имели достаточно земли и рабочей силы. Поэтому не могли обеспечить себе продовольственную подушку безопасности. На рынке участвовали в качестве потребителей.
Всего 4,7% составляла третья группа – предпринимательские хозяйства, наиболее обеспеченные землей, скотом и инвентарем. Они играли существенную, но, в отличие от распространенной в историографии позиции, далеко не главную роль в аграрном производстве (9,6%), а доля их в рыночном обороте не превышала15%[8, с. 19-20].
В годы нэпа социальная организация деревни была представлена патриархальными институтами, которыми являлись крестьянский двор и община. Советское законодательство 1922 г. предоставило всем членам двора равные имущественные права, реальность которых обеспечивалась возможностью в любое время потребовать раздела хозяйства. Государство спровоцировало дробимость хозяйств в тот момент, когда патриархальная семья переживала кризис. Семейные разделы в условиях экстенсивного аграрного производства негативно повлияли на развитие деревни в целом, обостряя земельный голод в регионе.
Выводы. Мы видим, что социальная динамика развития орловской деревни в период нэпа благоприятствовала средним слоям. Социальная структура деревни стала более уравновешенной и стабильной, но в условиях экстенсивного развития аграрной сферы, крестьянство стало менее производительным. Результатом социально-экономической перестройки постреволюционного периода стали автаркия, натурализация и потребительская основа деревни.
(РГАСПИ). Ф.17. Оп.32. Ед. хр.19.
(РГАСПИ). Ф.17. Оп.33. Ед. хр.425.
F.17. Op.32. Yed. khr.19.
F.17. Op.33. Yed. khr.425.
Список литературы Региональный аспект развития аграрного сектора в период новой экономической политики (на примере Орловской губернии)
- Бюллетень Губкома. № 11. 15 октября 1921 г.
- Вестник Орловского Губкома РКП(б). 1922. № 7-8.
- Вестник Орловского губкома РКП(б). 1923. № 1-2.
- Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 175.
- Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 458.
- Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф.1. Оп. 1. Ед хр. 1236.
- Крестьянские бюджеты Орловской губернии. 1925-1926. Орел, 1927.
- Материалы по экономике Орловской деревни 1926-1927. К вопросу о расслоении крестьянского хозяйства. Орел, 1928.
- Очерки истории Орловской организации КПСС. Тула, 1987.
- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф.17. Оп.32. Ед. хр.19.
- Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф.17. Оп.33. Ед. хр.425.
- Рыночный оборот в крестьянских хозяйствах Орловской губернии за 19251926 гг. Вып. 4. Орел, 1927.