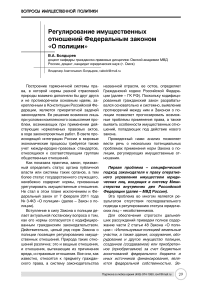Регулирование имущественных отношений Федеральным законом "О полиции"
Автор: Болдырев Владимир Анатольевич
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Вопросы имущественной политики
Статья в выпуске: 11 (122), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются нормы Федерального закона «О полиции», регулирующие отношения по оперативно- му управлению имуществом, возмещению расходов, затраченных на обучения сотрудника полиции, а также деликтные обязательства. Сделан вывод об отсутствии согласованности норм специального закона с норма- ми Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями Конституции Российской Федерации. Пред- ложены изменения в закон, призванные повысить социальную защищенность полицейских, гарантировать конституционное право на бесплатное образование на конкурсной основе, обеспечить соответствие норм об оперативном управлении имуществом полиции общим нормам об оперативном управлении.
Имущественные отношения, полиция, юридическое лицо, оперативное управление, деликтное обязательство
Короткий адрес: https://sciup.org/170152115
IDR: 170152115
Текст научной статьи Регулирование имущественных отношений Федеральным законом "О полиции"
Построение гармоничной системы права, в которой нормы разной отраслевой природы взаимно дополняли бы друг друга и не противоречили основным идеям, закрепленным в Конституции Российской Федерации, является приоритетной задачей законодателя. Ее решение возможно лишь при условии комплексного осмысления проблем, возникающих при применении действующих нормативных правовых актов, в ходе законопроектных работ. В свете происходящей интеграции России в мировые экономические процессы требуется также учет международно-правовых стандартов, относящихся к соответствующим группам общественных отношений.
Как показала практика, закон, призванный определить статус органа публичной власти или системы таких органов, а тем более статус государственного служащего, неизбежно содержит нормы, призванные урегулировать имущественные отношения. Не стал в этом плане исключением и Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон о полиции).
Вступление в силу Закона о полиции делает актуальной постановку вопроса о том, как его нормы согласуются с кодифицированным гражданским законодательством. Действительно, целый ряд норм Закона о полиции посвящен регулированию имущественных отношений. Природа таких отношений различна: это и вещные отношения, и отношения, вытекающие из причинения вреда, и страховые отношения. Все они, как известно, относятся к предмету гражданского права, а систему законодательства названной отрасли, ее остов, определяет Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ). Поскольку кодифицированный гражданский закон разрабатывался основательно и системно, выявление противоречий между ним и Законом о полиции позволяет прогнозировать возможные проблемы применения права, а также выявить особенности имущественных отношений, попадающих под действие нового закона.
Проведенный нами анализ позволяет вести речь о нескольких потенциальных проблемах применения норм Закона о полиции, регулирующих имущественные отношения.
Первая проблема – специфический подход законодателя к праву оперативного управления имуществом юридических лиц, входящих в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России).
Эта проблема во многом является результатом отсутствия последовательного подхода к регулированию статуса юридических лиц – несобственников.
Для обеспечения строгости дальнейших рассуждений приведем полное содержание части 2 статьи 48 Закона «О полиции»: «Используемые полицией земельные участки, а также здания, сооружения, оборудование и другое имущество полиции, созданное (создаваемое) или приобретенное (приобретаемое) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных источников финансирования, являются федеральной собственностью. Зе- мельные участки находятся в постоянном (бессрочном) пользовании, а имущество – в оперативном управлении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел».
Само по себе перечисление разных категорий федерального имущества (земельные участки, здания, сооружения, оборудование) в структуре приведенной нормы не вызывает особых возражений, хотя и не имеет особого смысла. В целом идея законодателя понятна: коль скоро полиция является составной частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (ч. 1 ст. 4 Закона о полиции), то и имущество должно находиться в собственности Российской Федерации. При этом второе предложение приведенной структурной части Закона о полиции вызывает возражения по следующим причинам.
К настоящему времени система МВД России включает ряд органов государственной власти, обладающих статусом юридических лиц. Каждый районный отдел в сельской местности или управление по городскому административному округу, а тем более подразделения МВД России уровня субъекта Российской Федерации, являются юридическими лицами. В процессе проходящей реформы государственных и муниципальных учреждений все они должны приобрести новый гражданско-правовой статус. Определенная сложность заключается в следующем: считать такой статус аналогичным статусу казенных учреждений (в пользу чего свидетельствует содержание пункта 11 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации; далее – БК РФ) или считать эти юридические лица собственно казенными учреждениями (к чему подводит нас норма абзаца 2 пункта 1 статьи 221 БК РФ). Отметим также, что в силу подпункта «г» пункта 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на базе всех учреждений МВД России путем изменения их типа должны быть созданы федеральные казенные учреждения.
Таким образом, из самого ́ содержания законов ясно, что МВД России имеет и будет иметь в своей структуре подразделения, являющиеся юридическими лицами. А это рождает закономерный вопрос: если только федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел (МВД России) обладает имуществом на праве оперативного управления, то на каком праве должны обладать им иные юридические лица, входящие в систему этого министерства?
Возможно, у правоприменителя будет соблазн трактовать норму превратно. В законе нет запрета на наделение юридических лиц системы МВД России имуществом на праве оперативного управления. Однако если принимать во внимание контекст, в котором изложена норма, в том числе правило, касающееся всего «имущества полиции», то никаких сомнений в том, что МВД России должно обладать правом оперативного управления на все это имущество, возникать не должно.
Согласно пункту 2 статьи 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем). Быть может, аналогичным образом следует говорить о возможности «субоперативного» управления? Или двухуровневого оперативного управления?
Отметим, что в советский период похожую задачу приходилось решать юристам при определении природы владения имуществом профсоюзными организациями. Результатом такого решения были своеобразные, основанные не на буквальном содержании закона, а на аналогии права (подкрепленной идеологическими предпосылками) выводы: «Поскольку субъектом права собственности является система в целом, комитеты и советы профсоюзов могут владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ними имуществом и денежными средствами на праве оперативного управления. Это положение соответствует практической деятельности системы профсоюзных организаций и должно быть закреплено в законе»1.
На наш взгляд, сегодня никакого вольного толкования норм об имущественных правах юридических лиц – несобственников, то есть в сфере, где исключается действие принципа свободы договора, быть не должно. Признание права оперативного управления и за МВД России, и за его органами лишено смысла. По прямому, хотя, на наш взгляд, и неточному, указанию законодате-ля2, право оперативного управления является ограниченным вещным. Совершенно однозначно содержание такого права не может регулироваться каким-либо соглашением, как не может существовать соглашения между МВД России и его подразделением о передаче имущества, закрепленного за министерством на праве оперативного управления, в оперативное управление нижестоящего органа.
Остается добавить, что в списке вещных прав, закрепленном пунктом 1 статьи 216 ГК РФ, нет и не может быть «субоперативного управления», иначе система отечественного вещного права напоминала бы средневековую систему сюзеренитета-вассалитета.
Отсюда вывод: норму части 2 статьи 48 Закона о полиции следует уточнить. Допустима, например, такая редакция закона: « Используемое полицией имущество является федеральной собственностью. Земельные участки находятся в постоянном (бессрочном) пользовании, а имущество – в оперативном управлении юридических лиц, входящих в систему федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел ».
Вторая проблема регулирования имущественных отношений Законом о по- лиции – несоответствие норм о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью полицейского, установленному в России общему стандарту, имеющему гуманистическую ценность.
Частью 6 статьи 43 Закона о полиции установлено: « В случае причинения сотруднику полиции в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в полиции и повлекших стойкую утрату трудоспособности, ему выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере утраченного денежного довольствия по состоянию на день увольнения со службы в полиции за вычетом размера назначенной пенсии по инвалидности с последующим взысканием выплаченных сумм компенсации с виновных лиц ».
В приведенной норме есть и положительные, и отрицательные стороны. Во всяком случае, хочется верить, что новый закон создаст реальные предпосылки для защиты интересов сотрудников органов внутренних дел, пострадавших при исполнении служебных обязанностей. До вступления в силу Закона о полиции сотрудник милиции реально мог рассчитывать на периодические платежи по правилам параграфа 2 главы 59 ГК РФ лишь при условии обращения в суд. Такая ситуация обусловлена отсутствием определенности в вопросе о том, кто должен устанавливать процент утраты профессиональной трудоспособности лицам, проходящим правоохранительную и военную службу. Как указывал Ю.А. Ме-дяник, «Невозможность дальнейшего прохождения службы следует расценивать как стопроцентную утрату трудоспособности»3. Суды, как органы свободные в оценке доказательств, принимали во внимание содер- жание документов, исходящих от военноврачебных комиссий, и удовлетворяли требования потерпевших.
Полагаем, что с точки зрения закрепленного в части 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации принципа равенства прав и свобод граждан, в том числе равенства независимо от должностного положения, необходимость фиксации в законе правила о зачете пенсии по инвалидности в счет возмещения вреда сомнительна.
Пунктом 2 статьи 1085 ГК РФ установлено, что при определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). Стоит вспомнить, что положение о зачете пенсии по инвалидности в возмещении вреда было изъято из отечественного права еще в постсоветский период, до принятия части первой ГК РФ.
Статьей 12 Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 года № 4214-1, устанавливалось: «При возмещении заработка или его части пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с трудовым увечьем, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после трудового увечья, в счет возмещения вреда не засчитываются. Также не засчитывается в счет возмещения вреда заработок, получаемый потерпевшим после увечья»4. Это был продуманный законода- телем шаг – действие, имеющее гуманистическую ценность.
Стоит иметь в виду, что декларация, закрепленная в пункте 1 статьи 3 ГК РФ, согласно которой нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ, разбивается о принципы действия закона во времени. Это означает, что в ситуации выявленной конкуренции части 6 статьи 43 Закона о полиции и пункта 2 статьи 1085 ГК РФ действует норма Закона о полиции, предусматривающая зачет пенсии. Однако с точки зрения необходимости построения системного законодательства, а также существования общечеловеческих ценностей ставить полицейского, защищавшего интересы общества и потерявшего здоровье, в позицию, проигрышную по сравнению с иными гражданами, на наш взгляд, недопустимо. Если анализировать приведенную норму Закона о полиции с точки зрения справедливости, принимая во внимание различную степень тяжести травм, причиняемых служащим, и различные требования к здоровью разных категорий полицейских, можно прийти к выводу о ее крайней неоднозначности.
Право на получение возмещения возникает у полицейского при условии «увечья или иного повреждения здоровья, исключающего возможность дальнейшего прохождения службы в полиции». Возникает закономерный вопрос: как быть, если повреждение здоровья повлекло невозможность прохождения службы в должности, которую занимал сотрудник полиции (например офицер подразделения специального назначения), но не повлекло невозможность продолжения службы в полиции в другой должности (например участкового уполномоченного)? Иными словами, можно ли рассматривать заключение военноврачебной комиссии об ограниченной годности полицейского к службе как осно- вание возмещения вреда, причиненного здоровью.
Если исходить из буквального смысла нормы, то сотрудник полиции должен потерять возможность проходиться службу в полиции как таковую, а не в определенной должности. Однако при анализе нормы не следует забывать о содержании части 1 статьи 37 Конституции Российской Федерации: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Отсюда вывод: сотрудник полиции вправе согласиться проходить службу в иной должности, но не обязан делать этого. На наш взгляд, в контексте принципа свободы труда норма части 6 статьи 43 Закона о полиции будет иметь только одно верное толкование: отсутствие возможности проходить службу в той должности, которую занимал сотрудник полиции, влечет необходимость возместить весь утраченный заработок. Однако гарантировать такое толкование закона в правоприменительной практике конечно же нельзя.
Существующий процентный способ определения степени утраты трудоспособности (ст. 1086 ГК РФ) проверен многими десятилетиями, и его использование не является случайным в отечественной правовой системе. Отношение к установленному законом способу определения размера утраченного заработка как к конкретизации норм об убытках четко прослеживается в отечественной юриспруденции5. Подход законодателя к условиям возмещения вреда, закрепленный в Законе о полиции, в этом смысле является далеко не однозначным.
Действительно, относительно незначительное повреждение здоровья, не повлек- шее инвалидность гражданина, но исключившее возможность проходить службу в полиции, влечет обязанность возместить причиненный вред «в размере утраченного денежного довольствия по состоянию на день увольнения со службы в полиции», то есть весь заработок полицейского. Такой гражданин, скорее всего, продолжит трудовую деятельность, например, работая по трудовому договору, будет иметь возможность содержать себя и свою семью. Однако полицейский, получивший при исполнении служебных обязанностей такие травмы, которые стали причины тяжелой инвалидности, фактически имеет право на то же денежное довольствие, поскольку пенсия по инвалидности зачитывается при расчете компенсации. Несправедливость такого положения просто очевидна.
Предвидя возможные контраргументы, согласно которым жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел также получают страховую защиту в рамках обязательного государственного страхования6, отмечу, что соответствующие выплаты имеют единовременный характер и не способны обеспечить материальную поддержку человеку, лишившемуся заработка.
Третья проблема – спорный подход законодателя к формулировке нормы о возможности взыскания с сотрудника полиции средств на его обучение.
Пунктом 6 статьи 38 Закона «О полиции» предусмотрены имущественные санкции для граждан Российской Федерации:
-
1) отчисленных из образовательных учреждений высшего профессионального образования системы МВД России за недисциплинированность и неуспеваемость;
-
2) отказавшихся выполнять условия контракта о прохождении службы в полиции после окончания образовательного учреждения системы МВД России;
-
3) уволенных со службы в полиции до окончания срока службы, предусмотренного контрактом о прохождении службы в полиции, по «отрицательным» основаниям.
Как указал законодатель, в этом случае указанные граждане «возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их обучение», причем размер возмещаемых средств и порядок его исчисления должны быть установлены Правительством Российской Федерации.
Отдельного внимания требует сама природа обязанности проходить службу в связи с получением специального образования в вузе системы МВД России. Такая обязанность имеет договорную природу, является имущественной, но при этом не является гражданско-правовой. В ней не просматриваются возмездно-эквивалентные начала, поскольку будущий работодатель (в широком смысле слова), то есть орган внутренних дел, заключая контракт о службе с курсантом, направляемым на обучение, не оплачивает собственно обучение.
Стремление создать высокопрофессиональное ядро полицейских с профильным высшим образованием само по себе заслуживает поддержки, и конечно же ситуация, когда, получив специальное образование, гражданин отказывается выполнять свои обязательства, вытекающие из контракта, не может считаться нормой. Однако содержание федерального закона не должно входить в противоречие с нормами Конституции Российской Федерации, частью 3 статьи 43 которой установлено, что «Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии». Поскольку поступление в вузы системы МВД России осуществляется по конкурсу, возникает закономерный вопрос: можно ли говорить о бесплатности высшего образования, если ты должен возместить его стоимость при увольнении со службы в полиции? Ответ однозначен: нет.
На наш взгляд, норма части 3 статьи 43 Закона о полиции должна предусматривать возмещение только выплаченного курсанту (слушателю) за период обучения денежного довольствия. Такой санкции достаточно для того, чтобы имущественно стимулировать гражданина к добросовестному исполнению обязательств, принятых при заключении контракта о службе, не нарушая при этом конституционного права на бесплатное высшее образование.
Сказанное о закрепленных в Законе о полиции нормах, регулирующих имущественные отношения, позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования проанализированного нормативного правового акта. Его содержание является убедительным свидетельством необходимости проводить анализ законопроектов, в целом относящихся в сфере публичного права, на предмет соответствия существующим нормам и догмам частного права.