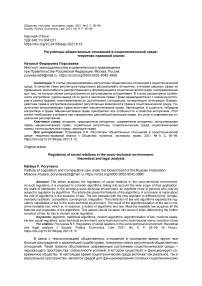Регуляторы общественных отношений в социотехнической среде: теоретико-правовой анализ
Автор: Порываева Наталья Федоровна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 8, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы регуляторы общественных отношений в социотехнической среде. В качестве таких регуляторов предложено рассматривать алгоритмы, учитывая широкую сферу их применения, масштабность распространения в формирующейся социотехнической среде, неопределенный круг лиц, на которых может распространяться регулирование алгоритмами. В статье рассмотрены особенности алгоритмов. Сделан вывод о роли регуляторов в эволюции права. Право взаимодействует с новым регулятором в разных формах: комплементарности (дополнения), конкуренции, конвергенции, интеграции. Взаимодействие права и алгоритмов расширяет регуляторные возможности права в социотехнической среде. Результатом алгоритмизации права выступает машиночитаемое право, являющееся, в сущности, гибридом алгоритмов и права. Машиночитаемое право приобретает все особенности и свойства алгоритмов. Этот аспект необходимо учитывать при определении дальнейшей эволюции права, его роли в современном социальном регулировании.
Алгоритм, традиционные алгоритмы, современные алгоритмы, алгоритмизация права, машиночитаемое право, социальные регуляторы, социотехническая среда, социотехнические нормы, техносоциальные нормы, эволюция права
Короткий адрес: https://sciup.org/149137191
IDR: 149137191 | УДК: 340.11+004.021 | DOI: 10.24158/pep.2021.8.15
Текст научной статьи Регуляторы общественных отношений в социотехнической среде: теоретико-правовой анализ
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
В связи с технологизацией общественных отношений в последнее время звучит все больше рассуждений о дальнейшей судьбе права, появлении новых регуляторов общественных отношений. Такая тревога обусловлена современным состоянием социотехнической среды – окружающего пространства, совокупности условий, в котором существует и функционирует современное общество. В настоящее время социотехническая среда включает как реальное, так и виртуальное пространство, является средой для функционирования сложных социотехнических систем. Однако вопрос, что представляют собой новые регуляторы, в научной литературе, как правило, раскрывается недостаточно.
В этой связи следует обратить внимание на алгоритмы, конкретнее на современные алгоритмы (далее – алгоритмы) ∗ , исполнителем которых являются современные электронные вычислительные устройства. Алгоритм фактически представляет систему алгоритмов (алгоритмическую систему), состоящую из логических и вычислительных алгоритмов, которые могут быть рассредоточены по всей цепочке компонентов, представляющей тот или иной программный продукт. Именно алгоритмы структурируют процесс и определяют результат. Технологизация и вместе с ней алгоритмы проникают во все сферы общественной жизни. Исследователи отмечают, что наступает эпоха, когда алгоритмы фундаментально встроены в важнейшие процессы принятия решений в большинстве секторов общества, включая государственное управление, СМИ, здравоохранение и политику [1]. При этом отмечаются как положительные эффекты при применении алгоритмов, так и отрицательные [2], связанные прежде всего с такими свойствами алгоритмов, как закрытость (непрозрачность) и предвзятость (смещение) ∗∗ .
Алгоритм рассматривается современной наукой как социокультурный феномен. Алгоритмы являются объектом изучения разных наук, в том числе общественных (социогуманитар-ных). В научный дискурс введены понятия и изучаются феномены алгоритмического общества (algorithmic society) [3], алгоритмического регулирования (algorithmic regulation) [4], алгоритмического управления (algorithmic governance) [5], алгократии (algocracy) [6], алгоритмической справедливости (algorithmic fairness) [7], алгоритмической этики (algorithmic ethics) [8], алгоритмической культуры (algorithmic culture) [9].
Учитывая вышеизложенное, вполне закономерным является вопрос, чем же являются алгоритмы в регулировании современных общественных отношений? Регуляторным посредником? Модифицированным традиционным социальным регуляторам? Особой формой выражения социальных норм? Или новым социальным регулятором?
Следует отметить, что алгоритмы в общественных отношениях не только проектируют, конструируют или структурируют систему, но и трансформируют природу отношений. Алгоритмы, современные разработки в области данных (сбора, анализа, применения) меняют механизмы создания социального порядка, делая их более детализированными, агрессивными и мощными [10].
Регуляторные посредники же добавляют слой к двойным отношениям между регулятором и его целями, действуя совместно с регулятором [11]. К регуляторным посредникам относят технологии, субъекты частные, государственные [12].
Могут ли алгоритмы являться модифицированным традиционным регулятором, например, корпоративными нормами? В доктрине под корпоративными нормами подразумевают правила поведения, которые устанавливаются и обеспечиваются корпорациями (организациями) и регулируют общественные отношения между ее членами. Особенностью корпоративных норм является то, что они не могут выходить за рамки корпорации (организации) их установившей и распространяться на неопределенный круг лиц. Алгоритмы же демонстрируют такую возможность (в социотехнической среде). При этом алгоритмы, безусловно, могут включать как и корпоративные, так и другие социальные нормы.
Отмечая факт включения в алгоритм разных социальных норм, закономерным является вопрос о самостоятельности алгоритмов в качестве регулятора. Не являются ли они просто технологической формой традиционных регуляторов общественных отношений, таких как, например, право или корпоративные нормы?
В доктрине похожий вопрос возникает в отношении такого традиционного социального регулятора, как обычай. Существует мнение (С.И.Вильнянский, В.Н. Подкуйченко), что обычаи являются особой формой, в которой могут выражаться нормы различного содержания: религиозные, моральные, политические [13, с. 17]. Однако есть и другая точка зрения, так Н.Н. Вопленко отмечает: «Сам факт живучести обычаев и широкая сфера их применения подтверждают самостоятельное институциональное значение. Здесь наблюдается то сравнительно редкое явление,
∗ В самом общем виде алгоритм – это точное предписание о последовательности действий исполнителя (человека, электронного вычислительного устройства), направленных на достижение поставленных целей. Алгоритмы можно разделить на традиционные (исполнителем является человек) и современные (исполнителем являются вычислительные устройства). В научном дискурсе современные алгоритмы, как правило, именуются просто «алгоритмы», хотя по факту они представляют собой совокупность алгоритмов, необходимых для выполнения даже простой задачи. И чем сложнее задача, тем сложнее применяемые алгоритмы и тем больше и разнороднее их совокупность (логических, вычислительных). В связи с этим в научной литературе встречаются также такие понятия, как «алгоритмические системы» и «алгоритмические модели». ∗∗ Данные свойства алгоритмов можно отнести к негативным, труднопреодолимым. Также алгоритмы характеризуются детерминированностью, массовостью, дискретностью, эффективностью (позитивные свойства).
когда приоритет формы явления над его содержанием определяет его своеобразие и возможности функционального назначения» [14].
В отношении алгоритмов также можно отметить широкую сферу их применения, масштабность распространения в современной социотехнической среде, неопределенный круг лиц, на которых может распространяться регулирование алгоритмами. Технологические особенности алгоритмов также обуславливают их специфику, своеобразие и самостоятельное функциональное назначение.
Таким образом, учитывая признаки, свойства алгоритмов, массовость их применения и занимаемое положение в современных общественных отношениях, можно сделать вывод об алгоритмах как о регуляторе общественных отношений в социотехнической среде. Другими словами, появляется новый регулятор общественных отношений - алгоритм, признаки этого явления можно увидеть во всех технологически развитых странах. Технологизация общественной жизни и повсеместное применение вычислительных устройств позволили алгоритмам занять нишу регулятора общественных процессов в социотехнической среде.
Рассмотрим особенности алгоритмов , отличающие их от других регуляторов общественных отношений.
-
1. Алгоритмы действуют в социотехнической среде с развитым техническим и технологическим компонентом, т. е. должна быть развита соответствующая инфраструктура. Современные алгоритмы всегда функционируют только в социотехнической среде и прямо связаны с технологиями и техникой, зависимы от них.
-
2. Структура алгоритмов: алгоритм, направленный на социальное регулирование, содержит социальные нормы, а также в обязательном порядке включает технические нормы, без которых реализация такого алгоритма в технической среде не представляется возможной. Таким образом, алгоритмы включают нормы, регулирующие общественные отношения, технические нормы, реализации этих норм в цифровом пространстве, структуры данных.
-
3. Алгоритм является социотехническим регулятором общественных отношений.
Учитывая вышеизложенное, в нормативном регулировании можно выделить:
-
- техносоциальные нормы - технические нормы, реализация которых в социуме обусловлена социальными нормами;
-
- социотехнические нормы - социальные нормы, представленные в машиночитаемом виде, реализация которых в социотехнической среде обусловлена техническими нормами.
-
4. Алгоритмы нормативны, однако, связываясь с большими данными и действуя в отношении конкретного субъекта, нормативность алгоритмов сочетается с казуальностью. Таким образом, алгоритмы являются нормативно-казуальными регуляторами.
-
5. Техническая сложность алгоритмов, которая заключается в том числе и в расположении алгоритма: он может быть расположен не только внутри определенного участка кода, но даже не в пределах одного компьютера или сети одной организации [15].
-
6. Свойства алгоритмов:
-
- закрытость (непрозрачность) - алгоритмы являются своеобразным «черным ящиком», затрудняющим интерпретацию получаемых результатов. Такая закрытость обусловлена, с одной стороны, тайной, охраняемой законом, с другой - сложностью алгоритмов и необходимостью наличия специальных знаний для их интерпретации и работы с ними. Постоянное и стремительное появление новых версий, экспоненциальная сложность алгоритмических архитектур и не уменьшаемая автономность алгоритмов - явления, которые препятствуют эффективной оценке алгоритмов [16];
-
- предвзятость (смещение) - из-за предвзятости входных данных алгоритмические модели могут научиться принимать аналогичное дискриминационное отношение [17].
Закрытость и предвзятость можно отнести к негативным свойствам современных алгоритмов, которые трудно преодолеть. Вопрос создания механизмов, позволяющих это осуществить, остро стоит перед исследователями. То, как следует проводить «аудиты алгоритмов», все еще остается открытым вопросом и областью активных исследований [18].
Алгоритмы играют существенную роль в эволюции права. Право взаимодействует с новым регулятором в разных формах: комплементарности (дополнения), конкуренции, конвергенции, интеграции. Взаимодействие права и алгоритмов в вышеперечисленных формах расширяет регуляторные возможности права в социотехнической среде.
Алгоритмизация общественных отношений создает все предпосылки для модификации права как социального регулятора в регулятор социотехнический.
Результатом алгоритмизации права выступает машиночитаемое право – совокупность машиночитаемых правовых норм, санкционированных государством. Машиночитаемое право, являющееся, в сущности, гибридом алгоритмов и права, можно отнести наряду с алгоритмами к новым регуляторам общественных отношений в социотехнической среде. Указанный выше акцент на определении машиночитаемых норм как санкционированных государством очень важен, т. к. наблюдаемая тенденция алгоритмизации правовых норм в отсутствие правотворческих процедур и стандартов, регламентирующих перевод правовых норм в машиночитаемый вид, по своей сути является алгоритмизацией правовых знаний.
Машиночитаемое право в последнее время активно исследуется в российской научной среде. Исследованию подлежит обширный круг вопросов [19]. На государственном уровне машиночитаемое право изучается в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В настоящее время в инновационном центре «Сколково» разработана Концепция развития технологий машиночитаемого права [20], направленная на обсуждение в Министерство экономического развития РФ. Машиночитаемое право становится предметом обсуждения широкого круга специалистов. Так, вопросы права, алгоритмов, машиночитаемого права стали предметом дискуссии на сессии, организованной в мае 2021 г. в рамках Петербургского международного юридического форума 9 ¾ [21].
Следует отметить, что машиночитаемое право приобретает все особенности и свойства алгоритмов, указанные выше. Данный аспект необходимо учитывать при определении дальнейшей эволюции права, его роли в современном социальном регулировании, при прогнозировании рисков применения машиночитаемого права. Это имеет важное значение, поскольку процесс алгоритмизации может оказать существенное влияние на право в целом: затронуть его принципы, изменить сложившиеся модели правотворчества, правового регулирования, правопонимания, толкования. Каковы риски и последствия трансформации права под воздействием технологической составляющей социотехнической среды для человека, необходимо исследовать на примере изучения алгоритма как социокультурного феномена.
Список литературы Регуляторы общественных отношений в социотехнической среде: теоретико-правовой анализ
- См.: Gran A.B., Booth P., Bucher T. To be or not to be algorithm aware: A question of a new digital divide? // Information, Communication & Society. 2020. P. 1–18. https://doi.org/10.1080/1369118x.2020.1736124.
- См., например: Fair, transparent, and accountable algorithmic decision-making processes / B. Lepri [et al.] // Philosophy & Technology. 2018. Vol. 31, iss. 4. P. 611–627. https://doi.org/10.1007/s13347-017-0279-x.
- Balkin J.M. Free speech in the algorithmic society: Big Data, private governance, and new school speech regulation // UC Davis Law Review. 2017. Vol. 51, iss. 3. P. 1149–1210.
- См., например: Algorithmic regulation / ed. by K. Yeung, M. Lodge. N.Y., 2019. 304 p.; Algorithmic regulation and personalized law : A handbook / ed. by C. Busch, A. De Franceschi. N.Y., 2021. 292 p.; Cristianini N., Scantamburlo T. On social machines for algorithmic regulation // AI & Society. 2020. Vol. 35, iss. 3. P. 645–662. https://doi.org/10.1007/s00146-019-00917-8; Eyert F., Irgmaier F., Ulbricht L. Extending the framework of algorithmic regulation. The Uber case // Regulation & Governance. 2020. https://doi.org/10.1111/rego.12371; Hildebrandt M. Algorithmic regulation and the rule of law // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2018. Vol. 376, iss. 2128. https://doi.org/10.1098/rsta.2017.0355; O’Reilly T. Open data and algorithmic regulation // Beyond transparency: Open data and the future of civic innovation. 2013. Vol. 21. P. 289–300.
- См., например: D’Agostino M., Durante M. Introduction: The governance of algorithms // Philosophy & Technology. 2018.Vol. 31, iss. 4. P. 499–505. https://doi.org/10.1007/s13347-018-0337-z; Gritsenko D., Wood M. Algorithmic governance: A modes of governance approach // Regulation & Governance. 2020. https://doi.org/10.1111/rego.12367; König P. D. Dissecting the algorithmic leviathan: On the socio-political anatomy of algorithmic governance // Philosophy & Technology. 2019. Vol. 33, iss. 3. P. 467–485. https://doi.org/10.1007/s13347-019-00363-w.
- См., например: Tagiew R. Roadmap to algocracy – a feasibility study // SSRN. 2020. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3650010.
- См., например: Venkatasubramanian S. Algorithmic fairness: Measures, methods and representations // PODS’19: Proceedings of the 38th ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI Symposium on Principles of Database Systems. https://doi.org/10.1145/3294052.3322192; Wong P.H. Democratizing algorithmic fairness // Philosophy & Technology. 2020. Vol. 33, iss. 2. P. 225–244. https://doi.org/10.1007/s13347-019-00355-w.
- См., например: The ethics of algorithms: Key problems and solutions / A. Tsamados [et al.] // AI & SOCIETY. 2021. P. 1–16. https://doi.org/10.1007/s00146-021-01154-8.
- См., например: Roberge J., Seyfert R. What are algorithmic cultures? // Algorithmic cultures. Routledge, 2016. P. 13–37.
- Zuboff S. The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. N.Y., 2019. 704 p.
- См. Di Porto F., Zuppetta M. Co-regulating algorithmic disclosure for digital platforms // Policy and Society. 2020. Vol. 40, iss. 2. P. 272–293. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1809052
- Ibid.
- Цит. по: Вопленко Н.Н. Право в системе социальных норм. Волгоград, 2003. 86 c.
- Там же. С. 17.
- Dourish P. Algorithms and their others: Algorithmic culture in context // Big Data & Society. 2016. Vol. 3, iss. 2. https://doi.org/10.1177/2053951716665128.
- Kemper J., Kolkman D. Transparent to whom? No algorithmic accountability without a critical audience // Information, Communication & Society. 2019. Vol. 22, iss. 14. P. 2081–2096. https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1477967.
- См., например: Caliskan A., Bryson J.J., Narayanan A. Semantics derived automatically from language corpora contain human-like biases // Science. 2017. Vol. 356, iss. 6334. P. 183–186. https://doi.org/10.1126/science.aal4230; Kemper J., Kolkman D. Op. cit.
- Brown S., Davidovic J., Hasan A. The algorithm audit: Scoring the algorithms that score us // Big Data & Society. 2021. Vol. 8, iss. 1. https://doi.org/10.1177/2053951720983865.
- Вашкевич А.М. Машиночитаемое право: право как электричество. М., 2019. 256 с.; Понкин И.В. Концепт машиночитаемого и машиноисполняемого права: актуальность, назначение, место в РегТехе, содержание, онтология и перспективы // International Journal of Open Information Technologies. 2020. Т. 8, № 9. С. 59–69; Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Будущее права. Наследие академика В.С. Стёпина и юридическая наука. М., 2020. 176 с. https://doi.org/10.12737/1112960.
- Концепция развития технологий машиночитаемого права (редакция проекта Концепции с учетом замечаний Рабочей группы, версия от 29 марта 2021 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Фонда «Сколково». URL: https://sk.ru/legal/automation-of-law/ (дата обращения: 17.08.2021).
- Петербургский Международный Юридический Форум 9 ¾. Дискуссионная сессия «Машиночитаемое право: помощь или хайп?» [Электронный ресурс] // Дайджест Петербургского Международного Юридического Форума. URL: https://spblegalforum.ru/ru/channel/4 (дата обращения: 17.08.2021).