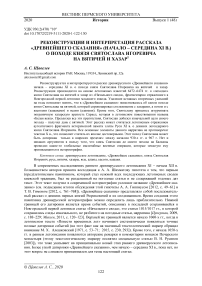Реконструкции и интерпретация рассказа "древнейшего сказания" (начало - середина XI в.) о походе князя Святослава Игоревича на вятичей и хазар
Автор: Щавелев Алексей Сергеевич
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Письмо и книжность раннего Средневековья: Византия, Русь, Исландия
Статья в выпуске: 1 (48), 2020 года.
Бесплатный доступ
Реконструируется и интерпретируется рассказ древнерусского «Древнейшего сказания» начала - середины XI в. о походе князя Святослава Игоревича на вятичей и хазар. Реконструкция производится на основе летописных известий 6472-6474 гг. о «походах» князя Святослава на вятичей и хазар из «Начального свода», фрагментарно отраженного в Новгородской первой летописи младшего извода. Удаление вставных вторичных указаний на годы позволяет понять, что в «Древнейшем сказании» повествовалось об одном походе князя Святослава на вятичей, который спровоцировал столкновение с хазарами, а потом и с касогами (кашаками) и ясами (аланами). Кроме того, Святославу пришлось штурмовать пограничную хазарскую крепость Саркел, которая в летописном повествовании названа «Белая вежа». Преодолев все эти препятствия, Святослав добился изначальной цели своего похода - получил дань с вятичей. Этот рассказ может считаться летописным отражением аутентичного фрагмента исторической памяти элиты Руси XI в. о деяниях легендарного князя Святослава Игоревича. Все основные элементы данного нарратива не противоречат текстам X в., что позволяет считать их вполне достоверными. Этот поход Святослава может быть датирован только в широких пределах: между началом 930-х гг. и 967 г. Нет и никаких аргументов в пользу того, что князь Святослав до своего похода на Балканы проводил какие-то глобальные масштабные военные операции, которые зачастую ему приписываются в историографии.
Древнерусское летописание, "древнейшее сказание", князь святослав игоревич, русь, вятичи, хазары, ясы, аланы, касоги, кашаки
Короткий адрес: https://sciup.org/147246285
IDR: 147246285 | УДК: 930.2(470) | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-1-122-130
Текст научной статьи Реконструкции и интерпретация рассказа "древнейшего сказания" (начало - середина XI в.) о походе князя Святослава Игоревича на вятичей и хазар
Реконструкция описаний деяний первых князей Рюриковичей в X в. в «Древнейшем сказании» вполне осуществима методами текстологии и лингвистики. В тексте Новгородской первой летописи младшего извода, отразившей предшествующий «Повести временных лет» «Начальный свод», после удаления указаний на годы и еще ряда вставок «проступает» изначальный связный рассказ о том или ином событии X в. [ Бахрушин, 1987; Гиппиус, 2001, 2011; Стефанович, 2008, 2012; Цукерман, 2009]. Еще в начале XX в. М. Д. Приселков и С. В. Бахрушин подчеркивали, что при исследовании политии Рюриковичей X в. основным древнерусским источником должен быть не текст «Повести временных лет» начала XII в., и даже не фрагменты более раннего «Начального свода», а реконструируемый текст «Древнейшего сказания», который является самой ранней фиксацией коллективной памяти о прошлом у элиты Руси XI в. [ Приселков, 2003, c. 12–13, 21–24; Бахрушин, 1987, c. 24–29].
Летописные известия «Начального свода» 6472–6474 гг. о «походах» князя Святослава Игоревича на вятичей и хазар (ПСРЛ, т. 3, стб. 117; PVL, pt. 1, p. 427–430) до сих пор практически не рассматривались с точки зрения того, как мог выглядеть этот текст в первоначальном, не разбитом на годы, нарративе (значимое исключение составляют исследования А. А. Шахматова [2002, c. 96–98, 288–289, 321, 367]). В историографии же данный текст чаще всего понимался как рассказ о нескольких военных кампаниях Святослава Игоревича, которые происходили одна за другой (см. последние работы на эту тему [ Коновалова, 2000; Калинина, 2015, с. 235–247]). Такое восприятие – не более чем следствие того факта, что этот рассказ был разбит на погодные статьи и в «Начальном своде», и в «Повести временных лет». Между тем обозначения годов являются вторичной интрузией в изначальный связанный текст, о чем обоснованно писал уже А. А. Шахматов [ Шахматов, 2002, с. 96–97]. Если же из текста «Начального свода» удалить указания на 6472, 6473, 6474, 6475 гг., то, как и во многих других случаях, «проявляется» последовательный нарратив лишь об одном походе князя Святослава . Это радикально меняет смысл текста, который оказывается рассказом об одном-единственном его военном предприятии со своей внутренней логикой развития событий.
Первоначальный текст «Древнейшего сказания» может быть реконструирован следующим образом:
«Князю Святославу възрастъшю и возмужавшю, нача вои совокупляти многы {и} храбры <…>. И иде на Оку рѣку и на Волгу. И налѣзе Вятици и рече Вятицемъ: “Кому дань даете”. Они же рѣша: “Козаромъ по щьлягу от рала даемъ”. Иде Святославъ на Козары. Слышавши же Козары изидоша противу съ княземъ своимъ каганомъ и съступиша ся битъ. И бысть брань. И одолѣ Святославъ Козаромъ и градъ ихъ Бѣлу вежy взя. И Ясы побѣди и Касогы и приведе Кыеву . Побѣди Святославъ Вятицевъ и дань на них возложи» (ПСРЛ, т. 3, 117; PVL, pt. 1, p. 420–432).
Единственную трудность в реконструкции этого текста представляет выделенный мной курсивом элемент текста «и приведе Кыеву», который преждевременно завершает историю войны, хотя потом идет «финал» военной кампании – победа над вятичами и возложение на них дани, что и было заявлено в начале рассказа в качестве цели похода князя Святослава. Эта фраза есть только в списках Новгородской первой летописи младшего извода. В Ипатьевском и Хлебниковском списках «Повести временных лет» читается явно вторичное «И приде къ Киеву» (PVL, pt. 1, p. 340), а в остальных ее списках и в Новгородской Карамзинской летописи (ПСРЛ, т. 42, с. 39), сохраняющей многие аутентичные чтения раннего летописания, никакой добавочной фразы нет. Скорее всего, уточнение «и приведе Кыеву» возникло в тексте «Начального свода» как связка для дополнительного обоснования раскладки «походов» Святослава по годам. Не исключено также, что это может быть не слишком удачно вставленная в текст маргиналия. Однако, возможно, это просто отражение воспоминания людей XI в. о том, что в X в. Святослав привел в Киев экзотических пленных. Тогда получается, что в тексте подчеркивается, что пленные ясы и касоги были приведены в Киев, а побежденные вятичи остались на своем месте и стали платить дань.
Еще один спорный момент реконструкции изначального текста «Древнейшего сказания» – упоминание ясов и касогов. Фразу «…И Ясы побѣди и Касогы…» А. А. Шахматов считал вставкой в тексте «Древнейшего сказания», которую он приписывал игумену Печерского монастыря Никону Великому, долгое время жившему в Тмуторокани [ Шахматов, 2002, с. 238–239].
На самом деле касоги были хорошо известны и в Киеве [ Зализняк, 2004, с. 256–257], поэтому о них мог написать любой из киевских летописцев. Следует обратить внимание на то, что это единственное упоминание в раннем летописании ясов и касогов совместно. Во всех его известиях встречаются только касоги, а ясы упоминаются в летописях только в начале XII в. [ Але-мань, 2003, с. 488–497], поэтому у автора «Начального свода» не было образца, по которому можно было составить сообщение о ясах и касогах и добавить его в текст «Древнейшего сказания». Считать данное указание на два народа вставкой в текст «Древнейшего сказания» веских оснований нет, это вполне органичная часть повествования.
В тексте о походе князя Святослава есть несколько признаков, характерных для стилистики «Древнейшего сказания», которое было основано на устных рассказах о прошлом и сохраняло некоторые архаичные языковые особенности. Во-первых, действия и характеристики протагониста Святослава и других героев перечисляются при помощи союза «и»; во-вторых, используется «старая» форма аориста «рѣша»; в-третьих, встречаются плеонастические пары эпитетов (эти признаки выявлены А. А. Гиппиусом [2001, 2009]); в-четвертых, фиксируется препозитивное употребление частицы «ся» [ Введенский, 2008].
Структура рассказа типична для описания деятельности первых Рюриковичей: сбор войск и поход, нахождение некой общности (в данном случае – вятичей), диалог с рэкетируемой общностью о необходимости выплатить дань, битва или иные силовые действия и, наконец, победа и выплата требуемой дани [ Мельникова, 2005, c. 112–113]. Самой близкой по структуре к рассказу о походе Святослава является ключевая для «Древнейшего сказания» история о захвате отцом Святослава князем Игорем и его воеводой Олегом Киева (ПСРЛ, т. 3, с. 107; PVL, pt. 1, p. 120–129). Все базовые эпизоды этих двух рассказов совпадают. Князь Игорь взрослеет («и взъзрастъшю же ему»), точно так же становится взрослым его сын Святослав (который, «възрастъшю и возмужавшю»). Игорь оказывается «храборъ и мудръ», а Святослав собирает воинов, которые были «многы {и} храбры». Игорь и Олег отправляются в поход «и налѣзоста Днѣпръ рѣку», точно так же Святослав отправляется «на Оку рѣку и на Волгу». Затем Игорь и Олег находят Киев и интересуется (в тексте не уточнено, кому именно задается вопрос, но ясно, что местным жителям), кто в нем княжит, точно так же Святослав выясняет у вятичей, кто с них берет дань. Узнав, кто контролирует данные территории, Игорь и Олег вызывают на разговор княжащих в Киеве Аскольда и Дира, а Святослав идет войной на берущих дань с вятичей хазар. Убийство Аскольда и Дира делает Игоря князем Киева, а разгром хазар во главе с их «князем-каганом» позволяет Святославу сделать вятичей своими данниками. Таким образом, в «Древнейшем сказании» начало военных карьер Игоря и его сына Святослава описано вполне стереотипно.
Прочтение текста о победе князя Святослава Игоревича над вятичами и хазарами как связанного рассказа об одном событии совершенно меняет его историческую интерпретацию. Прежде всего, если не использовать вторичные искусственные годовые датировки, то никак нельзя установить дату похода. Понятно только, что это произошло до июня 967 г., когда к Святославу Игоревичу прибыл сын протевона Херсона Калокир и предложил ему отправиться в военную экспедицию на Балканы [ Карышковский, 1952, с. 132]. Самое ранее упоминание Святослава в договоре его отца Игоря Рюриковича с византийскими императорами имеет только широкую датировку: между августом 931 и серединой декабря 944 г. [ Щавелев, 2018, c. 355– 359]. Таким образом, данный поход должен был произойти в период между началом 930-х и почти концом 960-х гг. Связывать поход князя Святослава с фатальными нападениями на Хаза-рию русов и тюрок, которые описаны в арабских источниках [ Калинина, 2015, с. 235–247; Коновалова, 2000, с. 226–235] и которые были причиной падения этой политии, невозможно (об этом справедливо писал А. П. Новосельцев [1990, с. 220, 225]). По данным арабского географа и купца Ибн Хаукала, нападение русов на хазарский город Самандар произошло в 358 г. хиджры, т. е. между 25 ноября 968 и 13 ноября 969 г. [ Коновалова, 2000, с. 229; Калинина, 2015, с. 237]. В это время Святослав Игоревич уже был занят военной кампанией на Балканах. Нападение на хазар, о котором повествует Ибн Хаукал, было совершено группой (политией?) руси, не связанной с политией Рюриковичей в Киеве [ Мошин, 1933, с. 187–208], или каким-то другим князем из рода Рюриковичей.
Несмотря на то что летописная хронология «походов» Святослава является явно искусственным конструктом летописцев, сам по себе рассказ о походе князя Святослава Игоревича содержит ряд деталей, историческую достоверность которых можно проверить по параллельным источникам. Согласно византийскому трактату «Об управлении империей» императора Константина VII Багрянородного князь Святослав (в тексте Σφενδοσθλάβος), сын Игоря (в тексте Ἴγγωρ), правил в городе под названием «Νεμογαρδάς» (DAI, vol. 1, p. 56). Вполне очевидно, что славянское название этого города было ««*Новъградъ» (DAI, vol. 2, p. 26–27). Возможны два варианта отождествления этого «Новгорода» середины X в.: Новгород на Волхове и Новгород (-Северский) на Десне. Поскольку остальные достоверно идентифицированные и локализованные поселения народа росов, которые упоминаются в трактате, расположены на Днепре и его притоках, наиболее вероятный вариант локализации поселения «Νεμογαρδάς» – Новгород-Северский на притоке Днепра реке Десне. Кроме того, в трактате указано, что росы Киева собирали дань со славянского народа «οἱ Σευερίοι / οἱ Σευέριοι», т. е. «северов-северян» (DAI, vol. 1, p. 62; vol. 2, p. 61.), а Новгород-Северский как раз был крупным городским центром на периферии их территории. Наконец, земля народа северов-северян находилась на границе со степью и поэтому испытывала этнокультурное влияние мира номадов. А согласно описанию в «Истории» Льва Диакона из Калоэ (написана после 13 мая 994 г.) у Святослава (в тексте Σφενδοσλάβος или Σφενδοσθλάβος) был облик, похожий на облик знатного степняка: «…с головой же совсем голой, на одной же стороне ее локон (этимологически точнее: «вьющийся локон» или «завитая прядь», возможно, косичка? – А. Щ. ) – рода признак благородного…» (перевод мой. – А. Щ. ) [ Καραλῖς, 2000, σ. 366]. Если Святослав Игоревич правил в Новгороде-Северском и собирал дань с народа северов-северян, то вятичи должны были стать самым естественным объектом его нападения. Общности северов-северян и вятичей находились по соседству и были носителями общих традиций материальной и духовной культуры. Обе общности сформировались на территории распространения роменской археологической культуры [ Григорьев, 2000]. На этом основании я считаю, что Новгород-Северский является самым вероятным вариантом места правления Святослава Игоревича.
Вполне возможно, что, напав на вятичей, Святослав вторгся в область влияния Хазарии, что и повлекло за собой его столкновение с этой политией. Причем он атаковал только город «Белую вежу», т. е. «Саркел» [ Новосельцев, 1990, с. 109–110, 131–133]. Это была пограничная крепость хазар, одна из функций которой заключалась в контроле над территориями подчиненных славянских народов левобережья Днепра [ Щавелев, 2014]. Атака на Саркел в данном случае была самым очевидным тактическим решением в борьбе за дань с территории вятичей.
Последующее столкновение князя Святослава с ясами и касогами объяснить сложнее. Очевидно, что речь идет о народах «аланы» и «кашаки» (известен арабский этникон: «kšk / kāsāḳ, а греческое название страны было «Κασαχία» (DAI. vol. 1, p. 70, 182, 186; vol. 2., p. 156; Minorsky, 1958, p. 115, 134, 144, 157–158]). Считать, что эти два народа обитали в окрестностях Саркела на Дону (как, например, предположил об аланах А. П. Новосельцев [1990, с. 105]), веских оснований нет. Ни один источник не помещает кашаков-касогов на Дону или в Подонье. За единственным спорным исключением [ Алемань, 2003, с. 492–493], нет данных и об обитании в районе Саркела аланов-ясов. Между тем страны Касахия и Алания достоверно локализованы южнее, в регионе восточного Причерноморья, на Кавказе (DAI, vol. 1, p. 182, 186; vol. 2, p. 156) [ Minorski, 1958, p. 142–165]. Получается, что либо войска этих двух народов выдвинулись к Саркелу с юга на помощь хазарам, либо Святослав Игоревич пошел войной на юг к их территориям. Оба этих варианта равно возможны. Логистическая допустимость маршрута военной экспедиции от Алании до Саркела подтверждается трактатом «Об управлении империей», в котором сказано, что правитель (эксусиократор) Алании может нападать на хазар на подходах « к Саркелу , к Климатам и к Херсону» (DAI, vol. 1, p. 64).
В итоге получается, что согласно «Древнейшему сказанию» князь Святослав Игоревич совершил поход на вятичей, которые платили дань хазарам. Чтобы получить дань с вятичей, Святослав напал на доминирующих на их территории хазар и штурмовал пограничную хазарскую крепость Саркел. Затем он победоносно воевал с народами кашаков-касогов и аланов-ясов. Одержав эти победы, Святослав добился изначальной цели своего похода – получил дань с вятичей. Логистика этого похода Святослава на вятичей и хазар прямо или косвенно под- тверждается текстами X в., и ни один из элементов текста «Древнейшего сказания» с данными синхронных этому походу источников не вступает в непримиримое противоречие.
Таким образом, можно полагать, что «Древнейшее сказание» начала – середины XI в. зафиксировало фрагмент аутентичной исторической памяти древнерусской элиты о единственном походе князя Святослава Игоревича на вятичей, который состоялся в период между началом 930-х гг. и июнем 967 г., в ходе которого произошло столкновение с хазарами, из которого он вышел победителем. На наш взгляд, явных поводов для сомнений в достоверности основных элементов этого рассказа из «Древнейшего сказания» нет. Однако, повторим, нет и оснований воссоздавать на основе годовых статей «Начального свода» и «Повести временных лет» серию «эпических» походов князя Святослава, в результате которых якобы была уничтожена Хазария, а князьям Рюриковичам в Киеве были подчинены огромные территории.
Список литературы Реконструкции и интерпретация рассказа "древнейшего сказания" (начало - середина XI в.) о походе князя Святослава Игоревича на вятичей и хазар
- Алемань А. Аланы в древних и средневековых источниках. М.: Менеджер, 2003. 604 c.
- Алешковский М. Х. Повесть временных лет. Из истории создания и редакционной переработки. М.: Весь мир, 2015. 312 с.
- Алешковский М. Х. Повесть временных лет. Судьба литературного произведения в Древней Руси. М.: Наука, 1971. 136 с.
- Бахрушин С. В. К вопросу о достоверности Начального свода // Бахрушин С. В. Труды по источниковедению, историографии и истории эпохи феодализма (Научное наследие). М.: Наука, 1987. 217 с.
- Введенский А. М. Расположение энклитики "ся" как лингвистический критерий выявления источников устного происхождения в тексте ПВЛ // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 4 (34). С. 50-56.