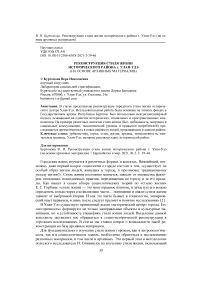Реконструкция стиля жизни исторического района г. Улан-Удэ (на основе архивных материалов)
Автор: Буртонова Вера Николаевна
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
. В статье представлена реконструкция городского стиля жизни исторического центра Улан-Удэ. Исследовательская работа была основана на личных фондах в Государственном архиве Республики Бурятия. Был использован междисциплинарный подход, основанный на единстве исторических, социальных и пространственных компонентов. На примере различных аспектов стиля жизни (быт, мобильность, миграция и социальные коммуникации, экономический уровень и привычки потребителей) прослеживается преемственность в повседневности людей, проживающих в данном районе.
Урбанистика, город, стиль жизни, архивы, повседневность, ментальные границы, улан-удэ, история, реконструкция, исторический район
Короткий адрес: https://sciup.org/148323519
IDR: 148323519 | УДК: 930(571.54) | DOI: 10.18101/2306-630X-2021-2-39-46
Текст научной статьи Реконструкция стиля жизни исторического района г. Улан-Удэ (на основе архивных материалов)
Буртонова В. Н. Реконструкция стиля жизни исторического района г. Улан-Удэ (на основе архивных материалов) // Евразийство и мир. 2021. № 2. С. 39–46.
Городская жизнь изучается в различных формах и аспектах. Важнейший, возможно, даже первый вопрос социологии о городе состоит в том, «существует ли особый образ жизни людей, живущих в городе, в противовес традиционному укладу жизни?». Стиль жизни постоянно меняется, зависит от множества факторов, поведения, повседневных практик, передвижения по городу и за его пределы. Как пишет в своем обзоре социологических теорий по «стилю жизни» Е. С. Горбань: «стиль жизни — это многогранное понятие, и зачастую его можно определить только через составляющие части… понимание и анализ стиля жизни зависит от выбранной теории. И как это часто бывает в социологии, эмпирический опыт первичен, и лишь после следует предмет и понятие исследования» [2].
В Улан-Удэ существует признанный всеми «исторический центр» города. Его «историчность» формируют не только материальные объекты и культурные памятники, но и устойчивость специфики стиля жизни людей. Выделение данной константы заставляет нас обращаться к социо-исторической реконструкции в городских исследованиях. В статье мы ставим вопрос о возможности такой реконструкции на базе архивных материалов.
Для фундаментального изучения стиля жизни горожан, как в антропологическом, так и в социологическом планах, необходимо обратиться к исследованию различных материалов, в том числе и архивных. Это первый этап в методологии польского исследователя И. Оливински по изучению стиля жизни, включающий в себя аналитическую работу с существующими данными: описание образа этого района в архивных документах, СМИ, административных и туристических брошюрах [5, с. 34]. В рамках нашего исследования интересна повседневная, внутренняя жизнь горожан, следовательно, в первую очередь необходимо анализировать архивные материалы личных фондов (воспоминания, дневники, письма и пр.). Все это позволит проследить развитие базовых тенденций в стиле жизни людей, существовавших в исторической части города Улан-Удэ.
Улан-Удэ не многим более 350 лет (годом основания считается 1666 г.), при этом резкий скачок в развитии и расширении городских территорий произошел после строительства железной дороги (начало XX в.), а основная застройка появилась во времена СССР. Территория исторического центра сохраняла свое ведущее положение как в административном, так и в символическом плане на протяжении всей истории города. Определение идентичности исторического места позволяет понять специфику города Улан-Удэ. Сформированный в городском посаде, особый стиль жизни постоянно воспроизводился в различные исторические периоды среди жителей данного района. Обратившись к архивным источникам, мы сможем реконструировать стиль жизни людей с точки зрения определения границы «исторического города».
Исследование проходило в Государственном архиве Республики Бурятия (далее — ГАРБ), где хранятся более 4 тысяч архивных фондов, более 1 млн единиц хранения1. Архивные данные, использующиеся для нашего исследования, в основном сосредоточены в личных фондах дореволюционного и советского периодов.
Для выявления постоянно воспроизводящихся элементов стиля жизни и устойчивых границ важно определить особенности исторического центра, продиктованные в первую очередь географией. Расположенный в устье слияния двух рек Селенги и Уды, город имел изначально природные, ландшафтные границы, расположенные вдоль этих рек. Нагорная часть города застраивалась медленнее, лишь в советский период туда был перенесен новый административный и символический центр. С начала XIX в. город разрастался к железной дороге, с сохранением единой сетки улиц нижней и верхней террас Верхнеудинска [4, с. 54], и, следовательно, городская граница стала проходить вдоль железной дороги.
На повседневный стиль жизни людей постоянно влияют природные и климатические особенности территории города, такие как резко-континентальный климат, сейсмоактивная зона, что обусловливало особенности строительства; расположение в низине, ведущие к образованию смога; близость устья реки, и, как следствие, частые затопления. В архивных материалах встречаются описания постоянных пожаров вокруг, задымлявших город, затоплений из-за выходившей из берегов Селенги или подземных вод по ул. Балтахинова (Мокрослободская), или особенностей почв. Например, какие свидетельства можно найти в воспоминаниях верхнеудинского врача М. А. Танского: «Вообще лесные пожары в те далекие времена, когда не было правильной охраны лесов, когда не существовало еще лесничества, бывали бичом природы — уничтожали леса на громадных пространствах, особенно если огонь хозяйствовал в тайге. Бывало летом на целые недели город окутывал таким густым дымом, что трудно становилось дышать, а солнце катилось по раскаленному небу багровым зловещим шаром. Люди томились и изнывали»1. Постоянные пожары, происходившие в том числе в 10-е г. XXI в., значительно ухудшали качество жизни людей, находящихся в зоне задымления.
Как было сказано ранее, исторический центр Улан-Удэ был «собственно городом» большую часть своего существования, и его главенствующее положение сохраняется, в том числе и в языке горожан. Эта ситуация, когда город состоит из «более городских» и «менее городских» локализаций, вытекает из исторического развития Верхнеудинска. Для основного населения посада все остальные территории были «не-городом»: пригородом, дачей и отдаленным поселением. Например, Танский, рассказывая о трудностях врачебной практики, подчеркивает, что его могли вызвать в любое время, в любое место: Вообще работать при- ходилось много, можно сказать от раннего утра до глубокой ночи, да и ночью не всегда имел покой. Звонок с парадного хода или телефона в спальне поднимал с постели, запрягалась лошадка и приходилось ехать или в больницу, или по частному вывозу к какому-нибудь больному, куда-нибудь Зауду»1. В данном контексте территория Зауды (Заудинского предместья, расположенного через реку от г. Верхнеудинск) является синонимом территорий, находящихся далеко, вне привычных маршрутов человека, живущего и работающего в городе.
В свою очередь, распределение жителей данного района по экономическому признаку всегда было не однородно, что видно даже по составу домовладельцев по главной улице Ленина (ул. Большая). «Статус главной, центральной улицы не отразился на социальном составе ее жителей и владельцев усадеб. Среди них многие именитые горожане, чьи фамилии и титулы были известны далеко за пределами Верхнеудинска, и рядовые обыватели — крестьяне, казаки и мещане. На Большой улице богатая купеческая усадьба могла соседствовать с крестьянским или мещанским двором, усадьбой отставного бомбадира или поселенца» [1, с. 28].
Повседневная жизнь и мобильность горожан Верхнеудинска включала в себя постоянное взаимодействие с «деревней», и регулярные выезды «на природу», что обусловливалось небольшим размером города и тесной социальноэкономической связью с окружающими территориями. Так, например, Танский при описании своего досуга упоминает как пикники на природе, так и проживание на даче, находящейся на Верхней Березовке. А фотограф и краевед Н. Бурлаков в своей поэме, посвященной Верхнеудинску, рисует город, со всех сторон окруженный разнообразными ландшафтами, и как мы можем догадаться, город небольшого размера, что все его жители видели вокруг себя не только городские постройки и близлежащую «природу».
Также автором актуализируется образ купечества как одного из столпов в идентификации города. В дневниках Н. Бурлакова можно найти записи о частых походах на базар, что удалось продать, о расходе-приходе в обычные дни и во время ярмарке. Там же встречаются рассуждения как абсолютно бытовые, что, например, рыба в начале ярмарки была дешевле, но и сейчас стоит не слишком дорого, так и рассуждения об экономических закономерностях: «бедняк запасает пищу на день и фунтами, а богач на месяцы и на годы и пудами, а в общем бедняк съедает столько же, сколько и богач, если и не больше»2 .
Верхнеудинская торговая ярмарка играла большую роль в жизни горожан, ее проведение ломало рутинный стиль жизни. На время ярмарки город оживал, наполнялся многочисленными приезжими, проводились балы, лотереи, представления, появлялись балаганы и пр. «Для торга служила главным образом Базарная площадь. Здесь расхватывались все пустующие лавки. Оживал также и Большой гостиный двор, в обычное время более, чем на половину мертвый»3 .
Если говорить о миграционных процессах в Верхнеудинске/Улан-Удэ, то можно сказать, что в основной массе жители города приезжие или потомки приезжих. 350 лет — небольшой возраст для города и формирования городской культуры. К тому же постоянные миграционные волны не давали выработать единый для всех городской стиль жизни.
«Считаю себя коренным верхнеудинцем, хотя и родился в Енисейской губернии, но еще годовалым вместе с семьею прибыл в Верхнеудинск и с той поры обосновался здесь на всю свою долгую жизнь. Отец родом был украинец из Черниговской губернии»1 . Как видим, даже те, которых мы считаем коренными горожанами, могли родится не в Верхнеудинске, а их родители приехать из другой части страны.
Также Верхнеудинск/Улан-Удэ всегда отличался этническим разнообразием, что связано как с географическим расположением, так и с историческим заселением города. Кроме русских, переселяющихся из различных областей страны, и бурят и эвенков, исторически живших на этих землях, а также представителей других народов, проживавших на территории Российской империи и СССР, в городе было достаточное количество иностранцев, занимавшихся торговлей. Все это приводило как к усилению бытовой ксенофобии, так и к вырабатыванию толерантности ведь представители различных национальностей и культур зачастую соседствовали друг с другом.
«У Лихачева мяса нет, взял фунт топленного жиру. Иду дальше: мясная лавочка Березовского закрыта, Вторушина, Попова — тоже, но эти сомнительны: своего ли битья продают они мясо или получают его от евреев-мясоторговцев. Нет мяса на <…>! Но оно есть в избытке в еврейских лавках, но неужели в христианский праздник разговляться пищей (с мясом) приготовления не христианам, даже гонителей христиан?!... Пошел по базару. И луку нет! Есть у переторговцев зеленью и овощами евреев и не [с] заудинских огородищ, а китайской выработки. И мяса еврейского и луку китайского не надо!»2.
К объективным характеристикам восприятия города также можно отнести провинциальность, удаленность от политического и культурного центра страны. Это естественным образом отражается на стиле жизни людей «<...в конце> Подытоживая в коротеньких словах жизнь старого Верхнеудинска, приходится сказать, что шла она у людей тихонько, спокойненько, не только без потрясающих событий /исключение- большой пожар города/, но пожалуй и вообще без событий. Один день походил на другой почти до фотографической точности. Люди никуда не спешили, никуда не стремились, задач каких-либо не ставили, жизни не строили, а просто пассивно плыли по ее течению. Но присущие человечеству страсти со всеми разнообразными эмоциями и тогда, конечно, существовали и процветали. Люди любили и ненавидели, ревновали и страдали, радовались и печалились, плакали и смеялись — одним словом и тогда все обстояло так, как отражено в древнеримской пословице: «Человек я, и ничто человеческое мне не чуждо»1.
Но изменения, произошедшие во всей стране в 20-е гг. XX в., глобально повлияли на жизнь людей, и под давлением внешних сил изменилось восприятие собственности, повседневный быт и отношения между людьми. Так, существовавшая в ранние советские годы практика уплотнения квартир непосредственно влияла на бытовые условия проживания, люди оказывались в условиях вынужденного соседства. Так можем рассмотреть, как решался «квартирный вопрос» в Верхнеудинске:
«В 1912 году мы переехали в новую квартиру, в дом горного инженера Левицкого, переведенного на службу в Читу. В 1916 году дом этот я приобрел в собственность и проживаю в нем и поныне»2. До революции у человека находится в собственности дом, в котором он живет и после революции, но уже с вынужденным соседством:
«<…>Предварительно разгорелась тут за обладание квартирой (которой надо сказать с самого начала революции мы почти не являлись хозяевами. А я на наш дом смотрел и смотрю как на социалистическую собственность в недалеком будущем: мы одинокие старики, и по смерти нашей он станет достоянием государства) курьезная борьба. Пока детсад собирался переезжать, Наркомздрав решил в освободившемся помещении развернуть сыпно-тифозное отделение (?!) на 30 коек и приступил к оборудованию его. Кое-что успели перевезти, а на ночь помещение закрыли на замок. На другой день раненько утром явилась со своим штатом энергичная заведующая детсадом, сломали замок и все завезенные вещи выбросили в сад, и тотчас же стали сами заселяться»3. Можем заметить, как изменилось восприятие частной собственности у человека, пожившего в СССР. Под влиянием обстоятельств он признает, что после революции перестал быть собственником квартиры, которую до этого собственноручно купил, и смотрит на нее как на «социалистическую собственность».
С началом индустриализации в Верхнеудинске началось строительство промышленных предприятий, которое потребовало огромное количество приезжих специалистов и рабочих из европейской части России. Во многом эта волна сельской миграции повлияла на городской стиль жизни, привнося специфику в повседневные практики людей. «Потеряв связь с деревенской жизнью, переселенцы не получили возможности полноценно включиться в городскую жизнь, возникла типично маргинальная — промежуточная, так называемая “барачная”, субкультура. Обломки сельских традиций причудливо переплетались с наспех усвоенными “ценностями” городской цивилизации» [3, с. 22]. Эта барачная культура повседневного быта смешивалась с традиционной усадебной в причудливый синтез на фоне индустриализации и урбанизации. Поскольку в историческом центре Улан-Удэ сохранились как старинные усадьбы, так и советские бараки, то можно сделать предположение, что многие черты стиля жизни предыдущих эпох сохранились и в настоящее время.
Экономические проблемы, особенно в период больших исторических потрясений, испытывали все. «Цены на большинство необходимых продуктов были непомерно высоки, для значительной части населения жизнь впроголодь становилась уже привычной. Поэтому одним из показателей материального благосостояния населения 1920-х гг. в Бурят-Монголии являлся рост заработной платы и ликвидация безработицы» [6, с. 20]. Так индустриализация и развитие Улан-Удэ в годы советской власти повлияли на изменение стиля жизнь горожан.
Фраза Михаила Танского: «На моих глазах Верхнеудинск из маленького уездного городишки, не насчитывавшего и четырех тысяч жителей превратился, как в сказке «по щучьему велению», в большой и красивый культурный центр, стал столицей БМАССР»1, наглядно показывает кардинальные изменения в восприятии города. Из провинциального усадебного города между Иркутском и Читой Верхнеудинск становится Улан-Удэ, приобретает столичный статус и становится центром бурятской автономии.
В заключении отметим, что различные элементы стиля жизни горожан Верх-неудинска/Улан-Удэ, будь то повседневный быт и мобильность, экономический уровень и потребительские практики, миграция и социальные коммуникации, тесно связаны между собой, и рассматривать их надо в комплексе.
Архивные данные позволяют проводить социо-историческую реконструкцию стиля жизни горожан Верхнеудинска/Улан-Удэ. Благодаря данной реконструкции можно доказать специфику стиля жизни в историческом районе г. Улан-Удэ, так как мы можем проследить генетическую преемственность в повседневной жизни того района, что непосредственно влияет на всех людей, живущих там.
Список литературы Реконструкция стиля жизни исторического района г. Улан-Удэ (на основе архивных материалов)
- Гурьянов В. К. По Большой, Большой-Николаевской: из истории улиц Верхнеудинска. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1998. 160 с. Текст: непосредственный.
- Горбань (Сухова) Е. С. Обзор социологических теорий и интерпретация понятия "стиля жизни": от классового общества до постмодерна. URL: https://ecsoc.hse.ru/data/2013/08/14/1291342150/ecsoc_t14_n3.pdf (дата обращения: 01.10.2021). Текст: электронный.
- Иминохоев А. М. История повседневности и динамика качества жизни населения Верхнеудинска/Улан-Удэ в 1920-1930-е гг.: автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Улан-Удэ, 2008. 26 с. Текст: непосредственный.
- Минерт Л. К. Архитектура Улан-Удэ. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1983. 248 с. Текст: непосредственный.
- Оливиньска И. А. Методы и техники исследования стиля жизни на примере Варшавской Шмуловизны / научные редакторы А. Базаров, А. Явловски. Улан-Удэ; Варшава: Тип. Варшав. ун-та, 2017. 348 с. Текст: непосредственный.
- Хабаева Ю. В. Образ жизни горожан Бурят-Монголии (1920-1930-е гг.). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. 93 с. Текст: непосредственный.