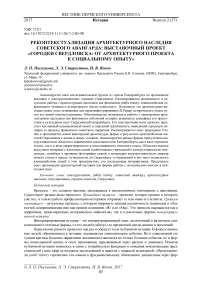Реконтекстуализация архитектурного наследия советского авангарда: выставочный проект "Городки Свердловска: от архитектурного проекта к социальному опыту"
Автор: Пискунова Л.П., Старостова Л.Э., Янков И.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История искусства как public history
Статья в выпуске: 2 (37), 2017 года.
Бесплатный доступ
Анализируется опыт исследовательской группы из города Екатеринбурга по организации выставки о конструктивистских городках Свердловска. Рассматриваются возможности и результаты работы с архитектурным наследием как феноменом public history, взаимодействия современного человека и исторического опыта «советского». Полагается, что архитектурная выставка может стать основанием для переконфигурирования (П.Рикер) исторического опыта путем его новой контекстуализации. Обосновывается возможность работы с авангардным архитектурным наследием как феноменом публичной истории, выявляется специфика его присутствия в культурном поле Свердловска/Екатеринбурга. Его конструктивистское прошлое предстает как важный недооцененный сюжет в городской идентичности, выводящий городскую историю за пределы привычного советского нарратива. Рассматриваются опыт реализации Утопии в пространстве новой авангардной архитектуры, форма и результаты приспособления жителей Свердловска к жизни в новых условиях. Анализируются разные формы присутствия конструктивистских объектов в современном смысловом поле Екатеринбурга, как в виде городских легенд, так и в виде непроговоренного и неосознаваемого значимого опыта. Объектом анализа выступают интервью с жителями домов и работниками учреждений в конструктивистских комплексах, семейные и архивные фотографии зданий и интерьеров конструктивистских квартир (ячеек), статьи в прессе, путеводители по Свердловску и отражаемый в них опыт социального взаимодействия людей в этих пространствах, его последующая интерпретация. Представлен опыт организации архитектурной выставки как формы работы с историческим опытом в публичном поле.
Конструктивизм, советский авангард, архитектурное наследие, популяризация, городок чекистов, свердловск
Короткий адрес: https://sciup.org/147203913
IDR: 147203913 | УДК: 72.01 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-2-85-98
Текст научной статьи Реконтекстуализация архитектурного наследия советского авангарда: выставочный проект "Городки Свердловска: от архитектурного проекта к социальному опыту"
Публичная история
Прошлое – это сложное явление, находящееся в неоднозначных отношениях с настоящим. Существуют разные виды прошлого. Прошедшее прошлое – прошлое, которое прошло и которого уже нет, и только работа профессионалов-историков открывает те или иные его аспекты. Прошлое настоящего – актуальное прошлое, с которым напрямую связана идентичность индивидов и общностей, воспринимаемая ими как прямое основание «Я» или «Мы». Это прошлое выражается как в нарративах, транслирующих историческую мифологию, так и в различных формах инкорпорированной истории 1.
Инкорпорированная история – это инкорпорированный опыт, включенный в различные символические и телесные формы, от тел людей (габитус) до предметной среды жилищ и поселений.
Пересечение разного прошлого как раз и образует поле публичной истории. В фокусе внимания людей, обратившихся к истории, оказываются символические события. Но в современной ситуации кризиса Больших нарративов значимыми становятся не только большие события, но и формы повседневной жизни, и опыт проживания, передаваемый через рассказ и дневники. Понятие публичной истории появилось в связи с потребностью фиксации и описания коммуникации представителей узких сфер культурных исследований и практик с широкой аудиторией: «Представители public history стремились тем самым к фундаментальному обновлению дисциплины через фор-
мирование широкого спектра способов представления исторических знаний» [ Аккерманн и др. , 2012].
Динамический процесс обновления настоящего связан с постоянным обсуждением и переконфигурациями поля контакта прошлого прошедшего и актуального, изменением контекстов, открытием новых ракурсов событий прошлого. Так как речь идет об идентичности – феномене эмоционально нагруженном, связанном с пережитым опытом, травматическими событиями и переоценками того или иного отрезка истории, события или личности, этот процесс не может быть сугубо академической работой профессиональных историков. Это поле взаимодействия профессиональной историографии и общества. П. Рикер называл процесс постоянного обновления исторического нарратива процессом переконфигурации опыта, способом его нового обустройства, который позволяет открывать новые горизонты конструируемой идентичности (персональной или коллективной) [ Рикер , 2000]. В этом процессе возникают новые контексты и связи с событиями прошлого. «Прикладная история таким образом способствует пониманию культурных и исторических условий человеческих действий, позволяет распознавать последовательность и разрывы в общественном процессе усвоения прошлого, помещая его в конкретный жизненный контекст» [ Аккерманн и др., 2012].
Согласно данному концепту поиск новых форм сопряжения истории и искусствоведения и их пересечения с публикой имеет ряд аспектов: популяризация научных знаний, обращение к непрофессионалам как соучастникам исторического исследования с целью обновления как методологии научного поиска, так и самого контента научного знания.
Для многих исторических явлений публичная история сегодня становится необходимым инструментом коммеморации в силу особенностей самого объекта изучения.
Конструктивизм
Архитектурное наследие советского конструктивизма оказалось сегодня на пересечении актуальных исследований: изучение проблем и стратегий развития постсоветского города, советского утопического проекта в контексте опыта жизни простого человека, соотнесения советского конструктивизма с мировыми трендами апроприации модернистской архитектуры2.
Архитектурный авангард, с одной стороны, выступает символом ушедшей эпохи, требующим осмысления и новых языков описания с учетом социального контекста его возникновения и социальных задач, стоящих перед ним, с другой стороны, является частью живой городской среды, подчинённой особым ритмам. Некогда задуманные в качестве составляющих большого проекта по переустройству социальной действительности авангардные архитектурные комплексы и сегодня определяют облик и структуру в пространстве крупных городов.
Архитектура советского авангарда (конструктивизма) является уникальным явлением, просуществовавшим с начала 1920-х до середины 1930-х гг. Уже в 1933 г. «творческая дискуссия Союза советских архитекторов» на тему «Творческие пути советской архитектуры и проблема архитектурного наследия» подводит черту под дискуссиями о функционализме и отношении к классическому архитектурному наследию. В частности, в статье Р. Хигера о творчестве братьев Весниных дипломатично формулируется суть произошедшего перелома: «…Творческая перестройка советских архитекторов, определившаяся особенно четко в связи с конкурсом Дворца советов, побудила советскую архитектурную общественность пересмотреть и переоценить установки и творческие позиции функционализма <...> Слишком однообразен и схематичен художественный язык функционализма» [ Хигер , 1933, № 3–4, с.50].
В основе художественного конструктивистского образа лежали конструкция и функциональное назначение. На концепцию советского конструктивизма существенно повлияли два фактора: функциональная традиция в западной архитектуре (Ле Корбюзье, Баухаус) и глубокая связь с социальным проектированием, основанным на формирующейся в то время советской идеологии. В эссе «Конструктивизм» (1923 г.) Ольга Чичагова пишет: «Конструктивизм – это идеология, возникшая в пролетарской России во время революции, и как всякая идеология может быть жизнеспособным и не построенным на песке, лишь когда создает себе потребителя; а потому – задачей конструктивизма является организация коммунистического быта через создание конструктивного человека» [ Чичагова , 2000].
Перед архитекторами-конструктивистами3 стояли сразу несколько задач:
-
- обеспечение в короткие сроки жильем большого числа людей, стягивающихся в крупные промышленные центры в силу индустриализации;
-
- разработка принципов распределения пространства строящихся зданий с учетом требований экономичности (разместить как можно больше людей в единице жилого пространства, найти наиболее дешевые материалы для строительства, разработать технологию максимально быстрого строительства, учесть максимально широкий спектр функций здания);
-
- создание новой функциональной эстетики;
-
- трансформация и переустройство всех сфер жизни и деятельности человека: конструктивизм как стиль претендовал на то, чтобы не просто украшать жизнь человека, а кардинально ее изменить. Архитекторы этого стиля стремились «войти во все области человеческой культуры и, разрушив изнутри старые мещанские устои, организовать новые формы бытия через воспитание нового конструктивного человека» [ Чичагова , 2000].
Чтобы решить перечисленные задачи, архитекторы задумались прежде всего о связи архитектуры с типом общества и человека, формируемыми идеологией и политикой советской власти. Вокруг архитектурных вопросов стал вестись разговор о задачах программирования нового советского быта. Концепция быта жестко увязывалась с пространственными и планировочными решениями архитектурных проектов: «целью для нас является не выполнение заказа как такового, а совместная работа с пролетариатом по тем заданиям строительства новой жизни, нового быта, которые стоят перед ним» [ Гинзбург , 1928, с.145].
Для архитектуры конструктивизма изначально характерна глубокая связь с социальным проектированием. Связь функционального подхода в архитектуре с требованиями рационального расселения больших масс людей привела к осознанию лидерами направления необходимости так проектировать жилые и рабочие пространства, чтобы они способствовали формированию нового типа советского человека и социальных отношений: «Мы утверждаем, что в эпоху строительства социализма (а конструктивизм не отвлеченная теория, а функция нашей эпохи) задача архитектора – прежде всего "изобретение" новых социальных конденсаторов жизни - новых типов архитектуры» [Критика конструктивизма, 1928, с.192]. Как социальный конденсатор жизни архитектура и градостроение в целом призваны были служить формообразующим элементом нового человека: «Город должен быть так построен, чтобы он стимулировал и организовывал весь распорядок жизни, труда и производства, культуры, физического и умственного развития и воспитания, бытового уклада, способов отдыха и развлечения, максимального развития личности» [ Большой Свердловск , 1930]. Об этом свидетельствуют и заявления лидеров советского конструктивизма: «жилье не может быть решено без учета тех целей и задач, которые становятся перед рабочим классом в построении социалистического уклада жизни» [ Тезисы по жилью , 1929, с. 122]
Между тем существование конструктивистских зданий в контексте советской эпохи и постсоветского периода показывает, что социальные практики вокруг данной архитектуры складывались не вполне так, как проектировались. Это касалось всех сторон быта – приготовления еды, вопросов гигиены, распределения бытовых практик между приватными и общественными зонами, ротации квартир, возможностей строительной индустрии. Именно это было самой большой проблемой возведения новых городов. Стоимость кубической сажени строений в СССР была значительно выше, чем в развитых странах, помимо этого дефицитными и дорогими были и строительные материалы. «Плохое качество и высокая стоимость строительных материалов, устаревшие технологии строительства, недостаток квалифицированных строительных рабочих, техников, инженеров, нерациональная организация и отсутствие механизации труда на площадке приводили к тому, что строительство дома в СССР было дороже, чем, например, в Германии, в среднем на 35%, и это при том, что стоимость рабочей силы была ниже» [ Конышева , 2014, с. 91].
Проектные документы того времени говорят нам о постоянных изменениях в планировке помещений и санитарно-технических коммуникаций, обусловленных экономией. Кроме этого, новые идеи организации города, рабочего поселка и жилища, обсуждаемые в дискуссиях и конкурсах на протяжении 1920-х гг. и воплощаемые в «экспериментальных» объектах, оказывались мало связанными с массовой проектно-строительной практикой4. Положение осложнялось и ситуацией с организацией проектного дела: структура проектных организаций СССР не могла в силу огромных масштабов и исключительной новизны задач оперативно обеспечить комплексную разработку проектно-технической документации [ Казусь , 2009, с. 105].
Конструктивизм Свердловска как потенциальный объект для работы в пространстве публичной истории
Конструктивизм Екатеринбурга описан и каталогизирован в ряде изданий сугубо архитектурной направленности [Смирнов, 2006, 2008; Токменинова, 2012; Уймин ]. Наследие конструктивизма в Екатеринбурге представлено около 400 сооружениями. Именно этот стиль оформляет «лицо» центральной части города – проспект Ленина и ул. Малышева. Представлены здания различной функциональной направленности – жилые комплексы, административные и общественные сооружения, клубы и дома культуры, театры, больницы, гаражи и т.д. Так получилось, что центр Свердловска стал конструктивистским в ответ на запрос времени – превратить уездный город в индустриальную столицу огромной Уральской области.
Впервые о новом облике города было сказано в путеводителях «По советскому Уралу» 1928 и 1930 гг. (составители А.А. Афиногенов, А.В. Баранов, В.А. Гензель, Е.М. Ляминов), в разделе «Новый Свердловск». Но архитектурный облик города авторов путеводителя интересовал мало (по всей видимости, до начала глобального строительства перемены были незначительны). Больше говорилось о перспективах – проведении водопровода и канализации, пуске трамвая (1927 г.). «Кроме трамвая в скором времени будут построены новая центральная амбулатория с пропускной способностью 2000 ч. в сутки, холодильник, фабрика-кухня из 10.000 тыс. обедов в день, мощная радиостанция, дом почты и телеграфа, крематорий, и оборудованные по последнему слову техники два дома-гиганта: Дом промышленности и Дом Советов» [ По советскому Уралу , 1930, с.29].
В газете «Уральский рабочий» за 14 декабря 1933 г. целый разворот под названием «Город, созданный заново» был отведен повествованию о кардинальных изменениях, произошедших в городе за десять лет, за время его столичности в масштабе созданной Уральской области (1923 г.). Видение нового облика Свердловска здесь передано словами кучера С.Ф. Потеряева: «Шоссе новое, будто шелк постлан. Брусчатка чистая и новая, как хороший пол. Лес сбежал, заводище вырос огромный и целый город (Уралмаш) рядом – 60.000 жителей»; профессора Горного института К.Е. Матвеева: «Главная улица упиралась в безвкусную глыбу Екатерининского собора… Вокруг него лепились двухэтажные деревянные домишки с заклеенными бумажными афишами хилыми заборами. Теперь тут пролегла прекрасная площадь со зданиями Облискполкома и Обкома ВКП (б). Всюду здесь: зеленые газоны, клумбы, фонтан из уральских камней, над улицей звучит радио. Эта площадь лучше, чем во многих городах заграницы… Когда я был в Берлине я не видел столько зелени, разве, что на площади около Бранденбургских ворот. Вот я поворачиваю на улицу 8 Марта… Деловой дом с его прекрасными магазинами, Дом контор… Еще недавно здесь лепились грязные лавчонки Хлебного рынка, сейчас на их месте вырастает сквер. В Екатеринбурге было много кабаков, но не было науки. Свердловск – город вузов, втузов, научно-исследовательских институтов…» [Город, созданный заново, 1933].
В сборнике «Свердловск» (1946 г.) под редакцией А. Панфилова и К.Рождественского, исходя из некоторой временной перспективы дается художественно-аналитическое описание перемен в архитектурном облике города: «Над деревянными домиками старого города поднялись каменные корпуса Свердловска. Полукруглая башня «Динамо» смело и по-новому обрамляет угол улиц Ленина и Луначарского» [ Свердловск , 1946, с.363]. Авторы сборника подчеркивают преображение старого деревянного города благодаря каменным строениям, отличающимся смелостью в освоении новых форм.
В 1970 г. появляется фото-путеводитель по Свердловску, выпущенный издательством «Прогресс» на четырех языках. В нем транслируется устойчивый городской образ «работник и воин», созданный В. Маяковским в своих стихах в 1928 г. после его посещения Свердловска. Тут же говорится о ежедневных 100 тыс. гостей и туристов, посещающих город (хотя для иностранцев въезд в город тогда был закрыт) [ Свердловск , 1970, с.12]. Архитектурный облик города представлен в путеводителе фотографиями центральных улиц с конструктивистскими зданиями.
В путеводителе-справочнике «Свердловск» (1973, 1975, 1983 гг., составители А.Д. Бальчугов, Н.Н. Бердников, Ю.А. Бураков, А.Д. Кернер, В.А. Пискунов и др.) впервые появляется описание конструктивистской архитектуры. Отмечается, что «жилые и общественные здания, построенные в начале 1930-х годов, до сего времени продолжают определять архитектурно-эстетический облик центра города». Авторы путеводителя-справочника фиксируют внимание читателя на социальных функциях этой архитектуры: «Для жилых комплексов и общественных зданий характерны весьма скромные и простые фасады… они представляют для нас интерес не только как свидетельства бурного развития города в то время, но и как попытка решить социальные вопросы – обеспечение жильем трудящихся (быстро и дешево)» [Свердловск, 1973, с.58].
В третьем издании путеводителя-справочника обращается внимание на то, что с 1925 г. при планировании строительства появляется «идея жилых комплексов, основанных на новых, социалистических принципах быта» [Свердловск, 1983, с. 52]. К наиболее интересным относится так называемый "городок чекистов" … Десятиэтажный корпус для малосемейных (ныне гостиница Исеть) и сегодня остается одним их архитектурных символов города Свердловска» [Там же].
В постсоветских текстах научного и справочно-познавательного характера описание памятников конструктивизма включает характеристику особенностей архитектурного проекта (объемнопространственные и планировочные решения), особенностей использования зданий с приложением иллюстративного материала (плана, синьки, фотографии зданий снаружи и внутри) [ Смирнов , 2008, Токменинова , 2012].
Более широкий подход к архитектуре конструктивизма представлен в издании «Екатеринбург. Архитектурный путеводитель 1920–1940». В нем приводятся сведения об историческом контексте появления зданий. В частности, в разделе, посвященном архитектурному комплексу «Городок чекистов», рассказывается о содержании понятия «чекист», о роли Ф.Э.Дзержинского в проведении политики НКВД, дается отрывок из статьи А.Пастернака, где осмысляется понятие «дом-коммуна» [ Екатеринбург , 2015, с.142–146]. А одностраничное описание Дома связи сопровождено цитатой из воспоминаний горожанина С. Альтмана, опубликованных в газете «Уральский рабочий» в 2014 г. [ Екатеринбург , 2015, с.86]. Однако обращение к социокультурному контексту существования архитектуры носит в этом издании фрагментарный характер.
Изучение архитектуры конструктивизма в городе Екатеринбурге началось в 1970-е гг.6. С 2015 г. авторы исследуют объекты конструктивизма в рамках социальной истории. В качестве одного из объектов изучения был выбран «Городок чекистов»7.
Собранные нами сведения (интервью с 27 жителями городка 1932–1985 гг. рождения, материалы включенного наблюдения, фотографии из личных архивов людей, живших и живущих в данном комплексе, материалы следственных дел арестованных, архивные данные о хозяйственной жизни комплекса и проч.) позволили сделать первые выводы о влиянии архитектурного проекта на повседневные практики его жителей. Обращение к социальной истории этого комплекса дает возможность раскрыть его значение для городской истории, осмыслить его человеческий опыт и конструктивистскую архитектуру как форму воплощения советского социального эксперимента [ Пискунова, Старостова , 2015; Пискунова, Старостова, Янков, 2015]. На основе сказанного была определена концепция выставки «Городки Свердловска: от архитектурного проекта к социальному опыту» в рамках Дней конструктивизма на Урале-20168.
Архитектурная выставка и работа с историческим опытом
В качестве объекта изучения (и экспонирования) нами были выбраны пять конструктивистских комплексов Екатеринбурга: городок юстиции (1934–1935 гг.), медгородок (1933–1936 гг.), городок чекистов (1934–1936 гг.), дома Госпромурала (1928–1941 гг.), дома Уралоблсовета (1929– 1933 гг.)9.
Особенностью подачи информации о конструктивистских комплексах Свердловска (Екатеринбурга) стало сосредоточение внимания на повседневных практиках через фотографии, отрывки из интервью, различные артефакты. Экскурсии по городкам включали посещение квартир и других помещений, в которых по-особому спланированное пространство активно взаимодействовало с человеком.
Образ архитектурных комплексов конструировался с учетом двух векторов социальных интеракций, что позволяло, с одной стороны, раскрыть связь спроектированного пространства и повседневных практик людей в нем, с другой – выявить социальные связи людей, определяемые феноменом архитектурного комплекса.
Для изучения влияния архитектурных решений на повседневные практики людей использовалась простая методика: анализировался архитектурный проект с целью выявления возможного влияния конкретных планировочных решений на повседневные практики людей. Для прояснения сути этой методики приведем два примера.
Комплекс «Городок чекистов» имеет ряд особенностей как в планировке зданий, оформлении фасада, так и в интерьерных решениях. Знаковым с точки зрения повседневного взаимодействия жителей и архитектурного пространства является сюжет о так называемой «газовке». Это локальное наименование небольшой газовой плиты, изначально предназначавшейся только для разогревания пищи (которую, как предполагалось, жители городка будут брать в столовой городка) и находившейся в нише, разделявшей коридор и комнату с эркером. Такая планировка не прижилась в большинстве квартир. Люди старались так изменить пространство квартиры, чтобы газовая плита оказалась в комнате. При этом плита маскировалась дверцами как будто встроенного шкафа. Когда они были закрыты, возникала иллюзия жилой комнаты. На фото (рис.1) видно, что в комнате с газовкой есть круглый обеденный стол, что соответствует интерьеру как кухни, так и столовой, а также кровать, стоящая у стены с дверью. Одна створка двери закрыта, на ней висит ковер, это позволило поставить вдоль короткой торцевой стены кровать.
Приведенный пример свидетельствует о том, что идея обобществления питания не прижилась в «Городке чекистов», как, впрочем, и во многих других раннесоветских жилых комплексах («Слеза социализма» в Ленинграде, «Дом-коммуна» в Москве). Почти все наши информанты из этого комплекса устроили более-менее удобную кухонную зону.
Драматическое взаимодействие человека и архитектурного пространства происходило во всех исследованных городках, поскольку социальные процессы отклонялись от заложенной в архитектурный проект социальной модели. Например, в комплексе домов Госпромурала (ряд корпусов по ул. Ленина, 52) было запроектировано 13 типов ячеек. Как предполагали архитекторы (Г.Коротков, Е.Валенков), маленькие квартиры с обобществленным коммунальным сектором должны были быть заселены людьми одинокими либо только начинающими семейную жизнь. При увеличении семьи должны были предоставляться квартиры большей площади. Однако в годы Великой отечественной войны квартиры в городках Свердловска дополнительно заселялись, и о улучшение жилищных условий пришлось забыть. В результате происходила реконструкция многих квартир в 1970-х гг. с целью хотя бы частичного приспособления их к нуждам семей, продолжавших жить в стесненных условиях.
Другой пример взаимодействия человека и архитектурной модели – планировка стационара в Научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Г. Голубев, автор проекта, был архитектором, специализировавшимся на зданиях медицинского профиля. Здание НИИ ОММ имеет сложную форму и является удобным сооружением, позволяющим выполнять несколько функций: научно-исследовательскую, консультационную, лечебную. В здании есть большая операционная (высота потолка 7,4 м) со сплошным остеклением эркера, конференц-зал с плавно изгибающимся балконом, опирающимся на лаконично оформленные колонны. Но взаимодействие функции и пространства наиболее точно представлено в сплошном остеклении перегородок отделения для новорожденных. В 1930-е гг. в НИИ ОММ была реализована система выхаживания новорожденных, предполагавшая раздельное размещение новорожденных и матерей с целью профилактики заболеваний и младенческой смертности. Данная система предполагала использование функционально-индустриального подхода к выхаживанию новорожденных: за ними ухаживали одна-две медсестры по четкому графику, а остекление перегородок между палатами и коридором обеспечивало широкий обзор для любого сотрудника. Так пространство моделировало повседневные практики и отношения.
Во многих путеводителях и справочниках по конструктивизму Екатеринбурга к Городку юстиции относят Дом юстиции (здание облсуда и юридического института) (ул.Малышева, 2б), жилой дом для работников юстиции (ул.Малышева, 2ж) и так называемый дом-улитку (ул.Малышева, 2е) (архитектор С. Захаров). Все три дома были построены рядом с территорией старого тюремного замка (первая половина XIX в.). Исследование повседневных практик жильцов и работников этих комплексов позволяет сделать вывод о том, что все они были интегрированы в систему хозяйственных и социальных отношений судебно-исполнительной сферы. Сотрудник ГУ ФСИН по Свердловской области, занимающего здание по ул. Репина, 4, дал такой комментарий: «Как это планировалось в тридцатых годах, то наверно было очень функционально. Потому что получается вот вам суд. Осудили. Тут же, не выходя на улицу, перевели его в следственный изолятор. Нужно вам опять на суд, вывели теми же коридорами. Осудили и тут же теми же коридорами отвезли его в колонию. И он нигде ни с кем не стыкуется. Он не может провести побег. Он не может какие-то не дозволенные связи совершить. В идеале все это. Тут же Управление решает организационные вопросы. Ну, может быть, где-то в тридцатых годах это работало».
В действительности система отношений в данном комплексе гораздо более сложная. Попытаемся описать все ее элементы.
Дом юстиции – здание неправильной Г-образной формы, состоящее из шестиэтажного полуцилиндра и пятиэтажного параллелепипеда. В части здания цилиндрической формы десятилетия функционировал областной суд. Параллелепипед с 1934 г. по первые годы XXI в. занимал Свердловский юридический институт. Пространственная близость их давала возможность студентам часто слушать реальные дела в суде. « Мы ходили слушать, допустим, небольшие дела какие-нибудь. Кассационное рассмотрение жалоб. Там 10-15 минут же. Пришли, послушали… Приходили группой студенческой с преподавателем. Это совмещение, конечно, полезно, что студенты имеют возможность не куда-то там ехать далеко, что в пределах учебного часа можно было посетить здание областного суда » (из интервью судьи в отставке). Кроме того, как видно на архивных фотографиях и из истории судей, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, в здании юридического института были общежитие и, возможно, даже квартиры. Многие студенты-юристы подрабатывали в находящемся поблизости следственном изоляторе младшими контролерами. В строениях во дворе Дома юстиции, как выяснилось, также жили люди (на гараже была сделана надстройка, разделенная на четыре маленькие комнаты. Мама одной из наших информанток специально устроилась уборщицей в суд, чтобы получить одну из комнат. Поэтому ее дети гуляли по помещениям суда, общались с шоферами во дворе суда, в то время как за деревянным забором, разделявшим территорию СИЗО-1 и суда, шла тюремная жизнь.
В воспоминаниях респондентов возникают образы социальных связей и отношений, порождаемых спецификой комплекса.
« - А вообще к нам домой приходили зеки все исправляли. Как подведомственный был дом. Тогда еще ЖЭКа не было. Мы к ним относились. Дом же ихний был. Подведомственный. И они приходили что-то делать.
А они под конвоем приходили?
-
- Так нет. Там же есть расконвоированные.
А вы откуда знали, что они зеки?
-
- Так видно же. Он в форме стоит. Видно на лицо» (из интервью жительницы дома по ул. Малышева, 2ж).
Взаимосвязь двух миров – тюрьмы и жилого дома – осуществлялось и через выкрики заключенных из окон камер:
-
« - Я даже на балкон выносила дочку. Они кричали: "Эй, девушка!". Я еще молодая была. Думала: «О господи, как вы мне надоели»
То есть заключенные кричали?
-
- Ну да. Там, напротив окна» (из интервью жительницы жилого дома по ул. Малышева, 2ж) .
Таким образом, взаимопроникновение мира свободы и несвободы происходило благодаря пространственной близости и общей ведомственной принадлежности зданий.
Входящий в комплекс Городка юстиции дом – построенное в форме улитки здание детского сада для детей юристов – десятилетиями служил помещением для отделения патологии беременности. Как круглосуточно функционирующее медицинское учреждение, отделение имело неформальную договоренность с пунктом охраны СИЗО-1 о возможности звонка с просьбой о помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации ночью.
Так пространственная близость зданий в городке способствовала установлению социальных связей между подсистемами (жилыми и служебными) особого социального мира, объединенного инфраструктурой судебно-пенитенциарной системы.
Заключение
Как показала реализация выставочного проекта «Городки Свердловска: от архитектурного проекта к социальному опыту», выбранные способ концептуализации и форма подачи материала позволили привлечь внимание к конструктивисткому наследию и сформировать «объемное» отношение к советскому прошлому города Свердловска. Наибольший интерес посетителей вызывали следующие аспекты выставки и экскурсий:
-
- личностно пережитые и осмысленные жизненные ситуации в условиях конструктивистских зданий,
-
- трансформация интерьерного и социального пространств в повседневных практиках,
-
- формирование специфической социальной системы внутри архитектурных комплексов, которая возникла на пересечении множества полей и сфер в жизни человека: полного обслуживания всех бытовых и идеологических потребностей (жилые городки), обеспечения высокого стандарта жизни (городок чекистов), пространственной близости жилья и места работы (городок юстиции), сочетания научной, учебной и производственной деятельности (городок юстиции, медгородок), создания механизмов формирования нового человека и ситуаций несовпадения утопических пожеланий власти и повседневной практики людей приспосабливаемых, к задаваемым «сверху» условиям существования.
Дискуссия «Изучение повседневности: смыслы, источники, практическое применение», организованная в рамках выставки с участием ведущих специалистов в области советского архитектурного авангарда, продемонстрировала заметное влияние концепции экспозиции на развитие рефлексии о социокультурном значении конструктивистской архитектуры.
Изучение конструктивистских городков Свердловска (Екатеринбурга) позволяет рассматривать их архитектуру как культурно-символическую матрицу социальных отношений, переосмысливаемую в ходе социальных практик. В результате конструктивистские объекты, представленные на выставке и включенные в систему социальных связей через их обживание и осмысление, порождают различные эффекты в публичных полях. Во-первых, растет символическая ценность этих зданий, они становятся площадками для культурных мероприятий; во-вторых, они привлекают внимание горожан и включаются в экскурсионный нарратив, в-третьих, они выбираются в качестве места жительства представителеями креативного класса и становятся полем арт-активности (биеннале, сувениры с образами конструктивистских объектов).
Конструктивистские городки, оказавшись в фокусе публичного внимания, приобретают общественное значение, они выходят из тени событий и объектов общего, недифференцированного советского прошлого и становятся самостоятельными и самоценными явлениями.
Для представителей старшего поколения обращение к конструктивистскому наследию, судя по записям в книге отзывов, - это позитивное и «благотворное» обращение к их житейскому опыту, которое позволяет зафиксировать их позитивные воспоминания и оценки с возможностью в дальнейшем выстраивать историческую свердловскую идентичность.
Для молодых и юных – это знакомство с историей города в контексте истории страны и в контекст мировой истории, а также ощущение собственной причастности истории.
Екатеринбург в результате обращения к конструктивистскому наследию через призму социальной истории и персонального опыта обретает дополнительную человеческую соразмерность в конкретных пространствах и помещениях. Бренд города и его идентичность получают значительное смысловое приращение и глубину, а стоящий за брендом набор историй, образов и их материальных воплощений (архитектурные комплексы) переводит диалоги о городе в поля публичной истории.
Список литературы Реконтекстуализация архитектурного наследия советского авангарда: выставочный проект "Городки Свердловска: от архитектурного проекта к социальному опыту"
- Buchli V. An Anthropology of Architecture. Bloomsbury Academic, 2013. 224 p
- Cohen J.-L. Le Corbusier and the Mystique of the USSR: Theories and Projects for Moscow, 1928-1936. Princeton: Princeton University Press. 1992. 254 p
- Heller A. A. Theory of History. -London: Routlege&Kegan Paul, 1982. 303 p
- Ilchenko M. Uralmash in the Architecture of the Soviet Avant-garde: An Experiment in City Construction in the 1920s and 30s//In Quaestio Rossica. 2016. Vol. 4, No 3. P. 55-71
- Аккерманн Ф., Аккерманн Я., Литтке A., Ниссер Ж., Томанн Ю. Прикладная история, или Публичное измерение прошлого//Неприкосновенный запас. 2012. № 3(83). С. 35-46
- Берсенева В. Конструктивисты и чекисты. // Урал. 2000. № 6. С. 161-164
- Берсенева В. Описание памятников архитектуры Свердловска. Свердловск: САН, 1972. 18 с
- Большой Свердловск. Свердловск, 1930. URL: http://www.1723.ru/read/books/sverdlovsk-1930.htm (дата обращения: 03.03.2017)
- Буден Б. В сторону гетеросферы: куратор как переводчик//Сборник тестов Московской кураторской летней школы: Делать выставки политически. М., 2016. 238 с
- Гинзбург М.Я. Конструктивизм в архитектуре: Первая конференция общества современных архитекторов//Современная архитектура. 1928. № 5. С. 143-145
- Граматчикова Н., Енина Л. Книга о любви и верности: реконструкция образа отца-коммуниста в воспоминаниях дочери//Quaestio Rossica. 2015. №4. С. 109-129
- Екатеринбург. Архитектурный путеводитель по Екатеринбургу 1920-1940. Екатеринбург, 2015. 358 с
- Екатеринбург: наследие конструктивизма = Ekaterinburg: the heritage of constructivism/текст, и коммент. Л. Н. Смирнов. Екатеринбург, 2009. 311 с
- Казусъ И.А. Советская архитектура 1920-х гг.: организация проектирования. М.: Прогресс-традиция, 2009. 464 с
- Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М.: Ключ-С, 1998. 156 с
- Конышева Е.В.Восприятие европейского опыта в городском планировании и строительстве в советской России 1920-х - 1930-х гг.: этапы и формы // Вестник Пермского университета. История. 2014. № 2 (25). С. 90-100
- Коэн Ж.-Л. Ле Корбюзье и мистика СССР: теории и проекты для Москвы. 1928-1936
- Критика конструктивизма//Современная архитектура. 2012. №1. 316 с
- Меерович М.Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917-1937. М., 2008. 314 с.
- Меерович М.Г. Рождение и смерть города-сада. Градостроительная политика в СССР 1917-1926 гг.Иркутск, 2008а. 289 с
- Меерович М.Г. Рождение соцгорода. Градостроительная политика в СССР 1926-1932 гг. Иркутск, 20086. 297 с.
- Милютин Н.А. Соцгород. Проблема строительства социалистических городов. М.; Л., 1930. 112с
- Пискунова Л., Старостова Л. "Городок чекистов" г.Екатеринбурга: воплощение и трансформация утопии в повседневных практиках советской элиты // Известия Уральского федерального университета. 2015. №4 (146). С.40-53
- Пискунова Л., Старостова Л., Янков И. «Повседневные практики «Городка чекистов»: Каталог 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Екатеринбург. 2015.
- По советскому Уралу. 2-е изд., перераб. и доп. Свердловск, 1930. 179 с
- Пэр Р., Коэн Ж.-Л., Ламберт Ф. Потерянный авангард: Русская модернистская архитектура 1922-1932: Фотоальбом. М.: Татлин, 2007. 348 с.
- Свердловск/ред. А. Панфилов, К. Рождественский. Свердловск, 1946. 387 с
- Свердловск: Справочник-путеводитель. Свердловск, 1973. 268 с
- Свердловск: Справочник-путеводитель: 2-е изд., перераб. и доп. Свердловск, 1975. 288 с
- Свердловск: Справочник-путеводитель: 3-е изд., перераб. и доп. Свердловск, 1983. 284 с
- Свердловск-250. Свердловск, 1973. 287 с
- Смирнов Л. Конструктивизм в памятниках архитектуры Свердловской области. Екатеринбург, 2008.160 с
- Смирнов Л. Творчество архитектора В.Д. Соколова: Дис.... канд. архитектуры. Екатеринбург. 2006. 194 с
- Стариков А, Звагелъская В., Токменинова Л. др. Екатеринбург: история города в архитектуре. Екатеринбург, 1998. 316 с
- Старков И., Селиванова А., Зуева Д. Даниловский Мосторг. М., 2016 152 с. Серия «Незамеченный авангард»
- Тезисы по жилью (приняты на 1-м съезде ОСА)//Современная архитектура. 1929. № 4. С. 121 -122
- Тимофеев М. Наследие иваново-вознесенского конструктивизма как ресурс развития города//Проблемы российской истории. Социалистический город и социокультурные аспекты урбанизации. Магнитогорск, 2015. Вып. 8. С. 310-320
- Токарев А. Архитектура Ростова-на-Дону первых пятилеток (1920-1930-е гг.). Ростов-н/Д: Изд-во Ин-та архитектуры и искусств ЮФУ, 2016. 408 с
- Токменинова Л. Городок чекистов. Жилой комплекс НКВД. Екатеринбург: Татлин, 2012. 113 с
- Уймин А. Лики старого города. Интервью с Мариной Сахаровой//Новая газета на Урале. URL: http://www.ng-ural.ru/node/3800 (дата обращения: 03.03.2017)
- Хазанова В.Э. Из истории советской архитектуры 1926-36 гг. М.: Наука, 1984. 140 с
- Хазанова В.Э. Советская архитектура первой пятилетки. Проблемы города будущего. М., 1980. 217 с
- Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Кн. 2: Социальные проблемы. М.: Стройиздат, 2001. 709 с
- Чичагова О. Конструктивизм//Литературные манифесты от символизма до наших дней/сост. С. Джимбинов. М.: Издательский дом Согласие, 2000. URL: http://aptechka.holm.ru/statyi/teoriya/manifest/constructivisml.html (датаобращения: 03.03.2017)
- Шелушинин А. К истории архитектуры Свердловска (конструктивизм 1920-1930 гг.)//Из истории художественной культуры Екатеринбурга-Свердловска. Свердловск, 1974. С. 72-82
- Янков И. Нарратив в освоении исторической действительности: феномен обновления и социокультурный смысл: Автореф. дис.... канд. филос. наук. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1997. 24 с
- По советскому Уралу. Свердловск, 1928. 158 с
- Рикер П. Время и рассказ. М.; СПб., 2000. 211 с