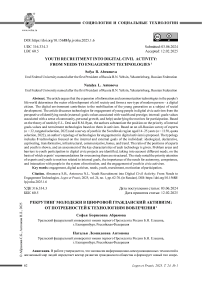Рекрутинг молодежи в цифровой гражданский активизм: от потребностей к технологиям вовлечения
Автор: Абрамова С.Б., Антонова Н.Л.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
В работе утверждается, что экспансия информационно-коммуникационных технологий в жизненный мир людей определяет вектор развития гражданского общества и формирует новый тип современного человека – цифрового гражданина. Цифровая среда способствует мобилизации молодого поколения как субъекта общественного развития. В статье рассматриваются технологии вовлечения молодежи в цифровой гражданский активизм с позиции выявления потребностей (внешних: цели-ценности, связанные с богатством, престижем; внутренних: цели-ценности, соотнесенные с чувством общности, личностного роста, помощи), лежащих в основе мотивов участия. В соответствии с теорией потребностей Э.Л. Деси и Р.М. Райана авторами обосновывается положение о приоритетности внутренних целей-ценностей и основанных на них технологий рекрутинга в активизм. На базе всероссийского опроса экспертов (n = 32, целевой отбор, 2023) и опроса молодежи Свердловской области в возрасте 14–25 лет (n = 1150, квотный отбор, 2022) предлагается авторская типология технологий вовлечения в цифровой активизм. Типология включает 8 технологий, ориентированных на внутренние и внешние цели личности: идейные, заявительные, увлекающие, преобразующие, инфраструктурные, коммуникативные, бонусные и трендовые. Показывается соотношение позиций экспертов и молодежи, дается оценка ключевых характеристик каждой технологии. Выделяются проблемные зоны и барьеры участия молодежи в цифровых гражданских проектах с учетом разных потребностей, на основании чего структурируются рекомендации экспертов по их преодолению. В ходе исследования отмечено приоритетное внимание экспертов и молодежи к мотивам, связанным с внутренними целями, значимость потребностей в автономии, компетентности и взаимодействии с людьми в системе мотивации и вовлечения молодежи в гражданский активизм.
Вовлечение, цифровой активизм, потребности, молодежь, рекрутинг, мотивация участия
Короткий адрес: https://sciup.org/149148184
IDR: 149148184 | УДК: 316.334.3 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.1.6
Текст научной статьи Рекрутинг молодежи в цифровой гражданский активизм: от потребностей к технологиям вовлечения
DOI:
Жизнь человека в современных общественных системах, по утверждению Э. Гидденса, является в наивысшей степени организованной и упорядоченной [Гидденс 2005]. Развитие новых информационно-коммуникационных технологий становится в некотором роде вызовом, который нарушает привычную жизнедеятельность и требует не только освоения технических новаций, но и вовлечения граждан в различные виды активностей с использованием интернет-среды. Для цифрового поколения – молодежи – партисипация в цифровое пространство становится очевидной практикой. По данным Mediascope, в апреле 2022 г. Интернетом в России пользовалось 80 % населения старше 12 лет; при этом в среднем молодежь в возрасте от 18 до 24 лет проводит в Интернете 5 часов 45 минут [Ачкасова web].
Вместе с этим современное жизнеустройство в условиях цифровизации актуализирует проблематику утверждения молодого поколения как субъекта функционирования и развития гражданского общества. Опираясь на идеи А. Чадвик и К. Мэй [Chadwick, May 2003], можно говорить о том, что в гражданском обществе партисипаторная модель учас- тия наиболее привлекательна, поскольку государство принимает конкретных индивидов и группы в качестве активного субъекта, от которого зависит принятие решений. Интернет с его возможностями становится «точкой сбора» молодежи, готовой отстаивать свою субъектность и влиять на повестку дня.
По аналогии с положениями политического электронного участия, предложенного Я. Теохарисом [Teocharis 2015], можно выделить три основных вектора заявления и продвижения гражданской позиции: универсальные формы (электронные петиции), гибридные формы (онлайн-участие и оффлайн-практики активности), типичные формы (лайки, репост, комментарии). Однако, несмотря на открывшиеся возможности, молодое поколение не торопится использовать потенциал цифрового гражданского активизма. Так, Г.У. Солдатова с коллегами выявила, что участником цифрового активизма является только каждый пятый представитель молодежи [Солдатова, Чигарькова, Илюхина 2021, 227].
Полагаем, что современному обществу необходим цифровой гражданский активизм, способствующий мобилизации людей для решения вопросов, касающихся развития гражданского общества, с одной стороны, а с другой – институциональным агентам требуется наращивание организационной работы по мобилизационным действиям для раскрытия потенциала людей, в том числе и в цифровой среде. Эти процессы имеют тесную связь, поскольку, по сути, обеспечивают социальные перемены и формируют ответственность людей за свое будущее. Наше исследование призвано преодолеть существующие сегодня лакуны в области технологий привлечения молодежи в цифровой гражданский активизм.
Теоретический контекст
Современные исследователи активно включают в сферу своих научных интересов проблематику цифрового гражданского активизма. Экспансия цифровых технологий в повседневный мир людей определяет и вектор развития гражданского общества. Цифровой гражданин становится новым типом современного человека, а цифровой гражданский активизм – формой вовлечения людей в практики взаимодействия общества и государства.
Опираясь на анализ научной литературы, Е.О. Смолева и А.В. Попов предложили концептуальные рамки гражданского участия, к которым относятся добровольные коллективные действия, цель которых оказание влияния на власть, кооперация с другими гражданами и структурами гражданского общества, повышение осведомленности, при этом действия реализуются в ходе коммуникации с другими гражданами и социальными институтами, а в качестве результата действий предполагается решение социальной проблемы, удовлетворение общественных интересов [Смолева, Попов 2022, 157]. Информационно-коммуникационные технологии расширяют возможности граждан и выступают условием становления субъектности индивидов и групп, появились виды гражданской деятельности, полностью реализуемые в Интернете, однако при полном отождествлении интернет-активизма с формализованными платформами теряется неформальная и делиберативная коммуникация в интернет-среде.
Возможно, ограничения, которые несут в себе институциональные образования в интер-нет-среде, становятся причиной скептицизма молодого поколения. Исследование Е.В. Бродовской с коллегами показало, что российская молодежь демонстрирует позитивные установки в отношении гражданской активности, которые касаются цифрового волонтерства, и выражает недоверие к политической онлайн-ак-тивности; при этом наиболее активной частью молодежи выступают студенты, находящиеся в общественном пространстве вузов [Бродовская и др., 2019, 94].
Вместе с этим мы разделяем позицию исследователей [Логинова, Щебланова 2019], утверждающих, что в эпоху цифровизации развитие форм гражданской активности с использованием интернет-технологий представляется социально эффективным инструментом заявления гражданской позиции, влияния на повестку и решение социально-значимых вопросов. В целом, понимая под цифровым гражданским активизмом совокупность социальных действий и взаимодействий граждан с использованием новых информационно-коммуникативных технологий, реализующих гражданскую позицию и нацеленных на решение актуальных проблем, считаем, что он способствует утверждению гражданской идентичности и становится маркером динамики общества [Антонова, Абрамова, Полякова 2020].
Вопрос о вовлечении молодого поколения в цифровой гражданский активизм может быть рассмотрен в русле теорий потребностей. Согласно А.В. Меренкову, движущим фактором совершенствования человека является потребность в постоянном развитии, которая оформляется в качестве ведущей на основе активной деятельности тех индивидов, которые ищут в окружающем мире варианты улучшения различных сторон как собственной жизнедеятельности, так и других людей [Меренков 2003, 88]. Следует отметить, что, несмотря на «работающие» классические концепции теории потребностей (А. Маслоу, Д. МакКлелланд, Ф. Герцберг), в социогума-нитарном знании появились и находят практическое применение новые интересные идеи, раскрывающие потребностно-мотивационную структуру деятельности индивидов и групп. В этом ряду для нашего исследования особый интерес представляет разработка Э.Л. Деси и Р.М. Райана, по заявлению которых основой мотивации деятельности становятся три группы базовых потребностей: в автономии, в компетентности и во взаимодействии с людьми
[Ryan, Deci 1995; Ryan, Deci 2000]. Т. Гордеева, раскрывая сущность каждой из потребностей, отмечает: потребность в автономии позволяет индивиду ощущать себя инициатором собственной жизни; потребность в компетентности реализуется через стремление быть эффективным и справляться с выдвинутыми задачами; потребность во взаимодействии – это желание иметь прочные связи с людьми, быть принятым и понятым [Гордеева 2010].
Дальнейшее развитие теория нашла в концепции содержания целей, которую предложили Т. Кассер и Р. Райан [Kasser, Ryan 1996]. Авторы выделили внешние (цели-ценности, связанные с богатством, престижем и т. п.) и внутренние цели (цели-ценности, связанные с чувством общности, личностного роста, помощи и т. п.). Люди, ориентированные на внешние цели, оказываются в зоне риска: их благополучие меньше, чем у ориентированных на внутренние цели.
В нашем исследовании на основе данных теорий мы определили группы потребностей, которые могут быть реализованы в цифровом гражданском активизме молодежи. Мы исходим из того, что молодое поколение может реализовать внешние и внутренние цели, при этом последние более предпочтительны, поскольку отвечают за субъективное благополучие человека. К внешним целям отнесем потребности молодежи в получении материальных благ, престижа, вознаграждения, одобрения, влияния и власти, выполнение долга, а также избежание чувства вины, которые и выступают мотивами вовлечения в цифровой гражданский активизм. К внутренним целям отнесем, во-первых, потребность в автономии (участие в принятии решений, волеизъявление, личностный рост, творчество, развитие лидерских качеств, продвижение своих идей, самореализация, избежание чувства зависимости и беспомощности); потребность в компетентности (наличие обратной связи, эффективность активности, обучение, владение цифровыми навыками, повышение самооценки); потребность во взаимодействии (чувство общности, аффилиация (присоединение), общение, утверждение идентичности, приобретение социального опыта, развитие сообщества, знакомство с новыми людьми, эмпатия, толерантность, избежание скуки и однообразия общения).
Методология и эмпирическая база
Целью исследования стало выделение технологий вовлечения молодежи в цифровой гражданский активизм на основании потребностей, задействованных в ходе рекрутинга. Для достижения поставленной цели выдвигались следующие задачи. Во-первых, построить типологию технологий рекрутирования на основании экспертных интервью. Во-вторых, провести триангуляцию полученных моделей с использованием данных опроса молодежи. В-третьих, составить рекомендации по развитию цифровой партисипации молодежи на основе мнений экспертов о способах преодоления барьеров онлайн-участия молодежи через активизацию и удовлетворение потребностей.
Основой статьи выступает авторское исследование с использованием полиметоди-ческой стратегии. Во-первых, в мае – июле 2023 г. проведена серия из 32 интервью с экспертами, включенными в процесс цифровой партисипации молодежи. В качестве информантов, репрезентирующих модель изменения «сверху вниз», привлечены 16 экспертов в области цифровизации, представители структур, обеспечивающих взаимодействие граждан с органами власти, политологи, представители молодежных направлений партий и др. Также 16 экспертов репрезентировали модель изменения «снизу вверх»: гражданские активисты в различных сферах (спорт, молодежные фестивали, образование и др.), представители молодежных организаций и движений, активисты гражданских площадок в Интернет. Территориальный охват включает по 4 эксперта из 8 федеральных округов Российской Федерации (см. таблицу).
Во-вторых, в августе – сентябре 2022 г. проведен стандартизированный опрос молодежи Свердловской области. Всего опрошено 1 150 человек методом онлайн-опроса и раздаточного анкетирования учащейся молодежи. Для построения выборочной совокупности был осуществлен квотный отбор по следующим категориям: пол, возраст, род занятости и тип населенного пункта. Среди опрошенных 43 % составили респонденты мужского пола, 57 % – женского пола. Возрастные сегменты выборки: 14–17 лет (45 %), 18–22 года
Характеристики процитированных экспертов
|
Код \ |
Федеральный округ \ |
Пол \ |
Возраст |
|
Активизм сверху вниз |
|||
|
Э1 |
Центральный |
Мужской |
24 |
|
Э2 |
Центральный |
Женский |
25 |
|
Э3 |
Северо-западный |
Мужской |
23 |
|
Э4 |
Северо-западный |
Мужской |
28 |
|
Э5 |
Южный |
Женщина |
34 |
|
Э6 |
Уральский |
Женский |
45 |
|
Э7 |
Дальневосточный |
Женский |
27 |
|
Э8 |
Северокавказский |
Мужской |
27 |
|
Активизм снизу вверх |
|||
|
Э9 |
Центральный |
Мужской |
31 |
|
Э10 |
Центральный |
Женский |
28 |
|
Э11 |
Северо-западный |
Женский |
29 |
|
Э12 |
Северо-западный |
Мужской |
26 |
|
Э13 |
Приволжский |
Мужской |
27 |
|
Э14 |
Уральский |
Женский |
25 |
|
Э15 |
Уральский |
Мужской |
38 |
|
Э16 |
Сибирский |
Мужской |
32 |
|
Э17 |
Северокавказский |
Женский |
22 |
|
Э18 |
Северокавказский |
Женский |
26 |
(44 %), 23–25 лет (11 %). По роду занятости взаимодействии с людьми связаны с ком- структура опрошенных распределена следующим образом: школьники 8–11-х классов – 14 %, учащиеся учреждений начального профессионального образования – 4 %, учащиеся учреждений среднего профессионального образования – 34 %, студенты высших учебных заведений – 38 %, работающая молодежь – 10 %. Территориальная структура выборки определена жителями Екатеринбурга (мегаполис, 61 %), больших, средних (10 %) и малых городов Свердловской области (29 %). Основным ограничением исследования выступает охват молодежи одного региона. Все информанты и респонденты были проинформированы о целях интервью и дали согласие на сотрудничество на условиях конфиденциальности.
Результаты исследования
Типологизация технологий вовлечения молодежи на основании анализа экспертного мнения позволила выделить 8 основных стратегий рекрутинга. Из них 6 мы относим к опирающимся на внутренние цели-ценности: потребности в автономии лежат в основе личностно-проявительной / заявительной и увлекающей технологий, потребности в компетентности определяют преобразующие и инфраструктурные технологии, потребности во муникативными технологиями; наконец, идейные / ценностные технологии затрагивают все внутренние цели. На реализацию внешних целей-ценностей молодежи ориентированы 2 технологии рекрутинга в гражданский активизм: трендовые и бонусные. В этой структурной последовательности далее рассмотрим технологии вовлечения молодежи в цифровой активизм.
Идейные / ценностные технологии рекрутирования
Данная технология опирается на систему ценностей и идеологические контексты, распространенные у целевой аудитории, тем самым активно задействуя внутренний мир, ценности и цели человека. При этом технология работает как двунаправленная: учитывает интересы молодежи, не имеющие прямого отношения к гражданскому активизму, и, напротив, активизирует ценности, связанные с патриотизмом, самореализацией, социальной ответственностью и др. Значимость последних сегодня возрастает: возможность приносить пользу своему народу и обществу через активное участие в общественной жизни входит в топ-3 ценностных ориентиров молодежи [Ценности молодежи web].
По мнению экспертов, с потребностями в автономии соотносятся следующие аспекты. Первый – это подчеркивание выбора, который совершается человеком. Важно, что сам выбор может быть осуществлен как ранее, и человек выбирает проект согласно уже сформированным ценностным рамкам, так и в момент знакомства с проектом, когда человек сталкивается с социальной проблемой и делает выбор:
Может ли он пройти мимо или нет, может ли примириться (Э5). Выбирает по таким критериям, как близость идеи и ценности проектов (Э2).
Второй аспект связан с тем, что потребности в автономии реализуются через заявление возможности расширить свой ценностный мир, открыть новые ракурсы.
Молодежь часто проявляет больший энтузиазм и открытость к новым идеям (Э18).
Если выделять потребность в компетентности, то экспертная оценка связана с приоритетностью ценностного выбора в сравнении с другими мотивами. Происходит четкое противопоставление ценностной мотивации всем остальным мотивам участия.
У нас 2 пути мотивирования: либо идеология и понимание того, что это важно реально для общества, либо мотивирование материальными благами. Конечно, должен быть какой-то идеологический момент (Э16).
Это довольно искусственная, условная дихотомия (или даже антиномия), которой эксперты не видят в реальных практиках, но через которую пытаются показать обязательность ценностной мотивации для некоего «истинного, правильного» гражданского активизма. Любое участие в гражданской акции должно исходить из сознательного, вдумчивого выбора, ассоциироваться с ответственностью за свои решения. В этой же плоскости лежит водораздел между пришедшими в активизм по своей инициативе и попавшими в проект на формальных или принудительных условиях.
Либо это единицы, которые реально молодцы и реально за это ратуют, либо это вот люди, которых палочной системой загнали участвовать (Э16).
Потребности во взаимодействии с людьми также активно подчеркиваются в ценностных технологиях. Во-первых, происходит опора на лидеров общественного мнения, чьи ценности разделяют потенциальные участники.
Классно, когда есть амбассадоры проекта, которые соответствуют твоим ценностям, мы в целом живем в эпоху блогеров, всяких опинион-ли-деров, на которых ориентируемся (Э10).
Во-вторых, используется акцентирование на сопричастности участников социально значимому, вовлеченность в нечто важное, поскольку:
Все активности всегда про это, про участие в чем-то большом, важном (Э5).
Наконец, эксперты указывают на способность и интерес молодежи к нравственным размышлениям и диалогам.
Они размышляют на достаточно высоком уровне. Но мы живем в обществе, где нам уже 30 лет твердят о том, что главное – ты сам, и им надо сейчас переосмысливать (Э16).
Как относится молодежь к инструментам ценностных технологий рекрутирования? 73,7 % молодых респондентов называют личный интерес главным побудителем к участию в проекте. Чем старше возраст, тем более значим этот фактор: среди 14–17-летних на него ориентированы 68,7 %, среди 18–22-летних – 76,3 %, а в группе 23–25-летних – 84,3 %. Однако рассуждая о том, что человеку дает участие в гражданских проектах, только 19,4 % указывают на выполнение гражданского и нравственного долга, 40 % – на удовлетворение от возможности помогать людям. Предполагаем, что это значимый момент: выбор проекта осуществляется в соответствии с интересами, но они, скорее, имеют не ценностное основание, а направлены на получение различных социальных благ, как мы увидим далее.
Далее технологии вовлечения, основанные на потребности в автономии, мы условно разделили на два направления. Увлекающие технологии в большей мере акцентированы на реализации потребности в интересной, насыщенной, творческой жизни, а заявительные – на проявление своей позиции, самостоятельности, решительности.
Личностно-проявительные / заявительные технологии рекрутинга
Пожалуй, квинтэссенцией этой технологии является фраза:
Сейчас все хотят высказаться (Э7).
Этот запрос молодежи может иметь различные уровни и интенсивность, но именно цифровой гражданский активизм может открывать такую возможность, а следовательно, заявлять о ней необходимо на этапе вовлечения.
Однако за этим запросом в выражении своего мнения стоит довольно сложная мотивационная ситуация. Эксперты несколько по-разному видят ее, показывают разные форматы как самого запроса, так и его реализации в активизме. В одном аспекте делается акцент на культуре соучастия, идее партнерства, равенства, когда молодежь испытывает потребность в признании себя равным субъектом-участником социальных и политических процессов и решений и молодежные онлайн-проекты дают ей такую возможность. Эксперты заявляют, что такая модель заставляет включать в обсуждение ранее исключенные из гражданского участия категории (детей, подростков, инвалидов и пр.).
Молодежь безумно интересует соучастие, она устала в образовательных учреждениях от того, что у них нет права выбора, нет собственного слова. Молодежь приходит, чтобы быть наравне (Э13).
В другом контексте более значимым оказывается запрос на сам факт наличия собственной позиции. Эксперт несколько иронично рассуждает, что истоки этой позиции могут иметь заимствованный характер, но здесь принципиально ее отстаивание.
Зацепить молодежь непросто, всем необходимо высказать свою позицию и стоять за ней (Э5).
ределяющим является сам факт публичного высказывания своего мнения. Если поверхностность, категоричность и демонстративность признаются в качестве типичных характеристик общественного мнения молодежи [Руден-кин 2021], то эксперты по цифровому активизму видят гипертрофированное проявление этих свойств.
Буквально каждый второй записывает видео со своим мнением вообще по любому вопросу. Скорее, это погоня за популярностью, часть самопре-зентации, даже если они не будут иметь веса (Э14).
Каждый четвертый респондент в опросе молодежи при выборе проекта предпочтет тот, где четко реализуются потребность в автономии – где ему дадут возможность подробно высказать свое мнение, предложить свою идею, дать совет. Половина опрошенных полагает, что участие в гражданской активности должно давать возможность самореализации и продвижения своих идей. При этом 35,9 % считают, что в онлайн-проектах высказать свое мнение проще, чем в оффлайн-формате. Однако следует отметить, что в отношении социально-значимых вопросов только 15,9 % опрошенных уже выражали свое мнение в социальных сетях, пабликах, новостных сайтах.
Увлекающие технологии рекрутинга
Необходимо разделить увлекающие технологии на обеспечивающие интерес молодежи к содержательной составляющей проекта и к его технико-визуальному наполнению.
Эксперты уверены, что проект должен вызывать интерес с точки зрения содержания (целей, смыслов). Безусловно, содержательная часть проекта связана с ценностями, но здесь информанты стремятся подчеркнуть и другие аспекты – актуальность, современность («продвинутость»), динамичность, интерактивность, креативность и т. п.
Молодежь в поисках двух вещей: правильные интересные тусовки и справедливость (Э13).
Еще одно мнение связано с потребностью в самопрезентации, когда даже размер аудитории не имеет значения, поскольку оп-
Это выводит на понятие «драйва», который подчеркивает эмоциональную, быструю реакцию, побуждающую к действию. Проект как «ощущение драйва» (Э16) связан с высокой энергетикой, экстремальностью, чувством удовольствия, изменчивостью мира, что заставляет участников находиться в постоянной вовлеченности и проявлять высокую отдачу. Поэтому лучшая «зацепка» в проект – это «интересный кейс для решения» (Э8), который станет и логической задачей, и ассоциативной загадкой, и интеллектуальным усилием, и торжеством открытия.
С точки зрения увлекательности в инструментальном аспекте, инициаторы гражданских проектов все больше внимания уделяют геймификации и визуализации.
Должна быть на уровне приложений предусмотрена геймификация, это проверенная штука, которая всегда работает (Э5).
Эксперты видят успешные примеры геймификации и высоко оценивают перспективность этого инструмента:
Это должно работать, я отталкиваюсь от опыта крупных организаций, например СберОбразо-вания. Нужно просто эти подходы перенести из этих приложений в те, которые по гражданскому активизму (Э9).
Не меньшее значение придается и визуализации. Ощутимое сокращение вербальных текстов и увеличение степени визуализации контента стало базовой тенденцией развития журналистики и интернет-коммуникации. Визуальная форма материала позволяет не только лаконично фиксировать, быстро воспроизводить и тиражировать информацию, но и снимает усталость от чтения, заостряет внимание, повышает включенность, эмоционально воздействует, позволяет применять небанальные приемы.
Чтобы привлечь молодежь к цифровому активизму, можно использовать яркую и запоминающуюся визуальную стилистику, интерактивные форматы (Э18).
Эксперты определяют четыре ключевые задачи, связанные с визуализацией: выделение поста в информационном потоке, повышение уровня доверия пользователей, донесение информации в максимально быстрой и наглядной форме, углубление усвоения транслированных образов и контента.
Важно информацию уметь упаковать, чтобы цепляло. Тут надо суметь перестроиться от классических подач информации, как это делалось 30 лет назад (Э16).
Если вокруг проекта идет активное обсуждение, то этот медийный «шум» способен заинтересовать 23,9 % молодых респондентов. Каждый третий молодой человек хотел бы, чтобы проект превратился в его любимое дело, стал для него хобби.
Следующая потребность – в компетентности – реализуется в гражданской активности через два ключевых аспекта: с одной стороны, через наиболее аутентичную форму – решение социальных проблем, « спасение мира, особенно там, где власти не справились » (Э5), с другой – через преодоление барьера технической сложности участия.
Преобразующие технологии рекрутинга
В сложной системе видов деятельности человека социально-преобразующие действия выступают как добровольное посильное участие в улучшении общественных отношений и окружающих условий. Преобразующая составляющая имманентно присуща и цифровой партисипации:
Молодежь часто ориентирована на решение актуальных проблем (Э7).
Эксперты подчеркивают несколько моментов в реализации потребности в компетентности через данную технологию рекрутинга. Прежде всего, это акцент на конкретности проблемы, когда абстрактные, общие фразы неэффективны, а сверхконкретизация, напротив, наиболее понятна и притягательна для потенциальных участников.
Проекты, которые позволяют что-то пофиксить (исправить), устранить несправедливость, быстро получить результат (Э15).
Часто обращение к гражданским инициативам по преобразующей технологии спровоцировано событиями-триггерами. Это может быть одно конкретное событие или комплекс, в собственной жизни или в другом государстве, затрагивающее реальные или экзистенциальные проблемы – но оно становится особой ситуацией, когда человек входит в практику гражданского активизма.
Молодежь приходит в поисках справедливости, в поисках изменений. Мы видим мусор на улицах, мы идем за справедливостью, сейчас все изменим (Э13).
Проекты с « быстрыми результатами » предпочтительнее, поскольку одна из актуальных проблем цифровых инициатив связана со сложностью обратной связи и презентации результатов долгосрочных проектов – аудитория уже переключилась, информационный поток размыл актуальность проекта, и участники, и организаторы остаются с чувством незавершенности и недооценки эффективности проекта.
Не менее важным является фактор доступности информации об уже достигнутых результатах – в рамках текущего или предыдущего проектов. Страница организатора должна содержать реальные отзывы и факты, источники должны быть вызывающими доверие у целевой аудитории проекта, а также учитывать возможности современных технологий по проверке фото, видео и иных материалов: 65 % молодежи проявляют «информационный скептицизм» и перепроверяют вызвавшую подозрение информацию [Щербаков web].
Также важны живые отзывы, реальные результаты, продемонстрированные на странице мероприятия. Никому не хочется впустую тратить свое время (Э12).
Здесь проявляется дуализм базовых черт поколения Z: прагматизм (как расчет соотношения затраченных ресурсов и полученных результатов) и стремление к творческому труду. Эксперты говорят о сочетании:
...возможности активного, творческого участия и реального (в смысле гарантированного. – С. А., Н. А. ) влияния на ситуацию (Э17). Главное – конечная цель проекта, чтобы у молодежи был стимул чего-то достичь. Достижение результата и превзойти себя (Э3).
Респонденты из опроса молодежи подтверждают значимость потребности в компетентности и, следовательно, показателей преобразующих технологий: 42,7 % выберут про- ект при условии высокой вероятности реальных изменений в общественной жизни. В дополнение к этому 32,4 % должны на этапе входа в проект испытывать высокое доверие организатору, 29,3 % будут обязательно смотреть информацию о результатах предыдущих акций. Все три показателя значимо возрастают от самой младшей к более старшей категории: достижение реальных изменений очень важно для 36,7 % в группе людей 14–17 лет и для 58,3 % в группе 23–25 лет. Около половины опрошенных считает, что именно стремление улучшить жизнь в городе и стране становится ведущим мотивом для гражданских активистов.
Инфраструктурные технологии рекрутинга
Рассматривать цифровую партисипа-цию только как саму деятельность по участию в общественной жизни, без учета характеристик внешней инфраструктуры цифровой среды, не представляется возможным. Цифровизация гражданского активизма создала определенную зависимость субъектов-участников от используемых цифровых платформ и их функционала, программного обеспечения, алгоритмов, нейросетей, ботов и пр.
Отсюда экспертами заявляется идея о потребности в легкости включения в цифровые проекты с точки зрения навигации, голосования и т. п. Любые действия человека внутри проекта должны быть максимально простыми, удобными, быстрыми, связанными с привычными манипуляциями в мобильном устройстве и т. д.
Обязательно нужно делать онлайн-форматы участия удобными для смартфонов. Если видео нельзя открыть с телефона нормально, его никто не будет смотреть и не узнает о мероприятии (Э17).
В идеале потенциальный участник должен «соскальзывать» в проект – вроде бы только что увидел информационный пост, а уже участвует в проекте.
Если откликается, ты в эту же минуту можешь получить всю информацию о проекте и уже приступить к действиям (Э12).
Несмотря на возрастающий уровень цифровой грамотности населения и высокие показатели в молодежной когорте, 18,7 % опрошенных полагают, что недостаточное владение цифровыми навыками до сих пор может выступать барьером для участия молодых людей в цифровом гражданском активизме. Четверть опрошенной молодежи выбрали бы проект, где можно быстро проголосовать, имеется очевидная кнопка для участия, не нужно много писать или говорить. Наличие категории таких «быстрых» участников должно предусматриваться на этапе рекрутинга. Однако необходимо найти и не перейти грань между инфраструктурным удобством и слактивизмом как пассивной формой цифрового гражданского участия.
Далее потребность во взаимодействии определяет значимость коммуникативных технологий вовлечения.
Коммуникативные технологии рекрутирования
Это направление вовлечения связано с тремя ключевыми моментами. Во-первых, оно раскрывается через удовлетворение потребности в общении, приобретении новых знакомств и друзей.
У многих есть потребность в общении и каких-то социальных связях, если им будет понятна их роль, то возможно люди потянутся чем-то заниматься (Э9).
Во-вторых, одним из наиболее популярных способов информирования о проектах выступает распространение среди своих друзей, размещение в социальных сетях.
Играет большую роль сарафанное радио, друг репостит новость, говорит, что участвует, призывает подписчиков тоже помочь (Э12).
Если сначала отклики на подобные призывы могут иметь единичный, нерегулярный характер, то с высокой вероятностью в какой-то момент человек проходит одну из так называемых «точек невозврата», когда он обнаруживает вокруг себя множество единомышленников и переходит в категорию постоянных гражданских активистов.
В-третьих, именно онлайн-активизм является наиболее уязвимым с точки зрения критики и буллинга, поскольку любое высказывание и репост сразу становятся общедоступными (мы не берем здесь во внимание анонимные форумы и подобные цифровые площадки). 75 % молодых россиян сталкивались с оскорблениями в свой адрес при общении в Интернете, каждый третий сам иногда оскорбляет собеседников [75 % молодых россиян... web]. Отсюда:
...в цифровом активизме важно социальное одобрение, если ты увидел проект у друзей, у лидеров мнения, то ты готов в нем себя проявлять (Э4).
Тем самым обеспечиваются защита себя от потенциального буллинга, формирование гарантированного круга общения и выхода на внешние потребности, поскольку часто одобрение активисткой деятельности со стороны референтных групп и значимых персон в цифровой среде также имеет публичный характер.
-
44,3 % опрошенной молодежи подтверждает, что участие знакомых и друзей способно стать и для них стимулом вовлечения в проект. Особенно это важно в возрасте 18– 22 лет (48,3 %), и уже меньше влияет в 23– 25-летней группе (36,2 %). В качестве защитного механизма от публичности 34,1 % обращают внимание на анонимность участия (меньше всего об этом беспокоится самая молодая группа 14–17-летних). Отметим, что прямые просьбы поучаствовать в проекте, поступающие от друзей, даже менее эффективны – на них готовы среагировать 16,2 %. Но если посмотреть на ожидаемую пользу от участия в гражданских активностях, то самый распространенный ответ связан именно с общением с интересными людьми, появлением новых друзей (61 %). Коммуникативная составляющая занимает второе место среди рекрутинговых технологий (после идеологической) по значению для молодежи и первое в рейтинге мотивов участия.
Далее перейдем к характеристике моделей рекрутинга, основанных на реализации внешних целей-ценностей.
Трендовые / мода-ориентированные технологии рекрутирования
Понятие тренда довольно активно входит в современный научный лексикон. Мно- гоплановость термина не дает возможность его четкого определения в рамках данной статьи, однако обозначим базовый момент. Содержательно тренд фиксирует основное направление движения процесса, общественного мнения на определенном этапе развития. Тренд может выступать как усиливающий ресурс, работающий на личные цели, совпадающие с его направлением [Нейсбит 2003]. Временность и доминантность тренда позволяют дополнить эту технологию понятием моды.
Исходя из этого, эксперты говорят о механизмах рекрутинга, основанных на учете и привлечении наиболее популярных тематических зон, блогеров, брендов и т. п.
Все зависит от неких трендов. Вот до последних событий это была экология, сейчас все репостят и пишут посты о ситуации в стране и мире (Э14).
Зацепить может широкая огласка. Поддержка знаменитых блогеров, кумиров (Э12).
При этом эксперты не отрицают, что вовлечение в трендовые проекты не всегда означает поверхностный популизм и может сопровождаться ценностной убежденностью и целеустремленностью. Однако акцент делается на приоритетности внешнего автора-носителя идеи, к которому присоединяется молодежь.
Сопричастность к тренду. Так бренд экоактивизма стал не просто помощью природе, а неким честным желанием быть сопричастным к помощи миру (Э2).
В свою очередь, формируется и мода на сам гражданский активизм. Половина молодых россиян признают ценностью участие в общественной жизни, волонтерстве и помощи другим людям [Ценности молодежи web].
Да, мода есть. VK-паблик, telegram-канал, YouTube стали трибунами, с которых модно вещать свою точку зрения на решение городских проблем (Э15).
Эксперты неоднозначно относятся к тренду на общественную активность. Они видят в нем скорее инструментальный подход к активизму, использование его в целях реализации других задач, но при этом призна- ют, что социальный эффект может быть значимым именно в силу задействования эффективных каналов распространения постов и роликов.
Во многом в активизм приходят люди, которые ищут популярность, хайп. У человека может быть видеоролик, собравший несколько миллионов просмотров. То есть снял одно видео – и на этом его активизм закончился. Но возможно, кто-то посмотрел и действительно что-то сделал (Э13).
Сама молодежь не признает влияние на нее модных тенденций. Только 18 % заявляют, что поддержат проект при участии в нем значимых персон, 13,1 % ориентированы на проекты с поддержкой от известных блогеров. 10,1 % готовы рассматривать проект, только если у него есть большое количество подписок (участников), лайков, репостов. В свою очередь 7,3 % участников опроса признаются, что готовы использовать гражданские акции в своих интересах, если на них есть возможность «засветиться», обрести популярность, «подняться» на этой теме (преимущественно это самые юные респонденты). Таким образом, в ситуации, когда различными исследовательскими группами выстраиваются рейтинги инфлюенсеров (СМИ, социальных медиа, властных институтов, блогеров и т. д.) с целью выявления их влияния на практики молодежи, сами молодые люди не готовы признавать значимость этого влияния в различных сферах, в том числе и в гражданском активизме.
Бонусные / прагматические технологии рекрутинга
Извлечение из партисипации личной пользы выступает базисом приглашения молодежи в цифровой гражданский активизм. Эксперты практически во всех интервью упоминают необходимость подкрепления других механизмов вовлечения бонусными технологиями. Зачастую именно последние рассматриваются в качестве основных: материальное, финансовое, моральное, символическое и иное стимулирование способно порождать как первоначальный интерес к проекту, так и превращать активизм в устойчивую, повторяющуюся практику.
Популярны развивающие, коммерциализованные, предлагающие различного рода льготы, скидки, премирование, возможности карьерного роста (Э16).
Прагматизм, проявляющийся в преобразующих технологиях как ожидание социальнозначимого результата, в этой модели направлен на пользу для себя, получение личностного вознаграждения, развитие индивидуальных траекторий и пр. Материальные бонусы расцениваются экспертами как типичная ситуация вовлечения, ставятся на первое место.
Ты же тратишь свое время, ресурсы, чтобы поучаствовать. Поэтому активизм должен быть чем-то объясним, ты должен оттуда с чем-то выйти, со знанием, опытом (Э10).
Одна из объяснительных моделей связана с тем, что происходит своеобразный переход от абстрактных, метафорических категорий к более конкретному знанию, получаемому человеком в процессе непосредственного опыта. Материальный стимул здесь совершает некое «заземление»: например, от абстрактной идеи развития спорта к получению сертификата на месяц занятий в спортклубе.
Нельзя сказать четко, что молодежь интересуют вопросы экологии или доступность спортивных объектов. В общей части молодежь приходит за вполне простыми житейскими моментами (Э13).
Бонусные технологии могут быть соединены с другими техниками вовлечения: увлекающими («интересные призовые», «интересный опыт»), коммуникативными («оставь отзыв – будет тебе счастье», «привел друга – получи преференции»), заявительными («расширение социальных связей, публичности, узнаваемости, рост численности виртуальных френдов») и др. Современная молодежь прежде всего верит в себя, стремится к счастью, поэтому любой проект должен давать уверенность в поддержке и развитии личностных интересов.
Надо им дать понять, что ты таким образом делаешь себе лучше (Э11).
Символичность бонусов не снижает их значения – они могут создавать ментальные привязки, чувство удовольствия, активизировать воспоминания и пр.
Какие-нибудь розыгрыши, может быть плюшки, которые мы можем дать. Нам не жалко, а кому-то приятно. Такой вот знак, память о мероприятии (Э6).
Различные исследования фиксируют наличие бонусной составляющей в мотивации молодежи, участвующей в общественной активности. 52,8 % наших респондентов полагают, что участие в гражданских инициативах должно давать новый опыт и знания, 47,2 % рассчитывают на полезные знакомства, 31,7 % пошли бы за опытом общественно-политической деятельности, а 25,7 % ждут навыков лидерства. Материальные стимулы (льготы на ЖКХ и проезд в транспорте, скидки на культурный досуг, отгулы на работе) стали бы сами действенными для участия россиян в экоактивизме [Экоактивизм... web], и молодежь меньше остальных возрастных групп готова отказаться от таких бонусов.
Заключение
В целом современные исследования, в том числе результаты данного проекта, убедительно демонстрируют, что реализация базовых потребностей несет выгоды как для индивидов (что связано с повышением субъективного ощущения благополучия), так и для институциональных агентов, которые, используя действующие инструменты по реализации базовых потребностей, привлекают разные группы населения в различные виды и формы социальных действий и взаимодействий, в том числе и в цифровой среде. В последнем случае речь идет о разработке конкретных направлений и мероприятий, ориентированных на своего рода «поддержание» базовых потребностей, которые могут быть удовлетворены в практиках цифровой гражданской активности.
Базовые потребности (автономия, компетентность, взаимосвязь), выделенные Э.Л. Деси и Р.М. Райаном, необходимы для поддержания внутренней мотивации (внутренние цели-ценности). Так, в исследовании Дж. де Мейер с коллегами было выявлено, что учащиеся, вовлеченные в занятия физической культурой с применением со стороны педагога поддер- живающей автономии, получают больше удовлетворения и используют инструменты оппозиционного неповиновения значительно реже, чем в случае контролирующей модели проведения урока учителем [De Meyer et al. 2016].
По результатам нашего проекта большинство рекомендаций со стороны экспертного сообщества также касались формирования и развития именно внутренних ценностей-целей молодежи, связанных и реализуемых в цифровой партисипации. Содержательный и количественный перевес этих рекомендаций можно рассматривать как подтверждение нашего тезиса о приоритетности внутренних целей с точки зрения достижения субъективного и социального благополучия молодежи.
Цифровой активизм оказывается эффективным и доступным механизмом реализации внутренних целей при условии преодоления ряда отношенческих, инфраструктурных, технологических, компетентностных и иных барьеров.
Таким образом, современные технологии вовлечения в гражданский активизм представляют собой сложный комплекс взаимообусловленных и дополняющих мероприятий и техник. Идея эффективного рекрутинга предполагает, прежде всего, мотивацию, основанную на достижении внутренних целей. Это создает условие для повторного обращения к гражданскому активизму, поскольку формирует у личности ощущение субъективного благополучия и социальной значимости. Разработанная типология технологий вовлечения и рекомендации по преодолению существующих барьеров участия молодежи могут выступать основой для разработки программ развития гражданского активизма молодежи, усовершенствования практик продвижения гражданских инициатив, использоваться в программах обучения молодежных лидеров и др.