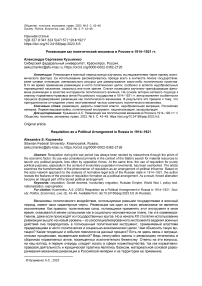Реквизиция как политический механизм в России в 1914-1921 гг
Автор: Кузьменко Александра Сергеевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
Реквизиция в военный период всегда изучалась исследователями через призму экономического фактора. Ее использование рассматривалось прежде всего в контексте поиска государством, реже силами оппозиции, материального ресурса для развертывания каких-либо политических проектов. В то же время применение реквизиции в чисто политических целях, особенно в аспекте недобровольных перемещений населения, оказалось вне поля зрения. Статья посвящена изучению трансформации феномена реквизиции в качестве инструмента политического влияния. На основе акторно-сетевого подхода к анализу нормативно-правовых актов Российского государства в 1914-1921 гг. автор выявляет особенности процесса формирования реквизиции как политического механизма. В результате это привело к тому, что принудительное отчуждение стало неотъемлемой частью советского политического механизма.
Реквизиция, декреты советской власти, недобровольная миграция, российская империя, первая мировая война, политический инструмент, национализация, экспроприация
Короткий адрес: https://sciup.org/149142703
IDR: 149142703 | УДК: 327.8:341.324.5(47+57)“1914/1921” | DOI: 10.24158/pep.2023.5.6
Текст научной статьи Реквизиция как политический механизм в России в 1914-1921 гг
УДК 327.8:341.324.5(47+57)“1914/1921”
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия, ,
,
Феномена реквизиции исследователи касались главным образом с точки зрения экономических особенностей и последствия реализации механизма (А.А. Асташов (2016), Т.В. Алексеев (2014), М.В. Оськин (2018), П. Алешкин (2007)). Нередко обозначался силовой характер изъятия, но определение причин, как правило, разделяло авторов. Когда одни подчеркивали системность проводимой имперскими военными и гражданскими чинами работы (М.П. Белинская, М.В. Оськин), другие показывали возраставшую хаотизацию, возлагая ответственность на дробление полномочий среди разных органов (Т.В. Алексеев). При этом исследователи сосредоточивались на практике применения реквизиции. Юридическая сторона вопроса рассматривалась со стороны институциональных изменений – создания административных органов, эволюции их полномочий.
Исследователи не обращались к политологическому анализу феномена реквизиции, так как хозяйственная (и иногда социальная) сторона затмевала применение данного инструмента. Между тем именно нормативное-правовое описание очерчивало его границы и таким образом формировало восприятие реквизиционного механизма в общественном сознании.
Поэтому целью исследования является анализ нормативно-правовой основы реквизиции в России в 1914–1921 гг. При этом вести такой анализ, на наш взгляд, следует с позиций интеллектуальной истории. Это обусловливает применение акторно-сетевого подхода как базового для решения поставленной задачи. Его использование позволяет взглянуть на совокупность нормативно-правовых актов как единое поле зарождения и эволюции идеи реквизиции.
Реквизиция как феномен, предполагающий «принудительное возмездное изъятие государством имущества у собственника»1, была известна правовому полю Российского государства и до начала Первой мировой войны. Основной сферой ее применения являлись преступления против фигуры правителя (князя, царя, императора) и государства как институциональной основы устройства общества. В неспокойные времена военных конфликтов использование данного инструмента усиливалось, особенно с приближением неприятельских войск и вынужденным оставлением территорий. Однако полноценного (с изданием отдельного специализированного акта) нормативного закрепления при этом не происходило, хотя традиция делала эту процедуру до некоторой степени «знакомой» как населению, так и административным институтам.
Именно поэтому не стоит удивляться, что к началу крупномасштабного военного столкновения в Российской империи уже существовали нормативные акты, посвященные реквизиции. Приложение к ст. 23 Общего учреждения губернского из II тома Свода законов Российской империи от 1912 г. устанавливало, что при нахождении крепости в осадном положении «командующему ар-миею предоставляются в местностях, объявленных на военном положении… назначать общия и частныя реквизиции»2. При этом в предыдущей статье 22 оговаривалось право коменданту крепости, находящейся на военном положении, «в случае надобности» «брать от них [жителей крепости] необходимыя для работ орудия и материалы, перевозочныя средства и припасы довольствия», но «производя за работы и за все взятое уплату по утвержденным в установленном порядке ценам, или выдавая квитанции»3. Как видим, о полноценной реквизиции речи не шло.
Однако уже 3 августа 1914 г. было издано Высочайше утвержденное Положение Военного совета, которое утверждало Положение о порядке производства реквизиции не только во время войны, но и в период мобилизации4. Фактически это был инновационный правовой акт для российского законодательства. Впервые феномен реквизиции получил статус регулярного политического инструмента и обрел собственное содержание, отличное от такового конфискаций и судебных процедур.
Ранее в ст. 139 гл. 6 кн. XVIII Свода военных постановлений 1869 г. реквизиция определялась как «принудительное приобретение предметов довольствия от жителей, с производством платы или же с выдачею квитанции, по утвержденным тарифам или установленным ценам»5. В новой редакции понятие было расширено вплоть до изъятия «всякого рода местных средств, необходимых для удовлетворения потребностей армии», а также «обязательного наряда местных жителей для производства всякого рода работ, вызываемых военными обстоятельствами»6. При этом ушла обязательность возмещения понесенных затрат: в новой статье 139.1 предусматривалось существование бесплатных изъятий не только в неприятельских областях, занятых в период военных кампаний, но и на территориях нейтральных государств. Интересно, что в таком случае они назначались «в виде меры воздействия на местное население»1. Это является своего рода индикатором наличия планов государственного института по возможному применению реквизиции в политических целях.
Кроме специального назначения лиц, ответственных и имеющих право производить реквизиции, Положение законодательно очерчивало границы данного инструмента. Начальник, вводивший реквизицию, должен был четко закрепить район проведения мероприятий, количество и тип реквизируемых ресурсов, время и порядок проведения реквизиций2. Данный шаг косвенно свидетельствовал сразу о нескольких общественно-политических тенденциях российской действительности 1910-х гг. Во-первых, реквизиция рассматривалась государственным институтом как мера регулярная, вполне естественная во время любой, не только военной, но и, что важно, мобилизационной ситуации. Это существенно расширяло права и полномочия государства – фактически под предлогом мобилизационных кампаний оно могло конфисковать имущество у любого жителя. Во-вторых, введение института безвозмездной реквизиции также позволяло государственному институту вторгаться в область частной собственности, несмотря на ее закрепление на законодательном уровне.
Данные нормативные расширения перемещали исследуемый феномен из узкоспециализированной военной сферы в область обычного правоприменения, а соответственно – создавали предпосылки по превращению реквизиции в политический механизм. Этот тезис подтверждается в ст. 5 указанного Положения: «Если власти (гражданские или общественные) скрываются – производящий реквизицию обращается к пользующимся уважением зажиточным местным гражданам… причем часть этих граждан может быть задержана на время реквизиции в качестве залож-ников»3. Далее в ст. 6 следуют не менее жесткие меры, предписывающие в случае враждебного настроения со стороны населения (критерии для его определения полностью отсутствуют!) приступать к сбору силами войск в присутствии насильственно сделанных свидетелями местных жи-телей4. Указанное отсутствие критериев степени враждебности местного населения вкупе с правом применения реквизиции как инструмента не только в военное время давали возможность использовать этот механизм в качестве политических актов усмирения и/или профилактических мер противодействия в том числе антигосударственным настроениям.
В результате размывался признак чрезвычайности ситуации, в которой должна была осуществляться реквизиция. Фактически в данном нормативном акте была заложена основа для дальнейшего применения этого механизма вне условий военного времени или без обязательного их подтверждения общегосударственными актами. Неслучайно позднее реквизиция станет синонимом экспроприации, более того – данные феномены вскоре сольются в юридической практике.
Усугубляла ситуацию и значительная хаотичность в применении этого нормативного акта. Положение предоставило право реквизировать широкому кругу лиц (от ведомств до отдельных командиров дивизий). Это хаотизировало процесс изъятия, возрастало число конфликтов на данной почве (Соловьева, Кобзева, 2017: 205). Е.А. Соловьева и Т.А. Кобзева описывают, как отсутствие выработанной системы возмещения убытков беженцам по реквизиционным карточкам ухудшало их положение и тем самым усиливало давление на государственные структуры. Утеря или отсутствие реквизиционной квитанции требовало дополнительных документальных подтверждений, что фактически невозможно было сделать в условиях приближающейся линии фронта. В результате «по мере продвижения неприятеля с запада на восток и оккупации все большего числа губерний возникали проблемы по быстрому удовлетворению ходатайств беженцев по реквизиционным квитанциям» (Соловьева, Кобзева, 2017: 205). Положение этой категории недобровольных мигрантов стремительно ухудшалось, с одной стороны – маргинализируя их, а с другой – усиливая давление на благотворительные организации и государственные органы, занимавшиеся призрением пострадавшего от войны населения.
Практика применения реквизиции в отношении недобровольного миграционного потока не только способствовала дестабилизации обстановки как в местах исхода, так и в регионах-реципиентах, но также приводила к стиранию различий между ней и механизмом конфискации, существуя в пограничной нормативной области. На практике фактически невозможно было отделить реквизицию от изъятия имущества в рамках принудительного выселения или депортации. Статус беженца давал возможность получения реквизиционных карточек, признавая его носителя жертвой военных обстоятельств. В то же время выдворенные по приказам военных начальников «выселенцы» рождали сомнения со стороны как государственных чиновников, так и общественности и тем самым ставили вопрос о благонадежности «не сбежавших» от неприятеля. Возникала неуверенность, не является ли произведенное отчуждение актом наказания, например, за пособничество врагу. Это переводило реквизиционные действия в совершенно иной статус.
Дополнительной причиной смешения реквизиции с другими государственными мерами стала еще одна интересная особенность реализации Положения. Реквизиция начала осознаваться в терминах прекращения права собственности. Как результат – возникли новые законодательные пробелы в регулировании, что подмечает Е.Н. Афанасьева1.
Заметим, такое прерывание – вещь опасная. Суть собственности – это принадлежность кому-либо или чему-либо. Соответственно, для того чтобы существовать, объект собственности (продукт, ресурс, право) должен переходить от одного владельца к другому. Но нормы Положения не закрепляли прерывание прав частного лица возникновением прав государства. В результате ответственность за состояние, использование, судьбу собственности, имманентно связанная с феноменом права владения и распоряжения, не появлялась; она словно растворялась в нормативном пространстве. Статья 15 закрепляла только ответственность начальника прикрытия и только «во время производства реквизиции, так и при следовании в район, назначенный для реквизиции, и обратно»2.
Несмотря на все сказанное, ряд исследователей полагают, что в период существования империи применение реквизиции не выходило за формальные рамки и реализовывалось совместно с закупкой и поставкой продукции. М.П. Белинская утверждает, что изъятия не являлись «актом произвола и беззакония»; по ее мнению, они осуществлялись «в порядке и на условиях, строго определенных законодательством» (2018: 151).
Действительно, данную позицию можно косвенно подтвердить осторожными действиями Особого совещания для объединения мероприятий по обеспечению действующей армии предметами боевого и материального снабжения, созданного в том числе в целях систематизации реквизиций. При анализе журналов его заседаний выделяется сдержанная и нередко дипломатическая позиция Совещания в отношении мероприятий изъятия. Так, при обсуждении проекта Правил о мобилизации промышленных предприятий, разработанного Министерством торговли и промышленности Российской империи, «некоторые члены Совещания указывали, что ввиду существующего ныне весьма тревожного состояния рабочих масс проведение этого проекта в настоящее время следует признать неблагоприятным; в случае же признания необходимости такого проведения его надлежало бы исполнить с особой осторожностью»3.
Назревающее противоречие может быть разрешено с точки зрения теорий практик, в частности возможных способов их изменения Ч. Спинозы, Ф. Флореса и Х. Дрейфуса. Изменить практику в рамках данной теории значит поменять способ координации жизненного пространства человека, его привычного обихода, предметов материального мира, идентичностей, появляющихся во время взаимодействия с привычными предметами материального мира (Spinosa et al., 1997: 17–21).
Применение этой теории показывает, что введенная Положением норма запустила процесс артикуляции, когда новая, девиантная, неявная или специфическая практика была замечена, сформулирована/проговорена (в том числе действием) и таким образом стала видимой и очевидной для всего общества. После артикуляции она стала активно насаждаться и распространяться.
В результате такого «переоткрытия» практика реквизиций фактически получила новое «имя», была перенесена в новый контекст обыденной жизни. Закономерным стал следующий шаг – применение данной практики для решения новых задач. Так, перевод на мобилизационное положение отдельных предприятий, дававший возможность проводить реквизиционные процедуры, начал использоваться Особым совещанием в том числе как способ усмирения волнений рабочих.
Подтверждающим высказанную идею – дальнейшее расширение зон использования механизма реквизиции – назовем и факт разработки Правил ликвидации бездокументных эвакуированных с театра военных действий грузов. Они были утверждены постановлением министра путей сообщения 26 сентября 1915 г. Кроме прочего в них кратко (в ст. 6 и 7) отмечался порядок вывоза и оплаты таких грузов, подлежащих реквизиции4. При этом условия, при которых бездокументный груз мог быть подвергнут данной процедуре, ни в Правилах, ни в иных документах обнаружить не удалось. Вывод напрашивается сам собой – реквизиция к осени 1915 г. воспринимается как совершенно регулярный, обыденный механизм, уже частично выведенный за пределы феномена чрезвычайности.
Примечательно, что практически в это же время, 11 ноября 1915 г., Особому совещанию для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу пришлось установить критерии, при которых оказывалась возможной реквизиция в отношении невостребованных получателем на станции грузов. Можем предположить, что причина здесь кроется не в исключительности меры изъятия, а в полномочиях и регулярности самого Совещания – оно не относилось к обычному исполнительному аппарату (в отличие от министра путей сообщения). На наш взгляд, этот документ лишь подчеркивает выведенную позицию – реквизиции подлежали любого вида продовольственные (в силу направленности организации) невостребованные грузы, «в коих названными Уполномоченными [петроградским и Московским уполномоченными Председателя Особого совещания] будет признана нужда для населения»1. Собственно, именно в их распоряжение и поступали данные грузы, как видим, крайне широкого определения2.
Смена формы государственного устройства, равно как и смена политических институтов, не оборвала, а напротив, продолжила и развила опыт применения реквизиции.
Временное правительство, провозгласив свои властные полномочия, с необходимостью должно было выразить отношение в том числе и к столь острому вопросу, как обеспечение армии продовольствием, а соответственно, и вопросу реквизиции. В феврале 1917 г. в приказе об образовании местных продовольственных комитетов отмечалась «необходимость принять самые решительные меры к усилению скорейшей поставки хлеба для нужд армии и населения»3. Продовольственная комиссия предлагала, не прекращая обычных закупок и разверстки, «немедленно… приступить к реквизиции хлеба у крупных земельных собственников и арендаторов всех сословий… а также к реквизиции запаса хлеба у торговых предприятий и банков»4.
Здесь становится хорошо заметно, что к 1917 г. реквизиция перестала зависеть от вида и идеологической направленности политических структур. Она воспринималась органами управления как один из имеющихся в их руках нормативно установленных политических механизмов. Из ресурса для обеспечения армии на линии фронта реквизиция превратилась в инструмент обеспечения уже населения продуктами первой необходимости.
25 марта 1917 г. вышло Положение о передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах, продолжающее данную тенденцию5. Акт устанавливал, что все количество хлеба (под которым понимался список зерновых и бобовых культур, а также их производных), продовольственного и кормового урожая должно было поступать в распоряжение государства6. Передача строго закреплялась за государственными продовольственными орга-нами7. Документ предусматривал обязательства государства по оплате всего подлежащего отчуждению хлеба8, но при этом возлагал ответственность (вплоть до уголовной) по сохранности запасов, подлежащих реквизиции, непосредственно на владельца продукта9. В случае отказа от добровольной реквизиции последняя производилась принудительно (инструкция о принудительном отчуждении хлеба в порядке ст. 8 и 21 Постановления Временного правительства о передаче хлеба в распоряжение государства10).
Идентичная ситуация сложилась с кожевенными товарами. По Положению о передаче кож в распоряжение государства, вышедшему 21 апреля 1917 г., лица, виновные в нарушении реквизиции установленных объемов сырых и выделанных кож крупного рогатого скота, конских и верблюжьих, подвергались тюремному заключению на срок до 1 года и 4 месяцев11.
Фактически постановления Временного правительства зафиксировали ситуацию перехода феномена реквизиции в статус чисто политического механизма. Данная тенденция сохраняется на первых этапах становления новой советской власти. Например, Постановление правительства от 27 октября 1917 г. закрепило право органов городского самоуправления «реквизировать труд учащихся высших учебных заведений и старшего класса средних учебных заведений для работы в продовольственной организации»1. Здесь же было введено право реквизиции в отношении всех частных продовольственных запасов, превышающих установленные городом размеры2.
Декретом Петроградского совета 8 ноября 1917 г. вводилась реквизиция теплых вещей для солдат на фронте у богатых классов – каждая квартира, месячная плата за которую составляла более 150 р., должна была предоставлять по одному одеялу и одной теплой вещи (полушубок, теплое белье, валенки и т. п.)3. Впоследствии было опубликовано дополнение к этому декрету, согласно которому устанавливалось подобное единовременное денежное обложение владельцев частных фабрик, заводов и других предприятий. Неуплата в срок влекла за собой штраф, а невнесение штрафа – конфискацию части или всего имущества. Для реализации декрета была даже создана специальная комиссия, обратившаяся к Советам других городов с призывом распространить их практику на подвластные районы.
В декрете Совета народных комиссаров (СНК) об организации снабжения от 21 ноября 1918 г. реквизиция строго закрепляется за комитетами продовольствия или уполномоченными ими органами4. Эти институции, по сути заимствованные у свергнутого правительства, субстанционально были проводниками новой власти. Заметим, что реквизиция в данном документе была равноположена с такими инструментами политики, как конфискация, муниципализация и национализация. Таким образом, в ст. 5 этого декрета молодая власть закрепила реквизицию как один из политических инструментов, естественных и соответствующих провозглашаемой идеологии нового государственного образования.
Этот тезис можно подтвердить серией законодательных актов СНК, выпущенных за короткий период в конце ноября 1918 г. По декрету от 26 числа процедура реквизиции распространяется на библиотеки, книжные склады и книги вообще, товары, ни коим образом не относящиеся к товарам первой необходимости, а также организации, не имеющие влияния на обороноспособность политического образования5. В этот же день вышло новое Положение о реквизиции на железнодорожных станциях6. Оно распространялось на максимально широкий список товаров – фактически ограничения по видам реквизируемых материалов отсутствовали.
В это время реквизиция окончательно смешалась с другими формами изъятия различных предметов у населения. Термин растворился в нормативном поле – дальнейшие нормы отчетливо повторяли весь реквизиционный механизм, либо употребляя данное обозначение синонимично сдаче, национализации, изъятию и т. д., либо не используя вовсе. Так, 10 декабря 1918 г. вышел декрет СНК о сдаче население оружия вместе с прилагаемой к нему инструкцией7. 12 декабря 1918 г. были изданы Постановление СНК о сдаче и реквизиции всех повозок военного образца и относящихся к ним принадлежностей и запасных частей и инструкция к нему8.
В процессе становления в качестве политического механизма реквизиция потеряла связь с чисто экономической базой, основывавшейся ранее как на служебном перемещении больших масс населения, так и на недобровольном. Именно на законодательном уровне оказался ярко выделен переход от экономико-демографического фактора к политико-демографическому. Несмотря на то что и в первом, и во втором случае население рассматривалось как ресурс, трансформация базы феномена реквизиции надолго переместила его в иное поле не только для всех субъектов политики российского/советского общества.
Список литературы Реквизиция как политический механизм в России в 1914-1921 гг
- Алексеев Т.В. Реквизиционная деятельность Особого Совещания по обороне государства в годы Первой мировой войны // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 11-1. С. 81-84.
- Алешкин П. Трагичный финал политики военного коммунизма в Советской России // Власть. 2007. № 8. С. 92-97.
- Асташов А.А. Русская армия и население: реквизиции в 1915 г. и социальные последствия // Первая мировая война. Взгляд спустя столетие: материалы ежегодной междунар. науч.-практ. конф. М., 2016. Т. 2. С. 298-309.
- Белинская М.П. Реквизиция как способ обеспечения казенных нужд в годы первой мировой войны (по материалам центрального архива Нижегородской области) // Философия права. 2018. № 3. С. 148-151.
- Оськин М.В. Продовольственная политика Министерства земледелия в период Первой мировой войны (июль 1914 - февраль 1917 г.) // Общество и власть в императорской России, СССР и современной Российской Федерации: материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти Э.М. Щагина / под общ. науч. ред. А.Б. Ананченко. М., 2018. С. 71-82.
- Соловьева Е.А., Кобзева Т.А. Возмещение убытков беженцам в годы Первой мировой войны // Власть. 2017. Т. 25, № 5. С. 204-209.
- Spinosa Ch., Flores F., Dreyfus H. Disclosing new worlds: Entrepreneurship, Democratic action, and the cultivation of solidarity. Massachusetts, 1997. 222 p.