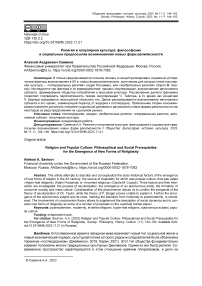Религия и популярная культура: философские и социальные предпосылки возникновения новых форм религиозности
Автор: Савинов А.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка описать и концептуализировать социально-исторические факторы возникновения в XX в. новых форм религиозности, источником для которых стала популярная культура, - «гиперреальных религий» (Адам Поссамаи), или «изобретенных религий» (Кэрол М. Кьюсак). Исследуются три фактора и их взаимодействие: процесс секуляризации, возникновение автономного субъекта, формирование общества потребления и массовой культуры. Рассмотрение данного феномена позволяет подтвердить перспективность теории секуляризации Ч. Тейлора, в то время как концепция П. Бергера оказывается неспособной объяснить его. Далее рассматривается возникновение автономного субъекта и его кризис, знаменующий переход от модерна к постмодерну. Привлечение теории консьюмеризма позволяет дополнить описание социальной динамики и рассмотреть новые формы религиозности как некоторые из ряда предложений на «духовном рынке».
Постмодернизм, модерн, изобретенные религии, гиперреальные религии, автономный субъект, популярная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/149144715
IDR: 149144715 | УДК: 130.2:2 | DOI: 10.24158/fik.2023.11.21
Текст научной статьи Религия и популярная культура: философские и социальные предпосылки возникновения новых форм религиозности
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Moscow, Russia, ,
только в том, что западный человек узнал о существовании иных религий (главным образом – восточных) и воспринял их как равные альтернативы христианству (хотя и это тоже). Важным фактором, обусловившим трансформации религиозных практик, стал формирующийся и зарождающийся феномен массовой культуры. В XX в. общественное пространство начало и продолжает пополняться новыми, так называемыми «изобретенными» (Cusack, 2010), или «гиперреальными» религиями (Possamai, 2005), одной из особенностей которых является их связь с популярной культурой: «На Западе новые религии являются местом крупных инноваций в духовных верованиях и практиках, и, кроме того, они переплетены с популярными культурными формами…» (Possamai, 2005: 5).
В нашем исследовании мы сфокусируемся на философско-социальных причинах возникновения новых форм религиозности и их типологических характеристиках. Поскольку нас будут интересовать те из них, которые возникли на базе продуктов популярной культуры, это неизбежно влечет за собой постановку вопроса о консьюмеризме. Два важнейших для нас автора – Адам Поссамаи и Кэрол М. Кьюсак – рассматривают популярную культуру как, возможно, важнейший (по крайней мере, самый глобальный) источник самоопределения современного человека, в частности, духовного (религиозного) самоопределения. А. Поссамаи определяет гиперреальные религии как «симулякр религии, созданный на основе или в симбиозе с коммодифицированной популярной культурой, которая служит источником вдохновения на метафорическом уровне и/или источником верований в повседневной жизни»1. Схожим образом это делает и К. Кьюсак: «Изобретенные религии – это упражнения воображения, которые развивались в творческом (хотя иногда и оппозиционном) партнерстве с влиятельными популярными культурными нарративами современного Запада, особенно с кино и научной фантастикой» (Cusack, 2010: 7).
До них на связь новых форм духовности и популярной культуры обратил внимание американский теолог Джон Капуто. Правда, ученый не довел свою мысль до логического завершения. Для него новая религиозность связана в первую очередь с нарративом. Когда Дж. Капуто заявляет, что «фильмы, подобные “Звездным войнам”, становятся своего рода религией» (Капуто, 2014: 132), он говорит лишь «о старых советах в новой обертке», о воспроизводстве классических мифологических, этических и религиозных образов и древнего христианского нарратива о невозможном в стиле хай-тек, об изменениях в способах мысли «религиозной трансцендентности» или пересмотре структуры религиозных традиций (Капуто, 2014: 132–133). Всё это он называет ремифологизацией. Таким образом, под религией Дж. Капуто подразумевает «разговор о невозможном», способы мыслить, нежели какой-то праксис или оформленное движение. Его дальнейший анализ «Звездных войн» лишь подтверждает это: он эксплицирует образы и смыслы, но не рассматривает то, как космическая сага вдохновляет социальных акторов на определенные типы поведения. Иными словами, этот анализ движется, скорее, в русле культурологических работ А.К. Козловича (Ko-zlovic, 2003). И все же Дж. Капуто нащупал социологический потенциал таких повествований: что такое «старые советы», как не образцы поведения, усвояемые современными людьми и направляющие их в постмодернистском мире?
С самого своего появления массовая культура выполняла навигационную и терапевтическую функции, давала ориентиры в быстро и кардинально меняющемся мире (Дмитриева, 2015: 61–65; Теплиц, 2000: 142–147). То, что она способна быть источником религиозного/духовного вдохновения, лишь обнажает это её качество, позволяя выйти за пределы представлений о ней как о чем-то низком, неважном, пустяковом, как о капиталистическом эрзаце высокой культуры, средстве эскапизма или технологии контроля: «Популярная культура может быть всем этим, но она также является средством для самоопределения социальных субъектов и, более конкретно для этой книги, духовного самоопределения. <…> Это также платформа для нашей собственной биографии. Мы переживаем это и с этим смиряемся. Мы создаем свою жизнь и рассматриваем себя через популярную культуру. <…> Популярная культура может забавлять, развлекать, наставлять и расслаблять людей, но она также является источником вдохновения для религии» (Possamai, 2005: 19–20).
Как это стало возможным? Оба автора, А. Поссамаи и К. Кьюсак, указывают в качестве причин кардинального изменения религиозного ландшафта на появление социального выбора, что не является априорным для собственной идентичности. Сегодня люди больше не являются социальным отражением и органическим продолжением своих родителей, от которых они наследуют религию, класс, политические взгляды, вкусы и т. д. К. Кьюсак называет возникшее пространство социальных возможностей самоопределения «духовным рынком современного общества» («spiritual market place of contemporary society»), а А. Поссамаи – «библиотекой выборов» («library of choices») или «рынком знания» («the market of knowledge»). Если та или иная религия/духовность – лишь одно из возможных предложений на глобальном рынке, если её можно описать таким образом, то и верующего (социального актора) можно определить в соответствующих категориях, то есть как потребителя. В обеих формулировках очевидна связь социальной ситуации в сфере «духовности» с капитализмом, рынком и консьюмеризмом. А. Поссамаи использует даже составное понятие «ве-рующий/потребитель». В качестве основных характеристик самой социальной ситуации, приведшей к возникновению новых форм религиозности/духовности, оба ученых называют секуляризацию, индивидуализм (автономию) и возникновение культуры потребления.
Секуляризация, индивидуализм, консьюмеризм . Ранние теории секуляризации строились на ожидании и предсказании того, что религия придет в упадок и в конечном счете просто исчезнет. Питер Бергер определял её «как процесс, посредством которого различные сферы общества и культуры освобождаются от доминирования религиозных институтов и символов» (Berger, 1969: 107). Эта формулировка секуляризации основывалась на просвещенческом идеале разума и прогресса. Предполагалось, что, когда разум восторжествует, будет накоплена критическая масса знаний, а граждане начнут жить в достатке, и необходимость в религиозном утешении отпадет сама собой. Из всех просвещенческих чаяний дольше всего держалось именно это, которое касалось смерти религии. Однако к концу XX в. стало очевидным, что последняя в западной мире не только не умирает, но и в некотором смысле процветает (хотя и не в традиционных формах). Концепцию секуляризации пришлось переосмыслить. В результате выявились два фактора.
Во-первых, как замечает К. Кьюсак, «бергеровское определение было частично верным» (Cusack, 2010: 9), и именно в том, что касается потери религиозными институтами авторитета и влияния, а также отхода людей от доминирующей религиозной традиции, каковой для западного мира было христианство. Отныне люди проживают свои жизни без какого-либо участия религиозных институтов. Особенно показательным представляется тот факт, что большинство индивидов продолжали (и продолжают по сей день) аффилировать себя с официальными институтами или доминирующей традицией (правда, обычно – в официальных контекстах, таких как перепись населения или опросы), при этом заявленная принадлежность, как было выяснено, не претворялась в активное посещение храмов или участие в религиозных практиках. Исследователи стали говорить о таких людях, как о «верующих без принадлежности» («believing without belonging») (Davie, 1994) или как о «духовных, но не религиозных» («spiritual but not religious»). Подобное самопозиционирование стало возможным вследствие принципиального разделения структур: религиозности, конфессиональности, воцерковленности – с одной стороны, а духовности и веры – с другой. Более того, выяснилось, что и те, кто регулярно посещает богослужения, позиционируя себя как члена той или иной религиозной институции, в действительности не разделяют ее учения, попросту говоря, не считают себя верующими. Нередко принадлежность к официальной религиозной организации совмещается с участием и в иных религиозных практиках.
Во-вторых, обнаружилось, что в послевоенный период возник рост новых религиозных/ду-ховных течений. С одной стороны, в западное общество стали проникать нетрадиционные для него религии, в особенности восточные1. С другой – один за другим стали образовываться совершенно новые учения и объединения (дискордианизм, саентология и др.). Правда, еще в 1960-х гг. исследовательский дискурс не вполне серьезно относился к таким «изобретенным религиям», они рассматривались как анахронистические и девиантные в свете доминирующих представлений о секуляризации и с точки зрения нормативной (то есть христианской) религиозности. К концу XX в. отношение к ним изменилось по причине успеха многих из них и постоянного пополнения альтернативного религиозного сегмента. И когда данная тенденция была воспринята всерьез, то стала очевидной ошибочность второй части бергеровской формулировки секуляризации, а именно той, которая касалась элиминации религиозных символов. На деле произошло прямо противоположное: последние не только никуда не исчезли, но и пополнились (и продолжают пополняться) новыми посредством сакрализации прежде секулярных символов.
Есть еще один важный фактор. Утрата социального значения традиционными религиозными институтами, направлявшими в прежние времена мышление и поведение людей, привела к «приватизации религии», то есть к вытеснению ее из сферы публичного в сферу приватного. Томас Лукман, одним из первых попытавшийся описать положение религии в секулярном мире, предложил концепт «невидимой религии» (Luckmann, 1967). Иными словами, сегодня религия, оставив общественное пространство, обрела статус «частного дела».
В 2007 г. Чарльз Тейлор в фундаментальном труде «Секулярный век» сформулировал свою концепцию секуляризации, а вместе с ней он дал и объяснение того, как и прочему произошли общественные изменения. В противоположность бергеровской формулировке, исследователь подчеркивал, что утрата господствующего положения церкви в политической и социальных сферах вполне совместима с большим процентом людей, которые продолжают практиковать ту или иную веру в частной сфере. Ч. Тейлор предлагает выделять три понимания концепции секуляризации. Секуляризация-1 интерпретирует соответствующие процессы и социальную ситуацию в западном мире (или, как более точно указывает сам ученый, в Североатлантическом мире) в терминах публичных пространств, официальных предписаний и с точки зрения ритуального или церемониального присутствия. В этой перспективе публичные пространства в современном мире стали секулярными, то есть освободились (обособились и автономизировались) от всякой транс-ценденции в качестве своего основания: «те принципы и нормы, которым мы следуем, те решения, которые мы принимаем, когда действуем в разных областях – экономической, политической, культурной, образовательной, рекреационной – как правило, не имеют отношения к Богу или к каким либо религиозным верованиям; соображения, которыми мы руководствуемся в своих поступках, определяются собственной, внутренней “рациональностью” каждой из этих сфер деятельности» (Тейлор, 2017: 3). Теория секуляризации П. Бергера относится именно к этому типу. В рамках другого подхода, именуемого Ч. Тейлором секуляризацией-2, данный феномен понимается как упадок религиозных верований и соответствующих им практик. И, наконец, секуляризация-3, собственно тейлоровская позиция, помещает в фокус исследования то, какое положение вера занимает в современном обществе, то, как изменились сами условия веры, духовных опыта и поиска: «движение к секулярности представляет собой, среди прочего, переход от общества, где вера в Бога была чем-то само собой разумеющимся и не подвергалась по сути ни малейшим сомнениям, к такому обществу, где веру рассматривают как один из возможных, наряду с другими, вариантов выбора, причем очень часто такой выбор оказывается не самым легким» (Тейлор, 2017: 4), возникают альтернативы. Является общество секулярным или нет, зависит от общих условий духовного опыта и поиска. Этот третий аспект в понимании секуляризации основывается как раз на том представлении, что вера отныне – это личный выбор, нечто, в чем индивид может участвовать, а может и отказаться.
Ключевым событием в процессе секуляризации и, соответственно, возникновения религиозного плюрализма было изобретение (под изобретением мы понимаем трансформацию в понятиях самоопределения) автономного субъекта, то есть формирование представления о личности, способной спонтанно желать и самостоятельно выбирать себе цели и ценности. Этот сдвиг Ч. Тейлор описывает с помощью противопоставления двух концепций «Я»: «пористого» и «изолированного» («buffered»). Современный человек находится в «буфере» там, где средневековый человек был «пористым», пребывал во взаимопроникающих отношениях с высшими силами, другими людьми и природой: «Для модерного, изолированного “я” существует возможность дистанцироваться, отстраниться от всего, пребывающего вне сознания. Мои конечные, высшие цели возникают внутри, “из” меня самого, а важнейшие значения вещей определяются моей собственной реакцией на вещи» (Тейлор, 2017: 49). Идеология индивидуализма строилась на принципе автономии, который резко порывал с прежним пониманием человеком самого себя как части сообщества. Это означало многое, но главным образом – возникновение «кастомизируемой» идентичности. Большая часть социальных и личных параметров, раннее безоговорочно наследуемых индивидом, теперь могла быть изменена: «Время, когда мы были социальным отражением наших родителей, прошло. Их религия, этническая принадлежность, класс, политическая принадлежность, вкусы и отвращения больше не передаются так легко от одного поколения к другому. Даже если есть исключения, тенденция сегодняшнего дня заключается в создании собственной биографии/идентичности. Люди в наш век постмодерна выбирают то, что подходит им для их идентичности в определенное время и в определенном месте»1.
Изобретение автономного субъекта, как правило, связывают с именем Р. Декарта (конечно, нужно понимать, что это лишь эмблематическое связывание: имя Декарта и эпитет «картезианский» указывают лишь на финальную концептуализацию и апофеоз тех процессов, которые начались намного раньше). Следствия такого сдвига в языке самоописания были всеобъемлющими. Субъект занял исключительно эксцентрическое место по отношению к миру, отныне он строго противопоставлен материальному универсуму объектов, среди которых – его собственное тело. Отсюда и центральное качество – автономность, эпистемологическим следствием которой становится утверждение себя в качестве активного производителя знания, что было немыслимо для средневековой традиции, где знание можно было получить только через божественное откровение, и, конечно, оно рассматривалось как независимое от желаний и потребностей самого человека: «В прямой связи с этим новым самоназначением человека должна была появиться и новая деятельная среда (то есть представление о людях, желающих и способных изменять, преобразовывать мир). <…> В итоге субъект, полагающий себя способным производить знание, неизбежно начинает также чувствовать, что может и скрывать его, манипулировать им. В этом смысле весьма характерно, что средневековая культура признавала только резкое различиt истины и лжи; она так и не выработала понятий, соответствующих нашему “вымыслу” или “притворству”» (Гумбрехт, 2006: 39). Картезианский субъект трансформировал не только эпистемологическое поле, но и практические дискурсы, породив новый тип этики и либеральную политическую теорию (от И. Канта до Дж. Роулза). Концепция того, что мы – свободно выбирающие, независимые личности, должна была защитить человеческую свободу, спасти индивида от гнета навязываемых ему ценностей и образов жизни (предзаданных концепций блага). «Нравственная личность – это субъект, избравший себе цели», потому что «личность (self) предшествует целям, которые она утверждает; любая, даже доминирующая цель должна быть выбрана из многих возможностей» (Rawls, 1971: 560–561). Но именно представление о «я» как о свободно выбирающем уже в рамках социальной ситуации второй половины XX в. превратит этого субъекта в потребителя, в том числе в сфере религии/духовности. Хотя большинство доступных вариантов (от технических устройств, служащих экономии человеческого труда, до нетрадиционных верований), между которыми человек мог выбирать, не существовали до первой половины XX в., история консьюмеризма, равно как и массовой культуры, началась значительно раньше.
Колин Кэмпбелл (Campbell, 2005) видит корни консьюмеризма в романтической традиции конца XVIII – начале XIX вв.1, и, что важно, именно автономный субъект сыграл здесь решающую роль. Как знания и собственные цели, так и эмоции содержатся внутри «я» и производятся «из» него самого. Это принципиальным образом меняет статус переживаний и свидетельствует о «расколдовывании мира». К этому К. Кэмпбелл добавляет роль воображения, направленного на гедонистические фантазии и грезы об альтернативных образах жизни. Как мы видели, изобретение автономного субъекта, активно производящего знание, и, как следствие, манипулирующего им, сделало возможным категорию вымысла. Воображение как способность автономного разума обусловила рост популярности новоевропейского романа. Через чтение люди могли предаваться мечтаниям о других образах жизни, представлять себя иными личностями. Прежде в культуре чтения центральное место занимала Библия и иные религиозные тексты (проповеди, жития и др.), теперь же и в этой сфере появляется значимая альтернатива. Чтение – важнейшая практика конструирования собственной идентичности.
К. Кэмпбелл приходит к выводу, что современная жизнь характеризуется «стремлением испытать наяву те удовольствия, которые создаются и которыми наслаждаются в воображении, стремлением, которое приводит к непрерывному потреблению новизны» (Campbell, 2005: 205). Новизна – важный аспект не только романа, но и парадигмы модерна в целом. Его культурной логикой с самого начала была ориентация на непрерывное обновление, которое реализуется посредством разрыва Нового времени с прошлым, поэтому «в каждом моменте современности, порождающей новое из себя самой, повторяется и приобретает характер непрерывности процесс зарождения новой эпохи заново, так происходит снова и снова»2. Несложно заметить, что культурная динамика здесь полностью совпадает с самоопределением человека в качестве свободной и независимой личности. Подобная установка порождала ощущение эфемерности и фрагментации: «модерн не только содержит безжалостный разрыв с любыми или вообще всеми предшествующими историческими состояниями, но и сам характеризуется бесконечным процессом внутренних разрывов и фрагментаций внутри себя» (Харви, 2021: 59). А оно в свою очередь приводило к ощущению беспочвенности, исчезновению старых надежных и понятных оснований и принципов жизни: «преходящий характер вещей затрудняет сохранение любого ощущения исторической преемственности» (Харви, 2021: 58), соответственно, потребности необходимо искать новые.
Но вернемся к роману и его консьюмеристской природе. Для него характерна особая повествовательная структура, она «направляет интерес читателя прежде всего на непредсказуемость того, что произойдет, то есть на новизну сюжета, которая выдвигается на первый план <…> в каждом из этих случаев мы имеем дело с таким coup de théâtre, в котором именно непредсказуемость является важнейшей составной частью и обретает эстетическую ценность. Непредсказуемость тем важнее, чем более популярным задумывается роман» (Эко, 2005: 180–181). И именно «этот психологический паттерн, проявляющийся в поведении, явно лежит в основе моды, но он может быть распространен на потребление других культур (посредством туризма) или религий и духовности в качестве продуктов (посредством поиска)» (Cusack, 2010: 12). В конечном счете это приведет к кризису модерна и переходу к постмодерну. Смерть уникального стиля и замена его практикой пастиша в постмодернизме сопровождается исчезновением иерархии вкусов, стиранием границ между высокой культурой и низкой, популярной (Джеймисон, 2014: 289), что означает полную легитимацию последней.
Подведем итоги. Секуляризацию следует понимать не столько как процесс, ведущий к смерти религии, сколько как преобразование социальных условий, ключевым следствием которого стало то, что в XX в. «сакральное» отделилось от институциональной религии, так что теперь сама она является «только одним из возможных – хотя и очень важным – источником <…> священного» (Demerath III, 2000: 4).
Ив Ламберт утверждал, что взаимодействие современности и религии создало четыре возможных для религий сценария, среди которых: «упадок, адаптация или переосмысление, консервация и инновация» (Lambert, 1999: 311). Те из них, которые оказались включены в процесс переосмысления и инноваций, тяготеют к определенным характеристикам, включая мирскость (worldliness), самодуховность (self-spirituality), имманентную божественность (immanent divinity), деиерархизацию (dehierarchization), паранаучные или основанные на научной фантастике верования (убеждения), утрату организационной структуры (свободная организационная структура) и плюрализм, релятивизм, вероятность и прагматизм (Lambert, 1999: 323). Это означает, что те, кто практикует новые и альтернативные религии, делают это совершенно иначе, чем те, кто находится в русле традиционных и институализированных религий. Описанные процессы и сдвиги позволяют понять спектр практик, опыта и совершенно нетрадиционных источников религиозности, на которые современные люди опираются в рамках своего духовного поиска. Одним из них служит популярная культура (научная фантастика, комиксы, киносупергерои, рок-звезды и др.). Люди больше не довольствуются теми смыслами и ответами, которые предоставляет им официальная религия. Духовное смещается в сферу индивидуального. Этот фундаментальный сдвиг легитимировал самостоятельные поиски религиозного и духовного, поиски собственных ответов и смыслов, для себя, того, что работает для них, соответствует их образу и видению, ощущению жизни. Такой поиск сегодня протекает через потребительство, в частности, популярной культуры. «Как часть этой библиотеки выбора, популярная культура находится на полке вместе с классом, религией, сексуальностью, другими значимыми возможностями… В этом процессе популярная культура среди многих других социокультурных факторов влияет на формирование “я”, включая религиозное» (Possamai, 2005: 21).
Ключевой характеристикой таких форм религиозности является то, что в них критерий истинности отходит на второй план: члены таких структур чаще задают вопрос «Это работает?», чем «Это истинно?». Более того, их представления о том, что работает, подвижны и прагматичны. Они будут двигаться дальше, к другой практике или учению, если текущие исчерпают себя или станут нерелевантными их жизненной ситуации.
Список литературы Религия и популярная культура: философские и социальные предпосылки возникновения новых форм религиозности
- Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: чего не может передать значение. М., 2006. 184 с.
- Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры. М.; Екатеринбург, 2014. 414 с.
- Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М., 2019. 808 с.
- Дмитриева Д. Век супергероев: истоки, история, идеология американского комикса. М., 2015. 320 с.
- Жирар Р. Ложь романтизма и правда романа. М., 2019. 352 с.
- Капуто Дж. Религия «Звездных войн» // Логос. 2014. № 5 (101). С. 131-140.
- Тейлор Ч. Секулярный век. М., 2017. xiv + 967 с.
- Теплиц К.Т. Всё для всех. Массовая культура и современный человек // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2000. № 1 (11). С. 136-180.
- Харви Д. Состояние постмодерна: исследование истоков культурных изменений. М., 2021. 576 с.
- Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб., 2005. 502 с.
- Berger P. The Social Reality of Religion. L., 1969. 231 р.
- Campbell C. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. N. Y., 2005. 312 р.
- Cusack C.M. Invented Religions: Imagination, Fiction and Faith. Aldershot; Burlington, 2010. 186 p.
- Davie G. Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging. Oxford, 1994. xiii, 226 p.
- Demerath III N.J. The Varieties of Sacred Experience: Finding the Sacred in a Secular Grove // Journal for the Scientific Study of Religion. 2000. Vol. 39, iss. 1. P. 1-11. https://doi.org/10.1111/0021-8294.00001.
- Kozlovic A.K. Sacred Subtexts and Popular Film: A Brief Survey of Four Categories of Hid-den Religious Figurations // Journal of Contemporary Religion. 2003. Vol. 18, iss. 3. P. 317-334. https://doi.org/10.1080/13537900310001601686.
- Lambert Y. Religion in Modernity as a New Axial Age: Secularization or New Religious Forms? // Sociology of Religion. 1999. Vol. 60, iss. 3. P. 303-333. https://doi.org/10.2307/3711939.
- Luckmann T. The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society. N. Y., 1967. 128 р.
- Possamai A. Religion and Popular Culture: A Hyper-Real Testament. N. Y., 2005. 182 р. https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6259-9.
- Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, 1971. xv, 607 p. https://doi.org/10.4159/9780674042605.