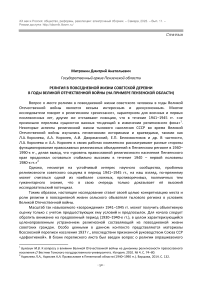РЕЛИГИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Автор: Митронин Дмитрий Анатольевич
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 11, 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются различные стороны религиозной жизни населения пензенской деревни в годы Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная война, советский тыл, советское крестьянство, религиозность, Русская православная церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/140300797
IDR: 140300797 | DOI: 10.34830/SOUNB.2023.36.46.001
Текст научной статьи РЕЛИГИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Вопрос о месте религии в повседневной жизни советского человека в годы Великой Отечественной войны является весьма интересным и дискуссионным. Многие исследователи говорят о религиозном «ренессансе», характерном для военных и первых послевоенных лет, другие же отстаивают позицию, что в течение 1941–1945 гг. «не произошло перелома сущностно важных тенденций в изменении религиозного фона»1. Некоторые аспекты религиозной жизни тылового населения СССР во время Великой Отечественной войны изучались пензенскими историками и краеведами, такими как Л.А. Королева, А.А. Королев, А.И. Дворжанский, Е.П. Белохвостиков и др. В частности, Л.А. Королева и А.А. Королев в своих работах комплексно рассматривают разные стороны функционирования православных религиозных объединений в Пензенском регионе в 1940– 1990-х гг., делая вывод, что «уровень православной религиозности населения Пензенского края продолжал оставаться стабильно высоким в течение 1940 – первой половины 1980-х гг.»2
Однако, несмотря на устойчивый интерес научного сообщества, проблема религиозности советского социума в период 1941–1945 гг., на наш взгляд, по-прежнему может считаться одной из наиболее сложных, противоречивых, полемичных тем гуманитарного знания, что в свою очередь только доказывает её высокий исследовательский потенциал.
Таким образом, настоящее исследование ставит своей целью конкретизацию места и роли религии в повседневной жизни сельского обывателя тылового региона в условиях Великой Отечественной войны.
Масштаб так называемого «возрождения» 1941–1945 гг. может получить объективную оценку только с учетом предшествующих ему условий и предпосылок. Для начала следует обратить внимание на предвоенный период (1930–1940-е гг.), в целом характеризующийся целенаправленным устранением религиозной составляющей из повседневной жизни советских граждан. Особо ценными в данном контексте представляются материалы Всесоюзной переписи населения 1937 г., впоследствии признанной руководством Союза ССР «дефективной». В бланк переписного листа был введен вопрос о религии опрашиваемого
Статьи
лица3. Результаты переписи показывают, что ни о каком «всеобщем атеизме» не могло быть и речи, так как больше половины опрошенных (на вопрос отвечали все граждане, начиная с 16 лет) назвались верующими. Из 98,4 млн лиц обоего пола верующие составляли 55,3 млн (56%), неверующие – 42,2 (43%)4. Интересно, что наибольший процент верующих фиксировался в возрастных интервалах 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше, составляя 77, 88% и 95% соответственно. При этом во всех возрастных категориях верующие женщины преобладали над верующими мужчинами5. Естественно, подобным цифрам не следует доверять безоговорочно. Позволим себе допустить, что современники масштабных гонений на церковь не могли быть абсолютно искренними относительно вопроса, касающегося их религиозных убеждений. Как следствие – утаивание своего настоящего отношения к религии. Но в этой связи можно привести факты, иллюстрирующие «наклон» статистики в противоположную сторону. Например, в Чечерском районе Белорусской ССР среди населения распространялся слух, что при переписи следует записываться в число верующих, поскольку, когда придут японцы или поляки, «неверующих перебьют»6. Но факт остается фактом: миллионы советских граждан продолжали связывать себя с религией. И это несмотря на все усилия по ликвидации «опиума для народа».
Какие изменения в религиозной жизни советского человека повлекла за собой Великая Отечественная война и можно ли сопоставлять данный исторический отрезок с религиозным «ренессансом», сопровождавшимся широким подъёмом религиозности населения? Скажем сразу, что Всесоюзные переписи населения 1939 и 1959 гг. не включали пункт о вероисповедании населения, что, без сомнения, затрудняет изучение динамики религиозности советских граждан в контексте Второй мировой войны. Более того, в годы Великой Отечественной войны и первого послевоенного десятилетия вопрос об изучении религиозности на повестке не стоял7. Тем не менее архивный материал позволяет нам выделить ряд особенностей и тенденций, отличающих религиозную жизнь советского общества в этот сложнейший период её истории.
Прежде подчеркнем, что, говоря о религиозности, нужно понимать многогранность и сложность этого явления, не ограничивающегося одной лишь «классической» конфессиональной традицией. Как отмечает Е.С. Сенявская, «любая религия – общественный институт, тогда как религиозность – это находящийся с ней в сложной взаимосвязи элемент массового и индивидуального сознания, включая социальную психологию». По мнению исследователя, «даже в обществах с глубоко укорененной конфессиональной традицией бытовая религиозность часто не ограничивается ее рамками»8. Перед нами же в самом начале 40-х гг. XX в. предстает не просто секулярное общество, а общество с повсеместным государственным атеизмом, стремящееся к тотальному искоренению всех форм массового
Статьи
Возвращаясь к тем 56% верующих в 1937 г., мы не имеем возможности однозначно ответить на вопросы: во что именно «верили» эти люди, какое место занимала религия в их структуре ценностей, насколько высок был процент «воцерковленных», «невоцерковленных», «колеблющихся»?
Известно, что в периоды острых социальных катаклизмов, к которым относятся и военные конфликты, общественное и индивидуальное сознание особенно подвержено воздействию иррационального компонента. Когда человек в психологическом плане погружается в так называемую «пограничную ситуацию», то есть ситуацию, которая, во-первых, крайне опасна для его жизни, а во-вторых, «почти не зависит от его воли и разума», он, пытаясь найти психологическую опору, всё больше стремится «управлять внешними обстоятельствами через иррациональные действия»11.
Накануне Великой Отечественной войны в СССР проживали миллионы верующих, которые, несмотря на антицерковные гонения, продолжали в той или иной мере вести религиозную жизнь. К примеру, во время праздника Ураза-байрам в ноябре 1940 г. среди татарского населения Беднодемьяновского, Головинщинского, Городищенского, Кузнецкого, Чембарского и других районов Пензенской области «наблюдалась активизация деятельности религиозников, в результате чего действующие мечети в эти дни были переполнены», а в некоторых пунктах «молебствия» проходили на площадках около закрытых мечетей и в частных домах. Интересно, что в отдельных случаях в празднованиях принимало активное участие руководство сельских советов и колхозов12.
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению отрезка 1941–1945 гг. Есть основания полагать, что ещё до знаковой встречи Иосифа Сталина с иерархами РПЦ в сентябре 1943 г., ознаменовавшей поворот в отношениях государства и церкви в сторону либерализации, «потепления», имел место определенный рост интенсивности проявления религиозности населением. В официальных документах Пензенского обкома ВКП (б) за 1943 г. читаем: «За последнее время идет большое движение верующих за открытие
Статьи
церквей. <...> Всякие кликуши организуют молебные дома, где группируют по 20–30 человек; такие группы насчитываются почти в 20 районах»13. Сообщалось, что в мае 1943 г. некий «бродячий епископ» Филарет «установил связь с активными церковниками» Пензенской области и, собрав более 1 тыс. подписей, «возбудил ходатайство» об открытии церкви в г. Пензе14. Аналогичные случаи фиксировались весной – летом 1943 г. в Кузнецком, Мокшанском, Поимском, Сердобском, Шемышейском и других районах Пензенской области15. Слухи об открытии церквей и мечетей побуждали рядовых колхозников на собраниях, лекциях и беседах с агитаторами задавать следующие вопросы: почему разрешают открывать церкви? скоро ли откроют у нас? в некоторых местах открыты мечети, почему у нас не открывают?16
Поздним вечером 4 сентября 1943 г. состоялась знаковая встреча И.В. Сталина с руководством Московской патриархии – митрополитами Сергием, являвшимся на тот момент Патриаршим Местоблюстителем, Алексием и Николаем, церковные иерархи добиваются от «вождя народов» реализации целого ряда просьб и предложений, способных «встряхнуть» религиозную жизнь в центре и на периферии. 14 сентября 1943 г. создаётся Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР, призванный стать посредником между государством и религиозной организацией. 28 ноября Совнарком принимает постановление «О порядке открытия церквей»17. Всё вышесказанное свидетельствует в пользу того, что руководство Союза ССР официально отступает от политики жестких репрессий по отношению к церкви, делая шаг в сторону терпимости и сосуществования. С этого момента у верующих появляется возможность ходатайствовать об открытии культовых сооружений, чем они, конечно, пользуются. По данным исследователей, за период с 1944 по 1947 г. фиксируется положительная динамика подачи ходатайств в компетентные инстанции об открытии церквей и молитвенных домов. В 1944 г. было подано 55 заявлений, в 1945 г. – 168, в 1946 г. – 192, в 1947 – 6718. Правда, не всегда поданные ходатайства имели в действительности широкую поддержку местного населения, по крайней мере, формально. Так, в 1946 г. уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР по Пензенской области Н.И. Лысманкин в информационном отчете констатирует, что инициаторами ходатайств об открытии церквей в ряде населённых пунктов «продолжают оставаться» материально заинтересованные лица, которые «в прошлом стояли близко к церковному ящику», а именно: бывшие священники, церковные старосты, просфорники, певчие и др. В этом же источнике описывается случай, когда при проверке ходатайства о постройке церкви «обновленческой ориентации» в с.
Статьи
Золотаревке Терновского района лица, «подписавшие» заявление, оказались от своих подписей, поскольку в заявлении они лишь подтверждали, что являются верующими, согласия же на постройку церкви или покупку молитвенного дома никто из них не давал. Один гражданин даже заявил, что «подписывался "шутя"», участвовать в постройке не желает и средств на это не имеет. Выявлялись также случаи, когда ходатайство подавалось и вовсе без ведома людей, якобы его «подписавших»19. Как видно из приведенных примеров, запрос населения на возрождение культовых сооружений всё-таки присутствовал, причем на всём протяжении Великой Отечественной войны, однако говорить о каком-то «буме», похоже, не приходится, к тому же инициатива нередко исходила от лиц, прежде тесно связанных с культом.
Нельзя умолчать, что среди трудящихся Пензенской области были и те, кого интересовали вопросы, содержащие антирелигиозный подтекст: как допустили, что церковь тоже собирает на эскадрильи?20 почему правительство допускает открытие церквей, когда до войны религию считали дурманом?21 почему десять лет тому назад партия вела активную борьбу против религии, а теперь поддерживает?22 Часть исследователей, опираясь на социологические изыскания 60–70-х гг. XX в., полагает, что некоторые материалы «противоречат утверждению об однозначной направленности этого процесса (т. е. процесса религиозной эволюции общества. – Д.М. ) только в сторону его увеличения» в годы Великой Отечественной войны. Утверждается, что среди жителей г. Пензы «стали неверующими во время войны более 2% обследованных, а верующими только 1%»23.
Стоит отметить, что зачастую верующие совсем не нуждались в санкции государства на совершение религиозных обрядов. Скажем, в мае 1943 г. в с. Огарёвке Даниловского района группа женщин из 13–15 человек устроила вокруг села ночное шествие с иконами и религиозными песнями, «молясь о дожде и урожае»24. В Шемышейском районе 13 июня 1943 г. (праздник Троицы. – Д.М. ) у источника «Семь ключей», расположенного в окрестностях села Дубровки, собралось около 800 верующих из сёл Даниловского, Лопатинского и Шемышейского районов Пензенской области25.
Местные власти опасались, что подобные несанкционированные собрания могут представлять угрозу для советского строя, и определенные основания для этого можно было найти. Так, во время ночного пасхального «сборища» христиан-баптистов в г. Пензе с 4 на 5 апреля 1942 г. один из лидеров «сектантской группы» проповедовал: «Хлеба у нас очень мало, но и это паек в мае месяце убавят, бог благословил меч немца для истребления всех безбожников»26. Антисоветские высказывания звучали и в среде православных верующих. 7 апреля 1942 г. перед вечерней службой в церкви г. Пензы бывший иподьякон Иван Алексеевич А. заявил, что «Пасху нечем встречать было, всё большевики отняли, они за всё
Статьи
расплатятся. Немец их здорово жмёт». А в с. Николо-Азясь Мокшанского района собрание верующих, по словам властей, было использовано «антисоветским элементом». Сообщалось, что 30 мая 1943 г. группа «церковников» из 30 человек после «моления» организовала религиозное шествие по селу, собрав впоследствии толпу свыше 100 человек. В ходе шествия одна женщина, названная в докладе «кликушей», в «припадке религиозного экстаза начала производить антисоветские выкрики, направленные против колхозов»27.
Здесь нужно оговориться, что позиция отдельных верующих не всегда совпадала с официальной позицией Русской православной церкви и других конфессий. Разумеется, лидеры крупных церковно-конфессиональных структур и многие верующие заняли глубоко патриотическую позицию относительно борьбы советского народа с гитлеровскими оккупантами, помогая государству и Красной армии не только на словах, но и на деле. Однако были верующие, которые относились к такой позиции с осуждением. В частности, резко негативно отреагировала на патриотическое обращение Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия, зачитанное прихожанам Митрофановской церкви г. Пензы на пасхальной неделе 1942 г., «церковница» Горбунова, заявив: «…Плохо, что митрополит Сергий велит нам молиться за врагов – за нашу власть»28. Но в источниках, отмечавших наличие подобных негативных фактов, можно было обнаружить и уточнения, что эти антигосударственные высказывания «никакого влияния на верующих не имели»29.
Свою жизнеспособность в 1940-е гг. продемонстрировала религиозная праздничная культура народов Пензенской области. В религиозные праздники церкви и мечети заполнялись людьми, при отсутствии же культовых сооружений верующие находили альтернативные места для совершения молитв и богослужений, проводя службы в частных домах или на «местах святости»30. Так, в первый день празднования православной Пасхи 1942 г. в Митрофановской церкви г. Пензы на службе присутствовало около 3,5 тыс. человек (правда, на 1,5 тыс. меньше, чем в 1941 г.), по большей части выходцев из прилегающих к Пензе районов области. Тогда же во второй из последних двух действующих церквей Пензенской области, расположенной в г. Кузнецке одноименного района, пасхальную заутреню посетило около 2 тыс. прихожан, «преимущественно верующих стариков и старух близлежащих районов Пензенской и Куйбышевской областей»31. Ещё пример – в Поимском районе 13 июня 1943 г. был сорван районный воскресник по прополке хлеба: «народ не пошел в поле, а праздновал троицу». Упрекая местный райком партии в слабой организации агитационно-массовой работы и «голом администрировании», областной обком заключает, что факт срыва воскресника «лишний раз дает нам убедительное доказательство, что там, где не работаем мы, где мы не ведем массово-политической работы с населением... вместо нас и против нас ведут работу вражеские элементы»32.
Картина была бы неполной без учета возрастно-половых аспектов состояния религиозности. Из результатов упоминавшейся выше Всесоюзной переписи 1937 г. выходит,
Статьи
что среди пожилых людей верующих было больше, чем среди молодёжи, а женщины по аналогичному показателю опережали мужчин33. Вообще, в современной социологической литературе распространено мнение, что, во-первых, пожилые люди больше тяготеют к религии, нежели люди среднего и молодого возраста34, и, во-вторых, что женщины более религиозны, чем мужчины35. Если добавить к этому факт объективного изменения структуры населения СССР в период с 1941 по 1946 г. в сторону увеличения доли лиц женского пола36, можно сделать осторожное, но не лишенное разумного основания предположение, что потенциальный «всплеск» религиозности в 1941–1945 гг. отчасти мог быть обусловлен именного гендерно-возрастным фактором. В качестве наглядности приведём статистические данные, содержащиеся в докладной записке замначальника УНКВД по Пензенской области Синицина на имя секретаря Пензенского обкома ВКП(б) тов. Кабанова «О религиозном празднике пасха» от 13 апреля 1942 г. Так, в документе говорится, что в церкви г. Пензы в первый день службы из 3,5 тыс. прихожан 75% составляли женщины, из них молодежь составляла не больше 25%, мужчин и детей школьного возраста было 20% и 5% соответственно37.
При рассмотрении вопроса о состоянии религиозной жизни невозможно обойти вниманием ряд тенденций или особенностей религиозного сознания, характерных для периода Великой Отечественной войны. Одной из них можно назвать склонность людей к позитивному восприятию околорелигиозных мистификаций (прежде всего на бытовом уровне), напрямую не связанных с какой-либо официальной конфессиональной структурой. Это неудивительно, поскольку, как считают религиоведы, рост мистицизма, наблюдаемый в кризисные моменты развития социума, способствует «сокращению дистанции» между человеком и Богом38. В районах Пензенской области компетентные органы фиксировали случаи появления лиц, определяемых как «юродивые», «прозорливые», «ясновидящие». К примеру, в Мокшанском районе была арестована «некая Колчина, которая в 1931 году спала 9 дней летаргическим сном, а теперь является ясновидящей»39. В объяснительной записке на имя секретаря Пензенского обкома ВКП(б) товарища Морщинина секретарь Мокшанского райкома Потогин сообщал, что «церковница» Колчина в течение нескольких лет активно занималась церковной работой, систематически устраивая в собственной квартире «сборища» и «моления». Приходившим к ней женщинам окрестных сёл Колчина, «объявив себя "святой Богородицей"», поручала «приносить ей продукты, убирать квартиру, обрабатывать участок земли», а во время одного из шествий поставила участников на
Статьи
колени и «заставила» просить прощения40. Сообщалось также, что по селам Белинского и Тамалинского районов «ходит мужчина по имени "Степан", который среди колхозников проводит антисоветскую пораженческую агитацию. <...> Пропагандирует религию, считая себя святым, а колхозников – грешниками, за то, что они работают в колхозе, и предсказывает их гибель»41. В Лунино одноименного района в 1944 г. под арест попала бывшая монахиня Мокшанского Казанского монастыря, в вину которой вкупе с распространением антисоветских «установок» вменялась выдача себя за дочь императора Николая II42. Как видно из вышеуказанных примеров, привлекшие внимание личности могли представлять угрозу для государственного строя, так как, прикрываясь авторитетом религии, распространяли в среде верующих антисоветские идеи и слухи.
Ещё одна тенденция военного времени (особенно начального периода Великой Отечественной войны) – апокалиптическое видение начавшегося противостояния и его исхода, ожидание скорого «конца света». В частности, летом 1941 г. в колхозе «Смычка» Малосердобинского района Пензенской области ходили разговоры «церковников-старушек», «основанные на библейском предсказании» о конце света, о приходе к власти 43 антихриста и т. д.
Налицо ситуация взаимного недоверия межу церковью и верующими, с одной стороны, и государством – с другой. Бесспорно, общий враг в лице германского нацизма позволил сгладить углы, однако копившаяся десятилетиями неприязнь просто не могла быть преодолена в короткие сроки. Несмотря на ослабление государственной антирелигиозной политики, верующим продолжали ставить «палки в колеса», причем на самом разном уровне. Например, в с. Большой Вьяс Большевьясского района Пензенской области председатель местного райисполкома, со слов верующих, не позволил людям молиться в церкви, предложив им найти себе для богослужений дом, поскольку «церковное здание нужно для хозяйственных целей»44. Зачастую заявления об открытии церквей продолжительное время лежали «без движения» в облисполкоме45. По сведениям уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви, из 506 имеющихся в Пензенской области на 1 января 1945 г. церквей действующими являлись только 2, 476 церковных зданий продолжали использоваться для хозяйственных и культурных целей46. На 1 июля того же года количество действующих церквей увеличилось с 2 до 947. По состоянию на первый квартал 1947 г., официально действовало 28 церквей и 2 молитвенных дома, причем в 16 районах Пензенской области действующих церквей не было вообще48.
Статьи
Очевидно, относительно лояльное отношение государства к церкви было временным, укрепление её авторитета не отвечало интересам государственной власти.
Итак, в годы Великой Отечественной войны руководство вынуждено было признать, что политика по «преодолению» религии не привела к ожидаемому построению атеистического общества, в многомиллионной Стране Советов процент верующих всё ещё был достаточно высок. В этой связи с целью консолидации сил государства и общества перед угрозой потери независимости большевистское руководство вынуждено было идти на уступки церковным структурам. Здесь, по нашему мнению, уместно употребить принцип: не можешь победить – возглавь. В июне 1944 г. уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР предлагал Пензенскому облисполкому «ускорить рассмотрение заявлений верующих о возможности и целесообразности открытия церквей, в первую очередь в районах, где установлены факты массовых нелегальных богослужений»49.
Документальные источники свидетельствуют, что в жизни многих людей религия продолжала играть существенную роль, городские и сельские жители продолжали заполнять мечети и церкви в дни праздников, посещали места святости, приглашали в собственные дома служителей культа для совершения богослужений, таинств и треб. И это неудивительно, потому как именно в кризисные периоды развития социума религия наиболее широко реализует одну из основных своих социальных функций – компенсаторную, то есть помогает человеку «преодолеть ограниченность, бессилие»50. Во многом способствовала распространению такой практики либерализация государственной конфессиональной политики, позволившая верующим гражданам получить чуть больше свободы в удовлетворении религиозной потребности.
Отчасти именно либерализацией можно объяснить некоторое «оживление» религиозной жизни в военное время, так как тем людям, кто до войны был вынужден «залечь на дно», позволили на какое-то время вновь поднять голову. Свою роль, похоже, сыграло и изменение возрастно-половой структуры тылового населения. Другой вопрос заключается в том, насколько глубоким и продолжительным был эффект, оказанный Великой Отечественной войной на религиозную жизнь советских граждан. Безусловно, происходившие процессы требуют дальнейшего изучения в сторону определения их масштабов и границ.
Список литературы РЕЛИГИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
- Государственный архив Пензенской области. Ф. П. 148. Оп. 1. Д. 420, 497, 505, 652, 800, 885, 873, 894, 915.
- Государственный архив Пензенской области. Ф. Р. 2391. Оп. 1. Д. 3.
- Российский государственный архив экономики. Ф. 1562. Оп. 33. Д. 2990.
- Багаева К. А. Цырендоржиева Д. Ш. Социальные функции религии и специфика их реализации в условиях современности // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2023. Вып. 1. С. 18–30.
- Булавин М. В. К вопросу о влиянии Великой Отечественной войны на динамику религиозности православного населения // Вестник Томского государственного университета. История. 2010. № 4. С. 74–80.
- Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб./Росстат. М., 2020.
- Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги: сборник документов и материалов / [сост. В. Б. Жиромская, Ю. А. Поляков]. М., 2007.
- Дворжанский А.И. Гонение на Православие в Пензенском крае. Вып. 2: Мокшанский район. Пенза, 2016.
- Ильченко В.Н., Печерин А.В. Духовное образование в советской России: историко-правовой аспект // Педагогическое образование в России. 2015. № 11. С. 259–263.
- Королева Л.А., Королев А.А. Православие в Пензенской области (1940-1990 гг.). Варшава, 2014.
- Кофанова Е.Н., Мчедлова М.М. Религиозность россиян и европейцев // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 4(98). С. 201–230.
- Мчедлова М.М., Кофанова Е.Н. Религиозность в жизни россиян в условиях экономического кризиса // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. Вып. 8. М., 2009. С. 286–302.
- Одинцов М.И., Кочетова А.С. Конфессиональная политика в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 2014.
- Попова О.В. Взаимоотношения церкви и государства в СССР: традиции и опыт // Метаморфозы истории. 2002. № 2. С. 219–245.
- Православные религиозные объединения в СССР 1940–1960 гг. (по материалам Пензенской области) / Л. А. Королева, А. А. Королев, Д. А. Степанова, И. Н. Гарькин // Историческая и социально-образовательная мысль. 2010. № 3(5). С. 85–96.
- Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник документов / Сост.: О. Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М., 2009.
- Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. М., 1999.
- Социология религии в Советском Союзе // Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия»: сайт. URL: https://bigenc.ru/c/sotsiologiia-religii-v-sovetskom-soiuze-6a7877 (дата обращения: 02.04.2023).
- Элбакян Е.С. Динамика социальных функций религии и религиозности в период пандемии // Религиоведение. 2021. № 3. С. 104–117.